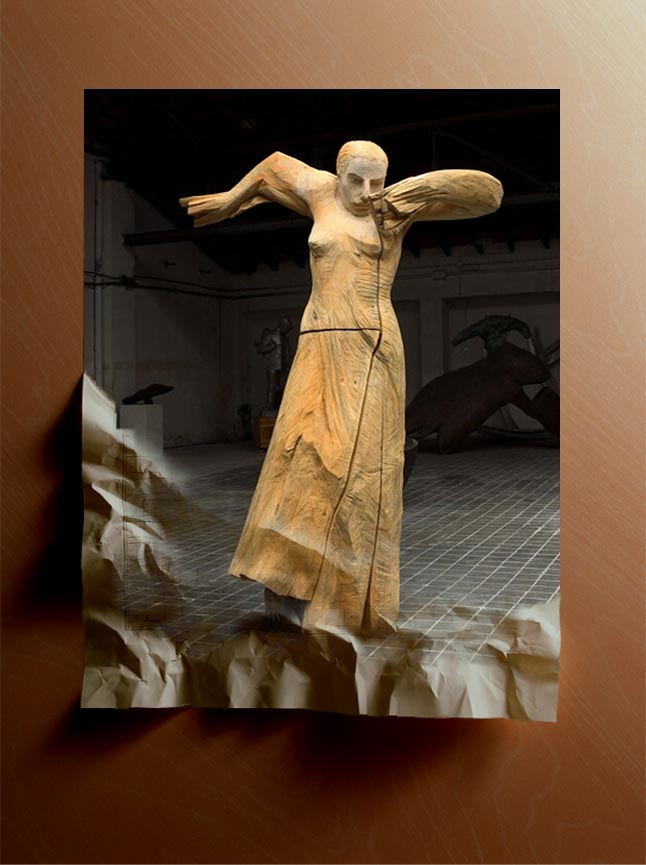
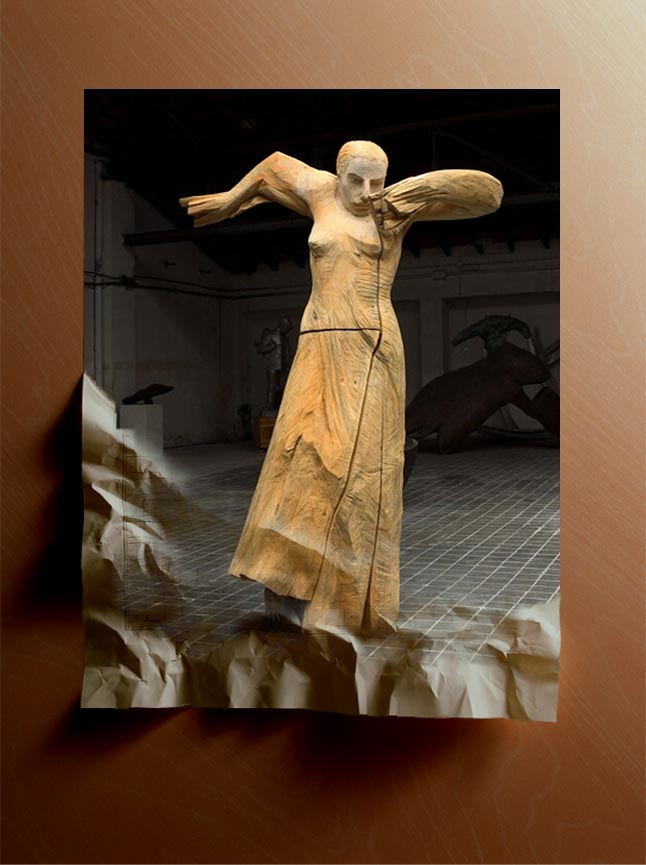
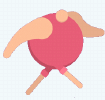
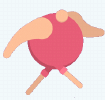
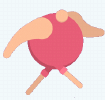
Боги красивые звуков
Плескались детьми
Из рукописей (64: 41 об.)
Для того чтобы более глубоко познать этот “странный мир”, несомненно живущий и по законам красоты, недостаточно одних научно-филологических усилий, даже предельно совершенных. Здесь необходим также поец, красотинец, художник с развитым чувством слова и нового слова — прежде всего. Имея в виду план и композицию «Зангези», можно сказать, что будущая сверхповесть о самом Хлебникове в серии «Жизнь замечательных людей» потребует нескольких собственно художественных плоскостей, посвященных его неологизмам.
Пожалуй, как никто другой, будетлянин остро ощущал в каждом слове то, что можно назвать потенциалом его эстетической семантики, его образными потенциями. Культура словотворчества, в представлении Хлебникова, предполагает, как мы видели, определенный функционализм: слово должно быть направлено к называемой вещи (см. в соответствующем разделе начало XX). Но другое и более раннее начало (VIII) формулирует убеждение в красоте смены двух подобнозвучных слов, из коих первое ‹—› название, второе ‹—› образ, вводя тем самым в словотворчество важное эстетическое измерение.
К известному разграничению А.М. Пешковским нормативной и объективной точек зрения на язык1![]()
Этот взгляд Хлебников распространяет и за пределы языка слов и словесных образов — в область математической символики и общеисторических закономерностей в понимании поэта. Числовые скрепы основного закона времени приобретают эпитеты. Так появляются у поэта бяка-числа и ляля-числа (66: 5; 1922), любопытные, в частности, тем, что неологизация в этом случае проецируется не на обычные для Хлебникова просторечные и диалектные элементы, а на лексемы детского языка.2![]()
Говоря об эстетической функции языка или об эстетике языка и речи, обычно ограничиваются самыми общими указаниями на эстетическое в языке без разграничения его структурных уровней. Между тем важно различать общие проблемы эстетики языка и речи, с одной стороны, и более конкретную проблематику эстетики идиолекта (идиостиля), отдельного произведения (текста), некоторого фрагмента, частного афоризма (высказывания), словосочетания (тропа), наконец, отдельно взятого слова в его образном применении и т.п. вплоть до морфемы и даже почти парадоксальной, на первый взгляд, „эстетики дифференциальных признаков фонем” (ср. творяне). Существенно также не забывать о различиях между семантическим преобразованием наличных средств языка в эстетических целях и преобразованием этих средств как формотворчеством (см. выше специальный раздел о формотворчестве.) Эстетика хлебниковского словотворчества — это эстетика неологизма как материального и семантического преобразования.
Современная так называемая “аналитическая”, или “лингвистическая”, эстетика исходит из двух модернистских аксиом. “Аксиома неустановимости” постулирует невозможность выявить различие между искусством и не-искусством. Согласно второй аксиоме модернизма, идеи важнее, чем их воплощение в художественном произведении.3![]()
![]()
Ни “ивент”, ни будущий хэппенинг сами по себе не находят поддержки в его словотворчестве и творчестве в целом. Вместе с тем многие произведения Хлебникова делают содержательной параллель, которую можно провести между ними и основными характеристиками, отличающими, по мнению специалистов, современное телевидение от других средств массовой коммуникации. Это (1) сиюминутность, понимаемая как встреча “здесь и сейчас” некоторого факта с “логосферой” аудитории (ср., особенно, стихотворения Хлебникова типа «Ночь в Персии»),5![]()
![]()
![]()
Не развивая подробно эту тему, хочется все-таки очертить нашу основную идею. Особенности смены общего и крупного планов изображения в пространстве и времени у Хлебникова таковы, что заставляют подозревать качества исключительно высокой (и вообще, по-видимому, необычной) “телевизионности” его эстетического зрения. Вероятно, сегодняшний язык телевидения еще не готов, недостаточен для адекватной передачи художественного смысла хлебниковских текстов. Но читателя-непрофессионала не оставляет мысль о том, что многие из них воплощены и в неявной пока сценарной форме для будущих телережиссеров-профессионалов. Почти наверняка это будущее потребует от специалистов-велимироведов не элементарных консультаций, а прямого сотрудничества в качестве “сопостановщиков”: грамматика и эстетика хлебниковского идиостиля, его “воображаемая филология”, как ясно уже сейчас, — это многомерная комплексная проблема. Даже не перефразируя текст «Одинокого лицедея» (III, 307), велимироведению и эстетике следует именно “по-телевизионному” осмыслить его концовку:
Возвращаясь к неологизмам, заметим, что у Хлебникова на них невозможно без существенных оговорок распространить обычные воззрения, согласно которым значение неологизма „в значительной степени определяется контекстом” (в редакции Р.О. Якобсона — 1921: 44), а вне контекста авторские новообразования (в редакции Н.М. Шанского) „теряют свою выразительность”.8![]()
Тем более ясно, что для оценки конкретного неологизма Хлебникова недостаточно не только нормативно- словообразовательного, но и функционально-контекстологического анализа. Напомним, что в его словотворчестве естественно нейтрализуется словообразовательная оппозиция продуктивного/непродуктивного, поскольку здесь, как справедливо отметил В.В. Лопатин (1973: 114), „в принципе все средства продуктивны”. Это заставляет непредвзятого исследователя хлебниковских материальных преобразований прежде всего преобразовать систему собственных оценочных критериев и не полагаться на эстетику личных взглядов. Что же касается отношений неологизма к тексту (контексту) и языку, то здесь надо учитывать обстоятельства и специфического характера, а не только общие соображения о вхождении неологизма если не в нормированный литературный, то в поэтический язык, определенные знания о котором обязательны для значимых оценок того или иного неологизма и для адекватного его восприятия.
Специфической особенностью рукописей Хлебникова первых лет его творчества является чисто служебная функция многих стихотворных строк. В тетради 1908 г. мы находим множество случаев опробования неологизма, так сказать (несколько упрощая процесс творчества реконструкцией, для которой нет исчерпывающей информации), в “квазиэстетической среде”, не претендующей в принципе на художественное внимание читателя. Это — своего рода опыты для себя.
Издатели в общем недостаточно оценили смысл протестов Хлебникова против некоторых бурлюковских публикаций. В результате в пятитомнике поэта оказалось немало такого рода опытов, затрудняющих для читателя (и исследователей) понимание “настоящего” Хлебникова. Множество подобных же опытов попало и на страницы «Неизданных произведений» поэта в 1940 г. И здесь издатели не отграничили их, хотя бы намеком в комментариях, от собственно художественных вещей, усугубляя хлебниковскую “ниначтопепохожесть” и “недоступность”. (Так, между прочим, возникла и легенда о “раннем словотворческом” периоде в эволюции поэта). Если следовать логике таких публикаций, в основной корпус произведений Хлебникова должны будут войти, едва ли не с большим правом, и аналоги “опытов для себя” из поздних рукописей поэта, где нередко обнаруживаются стихотворные наброски, изобилующие неологизмами, но лишенные подлинной семантической и собственно эстетической связности (ср., например, тексты в ЦГАЛИ: 27: 11, 13, 40: 1; 46: 5; 50: 8–12 об., 53: 3; 65: 3; 87: 51; 117: 3, 3 об.; 125: 23; а для более раннего времени ср. 32: 1, 1 об. и 63: 3, об., 6 об., 7, об., 18 об.).
Вместе с тем Хлебников нередко сам отчасти снимает противоречие или различия между словом как членом парадигмы (гнезда, поля и т.п.) и словом в реальном контексте. Постоянная осада слова как бы поднимает до уровня эстетически значимых высказываний и его метатексты, опыты, эксперименты, перечни слов, контекстные пробы если не всегда в актуальном смысле, то по крайней мере виртуально, в потенции. Это обстоятельство, далеко не во всем оправдывая, все же объясняет позицию издателей, в принципе правомерно распространяющих эстетическую аксиологию и на экспериментальные тексты поэта и даже на словесные перечни.
Однако прежде всего подкрепляют принципиальную позицию издателей собственно эстетические качества многих неологизмов Хлебникова, обнаруживаемые в них и вне какого бы то ни было стихотворного контекста.9![]()
Именно они оказываются эстетической доминантой в экспериментальных четверостишиях. Оставив в рукописях огромное количество разрозненных неологизмов позднего Хлебникова, издатели своеобразно компенсировали это упущение повышением эстетического ранга стихотворных проб из ранних рукописей. Издательскую нерешительность в отношении “поздних” неологизмов понять нетрудно. И сейчас, много десятилетий спустя после пятитомника и «Неизданных произведений» публикация, скажем, сотни “голых” неологизмов Хлебникова из рукописей 20-х годов способна вызвать критический шок у иного рецензента и у “критической массы” читателей.
Тем более необходимо четко осознать относительную эстетическую законченность и автономность типового хлебниковского неологизма. Когда-то Хлебников вместе с Крученых подписался под тезисом, согласно которому отныне произведение могло состоять из одного слова ‹...› (V, 247). Это могло показаться и все еще кажется эпатированием чистой воды, но лишь при нежелании признать за словом его потенциальную способность стать произведением искусства или при стремлении во что бы то ни стало сохранить привычные рамки самого понятия “произведение”. Оставляя в стороне творчество и словотворчество Крученых (заслуживающее специального анализа и сопоставления всех этих злюстр, рококуев и еуы с результатами хлебниковских экспериментов), невозможно вывести за пределы, подлежащие власти эстетических оценок, множество неологизмов Хлебникова именно как произведений словесного искусства.
Хлебниковский неологизм, по установке, — это и знак, и образ. Как правило, неологизмы будетлянина одухотворены и личностью автора-демиурга, и самодвижением, исполненным подлинного драматизма противоречий, блистательных находок — и породы, „словесной руды”. По убеждению поэта Дмитрия Сухарева, переходя от Пушкина к Хлебникову, мы изменяем сам способ чтения. Тот же, кто научится „рыться в завалах его клочковатой лирики, будет вознагражден, находя большие и малые зерна отборного жемчуга — строку, строфу, фрагмент”.10![]()
„Отборный жемчуг” неологизмов — результат огромного множества проб. Если только признается право на эксперимент, нас не должны смущать неизбежные в этом процессе отдельные и многочисленные неудачи. О правильности постановки эксперимента нельзя судить по неразобранной „куче”, превращенной стараниями нелюбопытных исследователей в подобие декадентской свалки. Итог же эксперимента говорит сам за себя: культура XX века получила в результате хлебниковских усилий не только десятки первоклассных стихотворений, поэм, прозаических текстов и разной протяженности „фрагментов”, но и десятки нужных слов как произведений искусства и ферментов для совершенствования логики и методологии науки.
Хлебников способен восхищаться многим и разным — отсюда у него такая активность корня крас- и основы красив-. Он недвусмысленно признает: Лучшая моя вещь — Русалка (т.е. поэма «Поэт»; 92: 43об.). Его интересуют красотинцы (III, 8), в работе над текстом «Зверинца» красивый синейшина как оценка павлина уступает место неологизму более яркой компрессии — красивейшина (НП, 356 и 285). Рядом со словами красея, красивушки, Красивейко появляются семантически близкие им милень, милило и миль (НП, 283 и 284). В «Песни мирязя» мы находим красивняк (ср. там же грустняк <ивняк и под.), красивей (<соловей), миловель, хорошейки (IV, 9–10),11![]()
Несомненно, что красота (и безобразие) мира экстралингвистической действительности — вот основа, на которой развивается вся деятельность Хлебникова. Говоря о его эстетике, нельзя забывать и о привлекавшей поэта красоте мира птиц. Читатель, равнодушный к их лучшим свистам, к лебедям, дроздам и журавлям, к поэту, повитому этими свистами (II, 245), не обратит внимания и на эстетику подбора птиц в первой плоскости «Зангези», на прелесть птичьего хора, в котором участвуют и нежноголосая пеночка и один из самых лучших певцов наших лесов и садов — славка-черноголовка. А дело ведь не только в красоте голосов птиц, но и в особом очаровании внешнего вида, их оперения. Тому, кто никогда не видел весной прилетевшего дубровника, пожалуй, наиболее щеголеватого из наших пернатых „красивеев”, тоже трудно в полной мере оценить и подбор птиц в «Зангези», и смелое новаторство поэта, сопоставившего в соседних плоскостях птиц, богов и людей. Поэтический мир Хлебникова во многом дополнителен по отношению к поэтическому миру Маяковского, равнодушного к тем же птицам.
Но понятно, что прежде всего Хлебникова занимает эстетика слова, причем не только красота сложности, но и красота простоты. Так, рецензируя в 1913 г. «Песни 13 весен», т.е. стихи малороссиянки Милицы, Хлебников отмечает, что особую красоту дает пользование простым словом для построения образов: сердца цветок „поблек / И смерть уже около ходит”, — и заключает: Как просто и изящно (НП, 339).
А восхищение поэта вызывают не только такие неологизмы, как красивое слово Гнестр — быстрая гибель (V, 232) или достиги — слово юноши Игнатьева (V, 187), но и многие прекрасные слова других славянских языков, которыми предлагается обогатить русский язык, поскольку его собирание не окончено (V, 298). Ср. когович (V, 187) и др. под. Особое же внимание поэта привлекают слова-названия, собственные имена. Показательны записи в «Гроссбухе»: ‹...› Зоргам. Какое красивое слово ‹...› Халхал. Прекрасное слово, а Гоголь здесь же именуется писателем с красивым именем (64: 39). Хорошеуки первые уроки (НП, 176) были прочно усвоены Хлебниковым еще в детстве. Волшебноокая девица (I, 126) дала рефлекс в позднем эпитете милоокий («Ночь перед Советами» — I, 225), ранние милари (II, 100) и милачи (II, 265) своеобразно отразились и в перевертне «Разин» с его паронимической строкой Молим о милом и глаголом миловолим (I, 207–208).
Еще одной особенностью хлебниковских неологизмов (она также упоминалась выше) оказывается неравномерность их эстетического распределения. В своих поэмах Хлебников прибегал к неологизмам гораздо реже, чем в стихотворениях, но и эти последние сравнительно редко изобилуют лексическими новациями — собственно словотворческими экспериментами. Основная масса неологизмов сосредоточена в обнаженно экспериментальных перечнях слов и стихотворных пробах, большинство которых остаются неопубликованными. Недостатком весьма ценной работы Вроона (1983) является, как мы видели, ограничение в основном одной лишь хлебниковской лирикой. Это позволило автору говорить о функционировании неологизмов, но почти не давало поводов оценить неологизмы как самовитые слова, их собственную эстетику. Впрочем, и те неологизмы, которые несут на себе значительную контекстную нагрузку, обладают способностью “отрываться” от контекста, сохраняя свой образ и за непосредственными пределами произведения, хотя и не порывают полностью своих родовых связей: творяне, Ладомир, Зангези, смехачи и др.
Ниже мы попробуем более или менее подробно остановиться на ряде неологизмов Хлебникова как на экспрессемах, с учетом их происхождения, прообразов, проблематики восприятия, но прежде всего — того особого эстетического ореола, который эти неологизмы обнаруживают, с точки зрения автора настоящих строк, при доброжелательном к ним (неологизмам) отношении.
Отбор неологизмов для участия в этом “параде” лишь отчасти субъективен. Критериями отбора служили не только признаки известность/неизвестность и частотность модели/уникальность, но и некоторые структурные характеристики неологизмов. На повторение отдельных фактов и цитат автор при этом идет сознательно, в целях пропаганды прекрасного. Порядок представления читателю избранных неологизмов в большей степени произволен: откроет “парад” Ладомир, а завершит — Зангези.
В качестве приложения к восьми более или менее подробным этюдам помещен суммарный перечень «236 избранных неологизмов Хлебникова» из числа наиболее ярких, на взгляд автора, в эстетическом отношении. Многие из них, а также из тех неологизмов, что остались за пределами перечня, вполне заслуживают отдельных этюдов, и, будем надеяться, привлекут внимание филологов. Перечень объединяет неологизмы из поэзии и прозы Хлебникова с неологизмами из его творческой лаборатории, между прочим показывая и размытость границ между “завершенным” и “экспериментальным” в текстах будетлянина.
Это слово воспринимается как яркий хлебниковский неологизм с примерным значением ‘будущая мировая гармония; мировое здоровье; имя мира, в котором осуществились мечты человечества’. Компонент -мир и основа мир- представлены и в поэме «Ладомир», и в позднем творчестве Велимира Хлебникова множеством неологизмов (и ненеологизмов)-сложений — от имен Миромах, мироград (83: 3 и 3об.), Будимир (98: 31), Людомир (9: 4 и 12) и Светомир (9: 9) до строчек в поэме: ‹...› Ладомира соборяне / С Трудомиром на шесте.
Людомир и Светомир, насколько можно судить, — это первые результаты поисков нужного поэту имени, завершившиеся неологизмом Ладомир. Слово Будимир появляется у поэта позднее, в 1922 г., когда подводя итоги собственного пути, будетлянин со сдержанной гордостью отметил, что
Что касается компонента Ладо-, то здесь положение иное. В контексты, которые отражают звездный язык, слово лад вовлекается, кажется, только в «Зангези» (III, 327), в сцене, рисующей сечу противников: Эр и Эль, Ка и Гэ,12![]()
Если же присмотреться к текстам Хлебникова, то окажется, что и слово лад настойчиво заявляет о себе в разной связи и в разные периоды. Поэт терпеливо ждал прихода гостя-лада (НП, 256), еще до открытия основного закона времени в декабре 1920 г. он напоминал Г. Петникову (в начале 1917 г.) о том, что удалось изыскать лад судеб (V, 313), а позднее, начиная опыты с универбацией словосочетаний, создал неологизм верлад (65: 3).
Компонент -мир в слове Ладомир не просто сохраняет значение Вселенной, земного шара, человечества и т.п., но приобретает под влиянием компонента Ладо- и существенную сему от своего омонима мир — сему отсутствия войны, мирного времени. Мировое здоровье Ладомира — это мирная гармония, но путь к нему — это борьба за мир во всем мире. Прийти к Ладомиру можно лишь через последнюю драку / Раба голодного с рублем, а блестящий хлебниковский символ победы революции —
В этих строчках угадывается и своеобразная полемика с финалом блоковских «Двенадцати». Ср. в рукописях строчки (82: 68):
У слова Ладомир в одноименной поэме есть синоним с компонентом -стан (I, 188):
Компонент -стан тоже активен в словотворчестве Хлебникова (см. ВГ 1981: 204–206). Уже в «Лебедии будущего» мы находим такое обозначение, как Соединенные станы Азии (IV, 287) с достаточно прозрачной моделью, а в 1920 г. в стихотворении «Город будущего» возникает образ одного из городов Солнцестана (III, 63), т.е. за пределами «Ладомира» обнаруживается еще одно обозначение страны будущего (возможно, отразившее влияние «Города солнца» Т. Кампанеллы).14![]()
Исключительно важной параллелью к Ладомиру оказывается скромная строчка из рукописей 1922 г. (75: 4 об.; это наброски “листа VII” для «Досок судьбы», озаглавленного «Мера ‹—› лик мира»):
Это — сам по себе любопытный факт, демонстрирующий склонность Хлебникова к тому, чтобы заставлять предметы „как бы балансировать между СИ и не-СИ ‹...›”,15![]()
Поэтому прекрасное слово Ладомир, гармонически отражая эстетику соответствующей поэмы, выходит за ее пределы и как бы увенчивает все творчество поэта, не только его поиски свободы Неувяды (I, 195) для всего человечества, но и смысл этой свободы как всесторонней гармонии, всестороннего развития каждого человека. Перед нами не просто «Велимир из страны Ладомир», если вспомнить заглавие теперь уже давней статьи Ст. Лесневского,16![]()
Пожалуй, особенно знаменательно, что слово Ладомир, рожденное поэтом, которого постоянно упрекали в издевательстве над русским языком, находит поддержку на современной карте древней Новгородской земли, у водораздела Каспий — Балтика, неподалеку от истоков родной Хлебникову Волги. По территории Тарасовского сельсовета нынешнего Демянского района протекает речка Ладомирка. У ее берегов расположены две деревни — Старые и Новые Ладомири.17![]()
Из сказанного вовсе не следует, что поэт непременно знал о существовании р. Ладомирки и названных деревень. Можно даже с уверенностью говорить о том, что номинация далась Хлебникову нелегко, а ее меткость не связана непосредственно с новгородским ареалом. Однако не исключено, что здесь сработала не только фантастическая языковая интуиция поэта.
Р. Вроои указал (1983: 33) как на один из возможных источников слова Ладомир на книгу И.М. Снегирева, где содержится слово Ладомиря,18![]()
Уже отмечалось, что на избрание Хлебниковым в качестве псевдонима имени Велимир могло повлиять знакомство со статьей Я. Головацкого «Червоннорусская литература» в сб. Н. Гербеля «Поэзия славян» (1871; см. ВГ 1983: 200). Не исключается и знакомство поэта с фундаментальным изданием “червоннорусских” песен, подготовленным тем же Я.Ф. Головацким. Если так, то еще до середины 1910-х годов Хлебников мог обратить внимание, например, на то, что в Угорской Руси был известен остригомский (т.е. эстергомский) архиепископ Ладомер, что в Земненском жупанстве существовало местечко Ладомирова, с которым, очевидно, связан род угорско-русских дворян Ладомирских.19![]()
Между прочим, поскольку Хлебников явно неоднократно обращался к энциклопедии Брокгауза и Ефрона, необязательно предполагать и посредничество книг Снегирева или Головацкого. Дело в том, что эта энциклопедия содержит несколько прямых указаний на возможные истоки неологизма Ладомир или на подпочву для его возникновения. Так, поэт мог узнать о „предании, что Владимир-Волынск существовал в IX в. под именем Ладомира”, поскольку „о Ладомире говорят венгерские летописи”.20![]()
![]()
![]()
![]()
Итак, косвенным источником неологизма Ладомир могли быть своеобразные результаты процесса опрощения слова Владимир в Угорской Руси. Причем опрощение распространялось там и на топонимические и на антропонимические значения имени Владимир: упомянутого остригомского архиепископа, который был родом из Галичины, Я. Головацкий именует один раз Ладомер, другой раз — Владимир или Лодомер. Если хоть какая-то часть энциклопедической информации, приведенной выше, участвовала в создании хлебниковского Ладомира, поэт и здесь верен своим словотворческим началам: враг опрощения, он путем переразложения и переосмысления добился поставленной цели. Слова Ладомир и ладомир остались навсегда в языке поэзии.24![]()
Это слово — одно из самых известных новообразований поэта. Оно не только прочно связано с его именем, но и наиболее терпимо воспринимается нормативистами. Как писал А.А. Реформатский,
В цитированной статье смехачи и вообще слова на -ач рассматриваются с точки зрения литературного языка. В рамках же самодвижения хлебниковского идиостиля слово смехачи приобретает и иные аспекты, существенные для истории языка поэзии в XX в. И слова на -ач у Хлебникова, и семантема ‘смех, хохот’ в его идиостиле интересны и в эстетическом отношении.
Выходя за пределы «Заклятия смехом», мы обнаруживаем у поэта, во-первых, около трех десятков новообразований на -ач, а во-вторых — развитое семантическое поле, которое можно, следуя будетлянину, обозначить как «Горе и Смех» в духе XX плоскости «Зангези».26![]()
![]()
![]()
Как признавался сам поэт (точнее — его лиро-эпический герой в поэме «Поэт»), ему приходилось бывать и в раздоре с весельем. Его живо интересовали священники хохота (III, 266, 260), глаза голубые веселухи закаянной (из поэмы «Ночь перед Советами»), радостный хохот, предвкушающий возмездие за отцов, за грехи! (там же), чувства злорадства и восторга, знакомые социальной революции (см. «Ладомир»). Но при всем интересе к веселью, радости, смеху любых оттенков, Хлебников сопрягал свой смех с творчеством, а не с чужим горем, ему хотелось, подобно тому, как в его стихотворении «Осень» (1921)
Отзывчивый на горе, Хлебников сохранил в трудных условиях своего существования и исторический оптимизм как общемировоззренческую черту характера, и установку на социально острую злопись ‘сатиру’ (125: 15), и способность восхищаться громом девического хохота (в поэме «Синие оковы») или невинным смехотворством (60: 109 об.), и талант каламбуриста, легко превращающего знаменитое nevermore в не верь морю, а актуального военмора, призвавшего: стань войн мор (77: 55). И при этом почти каждый случай игры слов у него не только социально значим, но и окрашен какой-то убежденной и по-своему мудрой непосредственностью, отмеченной еще Тыняновым и лишь на поверхности по недоразумению обличаемой уничижительными обертонами неточной оценки “инфантилизм”.
Так, Хлебников искренне недоумевает (64: 101 об.), почему это народы до сих пор
Словотворческая планета Хлебникова в достаточной мере „оборудована для веселия” всеми оттенками смеха. Стоит отметить, что и “маяковский” глагол иссмеял появляется еще в тетради 1908 г. (60: 76). За пределами «Смехачей» то и дело встречаются у будетлянина такие персонажи, как смеявица (II, 265), смеюн (II, 126), смеярышня (II, 100; V, 299), веселоши (II, 190, 293), смехини (IV, 153), не совсем благопристойные хохотки (64:108; 27:30), даже смехучая смерть (II, 74) и какие-то как бы одомашненные (без ущерба для лесной чащобы) смехучеустые лешие (IV, 11). В этом мире текстологически не вполне достоверный хохотчичь (II, 100; дело не только в лишнем ере) сопряжен с царственным призывом хохотарствуй (53: 3), здесь вокруг смехачей раздаются смехи и смешики (II, 35), стоит порой поголовное смеяние (II, 279), царит шутеж (60: 100), в обычае не курево, а смехочево (IV, 156), так что хохотораменные особы (63: 16), горегуря (66: 7 об.), оказываются способными в духе „горе — не беда” превратить иное горе в совсем не страшное оре (50: 8 об.). Весной здесь особо оживлен каждый, потому что
Для любителей искусств здесь большое разнообразие веселых театральных зрелищ: комедии — та же веселяна, но и шутыня, плач-прочь и досмехи, фарс — скукобой (V, 209). Амплуа веселыни (IV, 161) пользуется всеобщим признанием, как и такой жанр, как смеявы (V, 256), потому что женщины носят титул радуха-родуха (II, 268), даже прозрачная стена (в «Городе будущего») обладает не очень понятным для нас качеством, которое Хлебников называет радуй (III, 65), а для детей построены специальные резварни (IV, 281). Жителем этого мира, выражение их лиц, их действия характеризуют такие эпитеты, как хохотливый (28: 6), смеявистая (II, 265), смехлые (II, 272) смехутные (IV, 12), радой (60: 116), веселиенеющий (II, 189), звонко-смехотливые (IV, 11) и др., а фауна обогащена новым видом (или, скорее, классом) радостеперые (НП, 282). Так что живут смехачи веселизненно (IV, 9), смеянственно (II, 20), а то и смехистелинно (II, 100). Хныкачи (V, 297) там не смеют хныкать, опасаясь, что их поднимут на смех хохотухи (II, 17).
Это не значит, что смехачи — просто однословное имя для „липовых оптимистов”, против которых много позже Хлебникова ополчался Борис Корнилов. В этом мире не имеют права на существование только скуки (II, 287), но смехачам знакомы и кружево-тужево (II, 266), и скорбила (II, 192), и страдали (II, 18). Они отвергают скучаль, но используют вид арфы, называемой стеналью (60: 58 об.), а также неизвестные нам инструменты стонали и плескали (II, 21). Нет-нет и встретится среди смехачей грущун (НП, 69), но и тот не опускает грустилья (II, 16; НП, 90). Слезили (IV, 9), плакахари и плачеванцы (IV, 309) — в общем редкость, рыдунчики же (60: 57) вызывают у них смех. В ходу по этому поводу слово слезодождь (27: 30 об.). Им плачется (III, 33; безл.), как и нам, порой они выглядят скорбно-печально (НП, 199), но страдало (II, 192) и рыдайло (86: 28 об.) не пользуются почетом, как и заплаканцы (27: 30 об.). Их осуждают, говоря, что они уныли (32: 1), ведут себя унывно (НП, 251), а это противоречит основам мировосприятия смехачей.
Тем не менее для рыдавиц (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 5, л. 1 об.) в языке у них обычны слова вроде грустноглазая и плачеустая (НП, 283). Совсем уж зареванных они называют слезорукими (там же); просто слезатые, а также слезоруслянные щеки (IV, 9, 11, 12) попадаются чаще. Эпитетам веселья у них соответствуют такие определения, как рыдальные (II, 17, 279), страдальное (II, 17), рыданственный (II, 187) и бестешная (II, 270). Любопытно, что у них есть особая грустиновая вода (НП, 65), вероятно, они пьют ее, когда собираются на грустины (там же), или же это место водопоя грустистелей (II, 187) и скорбистелей (27: 30 об.) — неизвестных у нас птиц.
Так или иначе и они живут с грустиночкой (НП, 251), но уста у смехачей смехоемные (IV, 153), а среди птиц у них, по-видимому, все же преобладают *смехистели. И уж безрадыми (II, 282) смехачей не назовешь. Они не говорят: льет дождь, — а замечают, что смех лил ручьем. Смехливел текучий (II, 14).
Мы оставили почти полностью в стороне словотворческое богатство самих «Смехачей». Не имеет смысла приводить здесь это общеизвестное стихотворение. Отметим в нем лишь глаголы смеянствуют, иссмейся, усмей и осмей, наречия смеяльно и усмеяльно и существительное рассмешищ (род. п.). Заслуживают некоторых комментариев и такие формы, как надсмеяльных и надсмейных, слова смейево и смеюнчики .
Приставочные варианты с над- преобладают у Хлебникова над нормативными формами с корнем смех-. Насмешливая встречается, кажется, лишь в черновиках стихотворения «Я и ты» («Ля! Паны...») — 64: 43. Обычны же формы — надсмешка, надсмешить, надсмехаться, надсмешливо, надсмешливый (см. ВГ 1983, по указателю) . Понятны отсюда и особенности прилагательных в «Смехачах». Слова смейево и смеюнчики Хлебников по памяти повторяет в черновиках одной из своих статей 1920 г. (9: 5 об. и 6 об.), но, во-первых, в виде смеево и Смехунчики (последнее — как синоним условного заглавия «Смехачи»), а во-вторых — с указанием на то, что некоторые бессмы‹сленно› чит‹ают› не смéево, а смеéво.29![]()
Уже в «О, рассмейтесь...» смехачи как слово на -ач не одиноко, рядом с ними, плечом к плечу, смеются надсмейные смеячи (II, 35). Опубликованные тексты дают нам пространный ряд близких образований с именными и глагольными основами: хвостач (II, 122), злобач (II, 188, 293), рухачи (II, 189), милачи (II, 265), рекач (111,202; <река), особо часто вспоминаемый (как оппозиция прямому и преобразованному смыслу слова богач в его связях с корнем бог-; см. выше раздел о мифологии) могач (III, 204, 205, 337, 338; НП, 324), дремач (IV, 326), делач и словач (V, 299), звач (V, 232), мечачи (V, 233), уже упоминавшиеся хныкачи (V, 297), любопытное сложносуффиксальное слово златоволнач (IV, 162).30![]()
Существенно пополняют этот ряд неопубликованные рукописи Хлебникова, причем не только за счет текстов последних лет жизни поэта, но и его ранних опытов. Так, к 1908 г. относится контекст ко словом драч (28: 7 об.):
Таким образом, “начиная” со «Смехачей», Хлебников “заканчивал” орачами,32![]()
Как и в случае с Ладомиром, мы видим, что аксиологические характеристики хлебниковского неологизма связаны с семантическими полями корневого элемента (элементов). Но для эстетики конкретного неологизма существенны и семантические оппозиции корневой морфемы, и собственно морфологические характеристики аффикса, и так сказать, “грамматика идиостиля” в целом, на всех этапах его эволюции и в принципиальных чертах его диалектики.
Не имеет смысла спорить о том, вошло (входило?) или нет слово смехач в нормированный литературный язык. Здесь возможны разные точки зрения и соответственно практические (словарные) решения. Несомненно лишь, что как экспрессема, как единица языка русской поэзии XX в. смехач пережил и своего создателя, и огромное множество других, в том числе более поздних, опытов словотворчества. Если же это слово с его ближайшим и предельно широким контекстом не вызывает никаких эстетически положительных эмоций у иного читателя, то, во-первых, это может распространяться и на обычные слова литературного языка и множество контекстов их употребления, а во-вторых — вкус к наслаждению результатами поэтического словотворчества вполне поддается воспитанию, как и сознание того, что “отвергать” слово можно только на основании достаточно серьезных аргументов. Если же их нет, то остается “принять” слово и как несомненную эстетическую ценность.33![]()
Можно сказать, что этим кратким очерком мы только приподняли завесу, окружающую в нашей культуре смехачей, как и все творчество Хлебникова. Обилие смеха в его словотворчестве лишь оттеняет серьезность намерений будетлянина. Зангези не идет на компромисс с толпой и со своими учениками, убеждающими его: Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь комаринскую! Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь — время послеобеденное (III, 342). Больше того, вслед за тем в поединке Смеха с Горем Смех падает мертвый... (III, 367), а о Зангези разносится слух, что он покончил с собой, оставив записку Бритва, на мое горло! Но Зангези опровергает это своим заключительным появлением и словами: ‹...› Это была неумная шутка (III, 368). Саркастическое обозначение последней сцены как Веселого места не мешает догадке, что вместе с Зангези возрождается и Смех, а смехачи наберут еще больше сил. Просто смех Хлебникова существенно отличен, скажем, от смеха Маяковского, о котором будетлянин отзывался и так (V, 98):
Хлебников не обладал ни даром публичной, тем более — эстрадной, полемики, ни способностью мгновенно воспользоваться глупостью оппонента. Но смеялся он, судя по многим воспоминаниям, охотно, много и заразительно. Каким именно был его смех, необходимо исследовать, обратившись ко всему корпусу его текстов. Будем надеяться, что наши материалы помогут такому исследованию.
Прекрасное во всех отношениях стихотворение 1919 (?) года «Весны пословицы и скороговорки...» (III, 31) отмечено между прочим и великолепным образом *стыдес как некоего одеяния, покрывающего землю, когда она просыпается после зимнего сна. Этот образ, воплощенный в строчке, которую мы вынесли в заглавие, позволяет попутно и кратко обсудить и две проблемы, далеко выходящие за пределы эстетики неологизма: 1) проблему потенциального неологизма и чересступенчатого словотворчества и 2) проблему ударения в текстах Хлебникова.
Неологическое гнездо с корнем стыд- у Хлебникова невелико. Кроме прилагательного стыдесный, заслуживает внимания известное Лескову слово стыдь, упомянутое во Введении в длинном ряду образований типа зовь и миль и употребленное в следующем неожиданном контексте (V, 96):
Вместе с тем можно подозревать, что слово с корнем стыд- послужило одной из моделей для ряда новообразований с аффиксом -об(а). Р. Вроон (1983: 60–61) подразделяет их на девербативы и деадъективы (мучоба, дремоба — и немоба, яроба), оставляя в стороне не только неологизм волноба (II, 16), но и опыты типа тутоба и тотоба (III, 282), говорящие как будто о том, что для Хлебникова характерно, так сказать, синтетическое словотворчество, по возможности независимое от частеречевых ограничений на основы. В данном случае для образования этих рядов моделью могли служить и слова злоба или соответственно хвороба, и слова чащоба и трущоба, и слово стыдоба, не характерное для литературной речи (хотя в РГ 1980, т. I, § 440 это не оговаривается), но мотивированное существительным.
Невозможно назвать корень стыд- особо часто встречающимся у Хлебникова, правда, контексты, в которых он появляется, иногда очень значительны, как, например, в стихотворении «Девы и юноши, вспомните...» (II, 249):
Мировая война резко изменила мироощущение Хлебникова. Еще за год и за два до ее начала поэту казалось, что краска темная стыда (II, 112) — это нечто из области интимных чувств, и он вкладывал в уста Венеры бурлескно звучащую строчку (I, 113):
В поэме «Хаджи-Тархан» в том же 1912 г. он выражал уверенность, продолжая жизнеутверждающую линию «Смехачей», что еще немного — и (I, 120):
Впрочем, было бы неправильно изымать такого рода контексты из всего множества высказываний Хлебникова в предвоенные годы. Так, даже в “далекой от жизни” поэме «Вила и леший» (1913 г.) есть строчки, придающие глубину только что цитированному обещанию из поэмы «Хаджи-Тархан». Это — внезапная патетика прямой речи среди непритязательного и иронического описания лешачиного царства (I, 124):
Чувство стыда, таким образом, несомненно не замыкается поэтом в сферу интимных межличностных отношений, оно несет у Хлебникова и ярко выраженный социальный заряд. За этим выводом мы не должны забывать об эстетике и повседневного “бытового” стыда и метафорического стыда природы. Вот два не публиковавшихся ранее контекста из черновиков поэта — наброски стихотворений, относящиеся к 1922 г. (96: 2 и 13):
| 1) | Торгаш, торгаш, |
| Умри бесстыдно, | |
| Запрятав в крючья своих пальцев | |
| Листы украденных поэм.35 | |
| 2) | Есть остров стыдливый ‹...› |
Последний образ показателен как свидетельство того, что в идиостиле Хлебникова неологизм нередко сосуществует с нормативным словом (нередко даже “запретным” по принятым ограничениям, как в случае университет — всеучбище; ср. Интернационал — Международник т.п.). Стыдесный не просто заменяет собой слово стыдливый, а как бы помогает ему, выражая необходимые поэту оттенки смысла, образные детали и связи, передача которых затруднена для нормативного слова.
Прилагательное стыдесный не одиноко и в постфиксальном ряду. С ним тесно связаны эпитеты будесные (IV, 309 и 93: 6), земесный (40: 1), инесный (V, 90 и 27: 9) и могесные (III, 337). Очевидно, что моделью для них послужили два нормативных слова из самых важных в идиостиле поэта семантических полей: небесный и чудесный.36![]()
В некоторой асимметрии к неологизмам-прилагательным этой группы находится небольшой ряд существительных, образованных по модели, извлекаемой поэтом из слова кудесник (ср. также ровесник и словесник, влияние которых не является необходимым). Это — худесники, бедесники, будесники и инесники (IV, 309–310; ср. 93: 6). Особняком стоит глагольная форма могесничай (III, 337). Зато пространным множеством представлены неологизмы на -ес(а). Приведем их с большей полнотой (по всем доступным источникам), чем это сделал Р. Вроон (1983: 132–135). Перед нами возникнет перечень из 32 неологизмов: биеса (32: 1), будеса (93: 6), видеса (46: 5), времеса (V, 233), голубес (64: 41 и 27: 9; род п. мн. ч.), гробеса (46: 5), дееса (НП, 367; ‘вещи художника’, т. е. его создания), дивеса (II, 19)37![]()
Все прилагательные типа стыдесный имеют соответствия среди неологизмов на -ес(а), кроме самого этого слова! Не найдем мы его и в новейшей публикации стихотворения «Ангелы» (см. Хл 1982: 166–167), которое пополняет наш перечень неологизмами божеса, зиеса и нагеса, а также вариантом можеса38![]()
![]()
Итак, среди 37 неологизмов на -ес(а) не нашлось места слову *стыдеса, хотя “отсубстантивное” стыдесный зафиксировано поэтом и введено в эстетически значимый текст. Что из этого следует для характеристики словотворчества? Заметим также, что нет у Хлебникова слова *бедеса (см. выше бедесники). Вообще любой словотворческий ряд и любое словотворческое гнездо в духе скорнения1 у него принципиально или во всяком случае последовательно (и не только в тривиальном смысле словоизменения) неполны, за ними как бы скрывается леонардовекпй принцип non-finito — незавершенности творческого процесса.
Оставаясь в пределах словотворческих моделей Хлебникова, можно было бы существенно расширить неологическое гнездо слов с корнем стыд-. Очевидно, что в мире его словотворчества не запрещены слова вроде *стыдун, *стыдево, *стыдёж, *стыдины, *стыдила (и человек, и вещество), *стыдиня, *стыдязь, *стыдочество, *стыдистель, *стыдебен, *стыденята, *нестыдяи, *стыдоука и даже *стыдухан и мн. другие. Возможно, что некоторые из таких потенциальных в его идиостиле неологизмов сам поэт отверг бы по тем или иным, в том число семантическим, соображениям. Его раннее отвергающее замечание: Слова, а мысли нет (60: 133), — необходимо помнить, встречаясь с облыжными обвинениями поэта в бессмысленном звукосочетании. Но приходится признать, что порядок числа 104 известных нам неологизмов Хлебникова должен быть увеличен минимум на единицу, если учесть, что в духе будетлянина, т.е. по словам Маяковского, пользуясь “методом правильного словотворчества”,40![]()
Понятно, что в условиях сосуществования в идиостиле Хлебникова реальных и потенциальных неологизмов проблема чересступенчатого словотворчества решается почти автоматически. Должна наличествовать и быть известной лишь модель, образец, на который ориентирован акт неологии. Заполнены ли уже все возможные промежуточные деривационные ячейки реальными неологизмами, — в общем несущественно. Если есть кудесник и инесник, то может быть и *шутесник независимо от того, понадобились или нет поэту такие слова, как *шутеса и *шутесный, и даже от того, зафиксированы они где-то или нет.
Это, казалось бы, тривиальное обстоятельство придает беспрецедентной системе хлебниковского словотворчества особую мощь. Отбирая из всех возможных в этой системе лишь те неологизмы, которые представляются ему прекрасными или достойными внимания, или, наконец, просто нужными для экспериментальных целей, поэт создает и эстетически значимое множество “заготовок”, как почти все поэты заготавливают рифмы, но множество открытое, очерченное лишь в отдельных важных пунктах, пополняемое новыми единицами, рядами и гнездами и используемое в том или ином тексте в собственно художественных целях. Непривычность для читателя такой процедуры, его неподготовленность к восприятию “голых” неологизмов и текстов, в которых неологизм оказывается ярким пятном среди “обычных” слов, — это явление временное, этап в истории хлебниковского наследия, относительно легко преодолимый путем разъяснительной работы филологов, буде они пожелают, наконец, сами непредвзято разобраться в этом наследии. Пока, правда, мы наблюдаем не только поступательное движение от поверхности к глубинам эстетики Хлебникова, но и движение назад от давно уже достигнутого уровня велимироведения.41![]()
Такое слово, как любеса, присутствует в тексте стихотворения «В этот день голубых медведей...» (III, 29) и оказывается в нем принципиально важным как образ любовных небес, с которых дует моряна ‘ветер с моря’ и которые в то же время оказываются глазами любимого человека:
Обратимся теперь к некоторым проблемам ударения в текстах поэта. Прежде всего — записки сты́десной земли или стыде́сной? Не исключено, что такой вопрос не возникает перед многими читателями, но автор этой книги еще в детские годы прочитал и запомнил обсуждаемое слово с ударением на первом слоге и, надо полагать, он не одинок. Очевидно, что давление слов литературного языка (небесный и др.) и других неологизмов-прилагательных этого ряда (будесный, инесный и др.) однонаправленное. Все говорит за ударение на втором слоге: записки стыде́сной земли. Все — кроме ритма стихотворения. Если второе четверостишие написано строгим трехстопным анапестом с дактилической клаузулой в нечетных строках:
Эта мотивировка в пользу варианта с ударением на корне, конечно, не имеет принудительной силы. Полиметрическая и полиритмическая практика Хлебникова в пределах отдельных четверостиший в принципе вполне допускает и появление амфибрахического завершения трех первых ямбических строк катрена, и незамедлительного перехода от амфибрахия к четкому анапесту в следующем катрене. Вопрос, таким образом, ничуть не снимается, и все-таки пока решается в пользу варианта с ударением на втором слоге словоформы стыдесной.
Вспомним, однако, нашу догадку о диффузном значении неологизма стыдь. Быть может, форма стыдесной тоже совмещает в себе значения стыда и стужи, стыдливости и застылости? Тогда во все предшествующие рассуждения следовало бы внести весьма существенную поправку. Почему бы не предположить прямую связь формы стыдесной со словом стыдь и на акцентологическом уровне? Это — в противоречии с только что вынужденно принятым предварительным решением — говорило бы о предпочтении ударного первого слога уже потому, что такая акцентная парадигма отличала бы слово стыдесный от будесный и т.д., а не только от чудесный и других нормативных слов, где контаминации значений в норме (общего языка или идиостиля) нет. Таким образом колебания остаются, однозначное решение по-прежнему не дается в руки.
Не хочется ограничиться в этом очерке изолированным рассмотрением акцентологических вариантов одного только неологизма. Чтобы заинтересовать акцентологов, занимающихся и поэтической речью, приведем ряд словоформ нормированного языка, которые предстают в стихах Хлебникова как своеобразные акцентологические неологизмы (или диалектизмы, или архаизмы и т.п.), хотя, вероятно, лишь, немногие из них попадали в светлое поле сознания поэта. Это, например, такие случаи, как жда́ла, зва́ла, су́дил, и́дем, и́дут, взвизгну́ло, вздрогну́л, прокля́нет, бурка́л, за́стыл, на́звал, остепе́ниться; тети́вой, но́чам, ма́ета, време́нах, пламёна, имёна, в землю́, гре́хи, ве́рхи; сме́тлив, сини́, сотка́нную; досы́та, иско́ни и мн. другие.
С фактами такого рода мы сталкиваемся у Хлебникова буквально на каждом шагу, как в известных стихотворениях: холщево́й, о́льха, полотни́щем, три раза́ и т.п., — так и в поэмах: Ассири́я, в зерка́лах, на ру́ках, на ру́ки, вздо́рней, кля́лась, керено́к (род. п. мн. ч.), бе́ла, сму́гла и ди́ка, виды́, обучённые и пр. Часто, как и в случае со словоформой стыдесной, ритм допускает и другой вариант (ср. кочевник-мальчуган в поэме «Хаджи-Тархан» или озарит в «Ладомире»).
Для коллизий между ритмом и нестандартным ударением В. Марков предлагает во всех случаях предпочитать чтение хлебниковских текстов с установкой на более регулярные метры, например: строчку из «Зангези» (плоскость «Горе и Смех»):
Здесь исследователя (и текстолога) подстерегает немало сложностей. Один пример. В стихотворении «О, Азия! тобой себя я мучу...» (III, 123) есть явно ямбическая строчка:
Ситуация в текстах будетлянина здесь несколько напоминает положение с текстами народно-поэтической словесности, которые характеризуются высокой акцентологической вариативностью. Так, например, „в песенном языке место ударения очень часто не совпадает с ударением в обыденной речи: оно может быть, собственно, на любом слоге в зависимости от требований ритмо-мелодии ‹...›”44![]()
Исследование акцентологии стиха для поэзии XX в. приобретает особое значение, поскольку, например, на основании отдельных примеров, когда „у Блока ударение сдвигается к концу” слова (в том числе таких, как мани́т, залито́, клока́ми и под.), литературовед делает сильный семантический вывод: „Ударение, сдвинутое с корня, размывает смысловую конкретность, неповторимость и весомость слова”, так что в варианте оснежённые (колонны) корень снег- и слово в целом „как бы растворяется в мелодической гулкости”.45![]()
Возможно, что многочисленные факты нестандартного ударения в стихотворных текстах Хлебникова как-то связаны с акцентологическими особенностями “астраханского наречия” точнее — городского просторечия, характерного для Астрахани. Старший современник и земляк поэта художник Б.М. Кустодиев, судя по воспоминаниям, говорил с таким вот „смешным астраханским акцентом: ча́сы, пя́тно...”.46![]()
Так, опосредованно, за строчкой с одним из самых прекрасных хлебниковских неологизмов просматривается очень широкий круг проблем, которые еще предстоит решить и велимироведению, и филологии в целом. Конечно, записками стыдесной земли можно насладиться и без посредства комментаторов, а реальные первопроталины (НП, 283) эстетически воздействуют на человека иной раз несравненно сильней, чем это слово — “незаметный” неологизм поэта или сложные словотворческие метафоры и перифразы, но не так уж непременно, пожалуй, только весной и уж вовсе не на тех, кто понимает поэзию и чей “парус” хоть однажды был моряной любес опрокинут.
По некоторому контрасту со словом стыдесный очерк о слове наимал займет у нас совсем немного места. Фактов, касающихся этого неологизма, недостаточно для восстановления всего относительно полного контекста его бытования в идиостиле Хлебникова. Наимал практически не имеет структурных аналогов за пределами текста, в котором он появился у поэта, — набросков учения о языке (по архивохранилищной характеристике) в школьной тетради, правдоподобно датируемой 1913 г., поскольку в ней содержится такая самооценка: Я был небесным, стал земным в 28 лет (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 25, л. 6 об.). Это слово — замена “западного” слова атом (там же, ед. хр. 1, л.‹2› об.).
Отвлекаясь на минуту от системы терминов, как она сложилась в отечественной лингвистике в XX в., казалось бы, можно предложить наимал в качестве однословной замены таких современных терминов, как дифференциальный признак (фонемы) или семантический множитель. Это не прошло бы по двум причинам: 1) наимал, по Хлебникову, — это родовое понятие, внутренняя форма неологизма четко соотносит его с общенаучным понятием “минимум”, а прежде всего с понятием “минимальная единица”, обозначением которого он и должен был служить в этих набросках учения о наималах языка (там же, ед. хр. 25, л. 1); 2) общий термин потребовал бы определений в рамках современной аналитической — “уровневой”, или “ярусной”, лингвистики, обходящейся без понятия, которое объединяло бы уровень фонологии с уровнем семантики, а, по Хлебникову, ‹...› наимал слуха есть и наимал ума (там же, л. 2 об.). Он во всех своих устремлениях принимал установку на синтез. Понятие “дифференциальный признак (фонемы)” само по себе его не интересовало, он не предпринимал никаких попыток разложить единицы азбуки ума, т.е. „фонемы-морфемы” звездного языка, хотя фактически на замене звонкого глухим возникает такой его неологизм, как творяне. В роли же “семантических множителей” у него выступали как раз фонемы-морфемы и более крупные единицы — реальные корни и слова.
Несомненно, можно обнаружить некоторое сходство между терминотворчеством Хлебникова и новациями в области лингвистической терминологии у Р.Ф. Брандта. Но в отличие от него Хлебников не стремился быть непременно последовательным в собственном словоупотреблении. Так, в тот же период, к которому относятся пробы со словом наимал, формулируя упреки к‹о› всему русскому мыслящему и думающему в недостаточном понима‹нии› духа русского языка, Хлебников вводит слово максимум (и слово синтез) в определение понятия “нравственный” — ‹...› стремящийся к синтезу максимум‹а› блага личности с максимумом блага общества ‹...› (там же, ед. хр. 24, л. ‹23› и ‹25›).
(Пусть не покажется недооценкой смысла только что приведенных высказываний служебный, вспомогательный статус этой цитации. Отделить друг от друга общемировоззренческое, этическое, эстетическое, социальное и собственно словотворческое у Хлебникова часто можно только в абстракции — реально они обычно сплетены, а словотворчество — область, в которой они сходятся особенно наглядно. Но хлебниковская этика — все-таки специальный предмет исследования, и мы всего лишь воспользовались случаем познакомить читателя еще с одним важным высказыванием поэта, моральный облик которого, мягко говоря, многими трактуется неадекватно.)
Рядом с словом наимал Хлебников опробует и слово прост, говоря о том, что задачей этого исследования будет нахождение простов языка, наикратких звучебнов, имеющих смысл (там же, ед. хр. 25, л. 1 об.).47![]()
Итак, на этом этапе наималами еще признаются сочетания согласных. В статье «Наша основа» (1919) мы уже не найдем следов этого этапа. Анализ единицесложения (см. XIV начало) и азбука ума позволят Хлебникову построить систему наималов из согласных, но слово наимал он больше не использует.
Мы оказываемся перед фактом своеобразного словотворческого расточительства. Великолепную находку — слово-термин наимал поэт не пропагандирует всеми доступными ему средствами, а как бы забывает о нем, как о пройденном пути перед новой целью. Заметим, что то же самое можно сказать и о другом превосходном слове-термине у Хлебникова — более образном слове светинка в значении ‘фотон’. В других случаях (скрепа в значении ‘формула’, числяр ‘математик’, молнийный ‘электрический’, тенекниги, двуличный ‘квадратный’ (корень), нет ‘минус’ и под.) поэт был более настойчив, но далек от педантства категорических запретов на “западные” корни.
Едва ли надо видеть причину такого “расточительства” в бытовом бессребреничестве поэта или в трезвом осознании им недостаточной системности находок, не отвечающих требованиям, предъявляемым наукой к терминосистемам. Известно, что и в наше время ни одна наука не располагает достаточно близкой к идеалу системой терминов. Лишь отдельные, чаще всего не слишком объемные области научных дисциплин могут похвастаться отсутствием в своей терминологии синонимии и омонимии. Даже химическая номенклатура в этом отношении далеко не во всем удовлетворяет идеализированным представлениям о совершенстве терминосистем. К тому же сам Хлебников, усматривая, например, в эсперанто избыток омонимии, считал его недостатком скудень синонимии (см. ВГ 1982а: 163).
По-видимому, как и в случае рядов и гнезд потенциальных неологизмов (см. предыдущий очерк о слове стыдесный), будетлянину достаточно было найти хотя бы один терминообразный неологический элемент, чтобы оценить его и в качестве элемента возможной терминологической подсистемы, которая не исключала бы полностью реально существующую, а могла бы сосуществовать с ней, конкурировать и в принципе стилистически и эстетически взаимодействовать. Но разработку в деталях такой подсистемы более или менее синонимичных соответствий (из “русских” корней, аффиксов и квазификсов) иноязычным терминам Хлебников откладывал на будущее, предоставлял другим заинтересованным в этом деятелям, считал относительно более рутинным, менее творческим трудом по открытым им готовым моделям и образцам, чем тот труд фундаментальных осад, которым предпочитал заниматься как первооткрыватель.
Таким образом, словотворчество Хлебникова — открытая система и в этом смысле. Смешно было бы упрекать поэта за его недооценку собственно эстетических достоинств блестяще найденного слова наимал — элементарного по своей внутренней форме, лишенной непосредственной образности, смелого по неожиданному переводу адъективной основы в круг существительных и безупречно народного по достигнутому общедоступному результату.
Такого рода находки опять-таки говорят о необходимости ввести новые аспекты в обсуждение старой проблемы реализм/модернизм в ее связях с формотворчеством. В каком отношении словотворчество Хлебникова как наиболее развитая, многомерная и существенная в эстетическом плане открытая система находится к основным характеристикам эстетики социалистического реализма? Если не отрицать в принципе такой его черты, как „открытая, непрерывно обогащающаяся система художественных форм” (положение Д.Ф. Маркова мы принимаем не как исчерпывающее определение, а именно как неопровержимую существенную черту соцреализма), то следует без запальчивости и догматической предубежденности обсудить все “за” и “против”, которые могут быть выдвинуты в полилоге вокруг тезиса о том, что словотворчество Хлебникова позволяет рассматривать его как одного из основоположников эстетики соцреализма или — по крайней мере — как провозвестника будущих достижений его теории, а отчасти и практики.
Еще короче будет у нас очерк о слове красивейшина.
Слово наимал обозначает в предметной форме высшую степень проявления признака, названного мотивирующим словом мал(ый). Ср. прилагательное наималейший. О слове красивейшина едва ли можно утверждать, что в нем признак красоты представлен в его наивысшем проявлении. Правильнее было бы предположить, что здесь этот признак проявляется в (очень) высокой степени, как бы предельной в некоторой ситуации. Говоря о том, что нападающий нанес сильнейший удар по воротам, мы не утверждаем, что удара сильнее этого и быть не могло. Красивейшина — это не некто самый красивый, а необыкновенно красивый, один из самых красивых, превосходящий по красоте почти всех известных. Своим неологизмом Хлебников переносит в область словотворчества существительных категорию элятива (см. Ахманова 1969: 524).
Непосредственным образцом для поэта могло послужить единственное в литературном языке слово этого класса — старейшина.48![]()
Понятно, что красивейшина, с определением синий или без него, никак не претендует на терминологичность и на замену “нерусского” слова павлин (лат. pavo), уже не включаемого в словари иностранных слов, настолько оно обрусело. Но это и не “чисто контекстное” слово. Текст «Зверинца» отнюдь не изобилует неологизмами: красивейшина, завысокая (жирафа), сосеверянин, рыбокрылы (т.е. пингвины), дерево-зверь (об олене), сложные прилагательные черно-желтый (клюв лебедя), пепельно-серебряное (тело цесарки), бело-красные (глаза носорога), косматовласый — вот все, что может претендовать в тексте на статус неологизма, причем цветообозначения, очевидно, без достаточных оснований. Красивейшина выделяется в этом ряду как особенно яркий и удачный неологизм, но все же это слово в рамках поэмы не выглядит так необычно по своим функциям, как стыдесный или любеса в пределах совсем небольших стихотворений.
Но важнее то, что красивейшина тесно связан с другими неологизмами в системе хлебниковского словотворчества. Еще до начала работы над «Зверинцем» поэт опробовал эту модель в «Песни мирязя», где к облаку применено слово белейшина (IV, 13). Там же присутствует и слово красивей (IV, 9), неологизм иной структуры, который мог быть мотивирован в системе хлебниковских опытов и словом богатей, и словами собачей и грамотей, и даже словом соловей. Ср. такие неологизмы, как красотей (IV, 32), Снегей (НП, 73 и 395), Негей (IV, 32), грезей (40: 1), имей, неимей и изумеи (IV, 309), могей (III, 337).50![]()
Красивей — это некто, просто красивый, красивейшина — своей красотой значительно превосходит окружающих. Получив жизнь, эти слова соотносятся друг с другом уже напрямую, дальнейшая поддержка со стороны образцов из общелитературного языка им не то чтобы совсем не нужна, но воспринимается лишь как “этимологическое”, генетическое подкрепление, а не в синхронном плане. Так возникает квазификс -ей-шин(а) или даже -ив-ей-шин(а): Хлебников создает неологизм летивейшина (V, 253), минуя стадии неологизмов *летивый, *летивей и *летивейший, хотя здесь же присутствует реальный неологизм летчайший (в мире неболет), моделью для которого мог послужить и весь ряд слов типа высочайший, и одно-единственное слово легчайший. При этом снимаются ограничения на глагольные основы, а в последнем случае налицо скорнение3, контаминация корней лет(ать) и лег((к)ий), благодаря чему в слове летчайший присутствует как некий “шорох” и образ особой легкости полета наиболее совершенных летчиков тех лет, т.е. в словоупотреблении Хлебникова начала 10-х годов ‘самолетов’, а не ‘пилотов’
В каждом конкретном факте словотворчества у будетлянина необходимо учитывать все возможные деривационные истории неологизма, принципиально существенную для словотворчества множественность мотиваций, а кроме того — взаимодействие вновь создаваемого неологизма с опробованными ранее в иных жанрах и в других сериях экспериментов. К этим естественным “структурным” требованиям следует добавить еще одно, особенно трудное для исследователя требование собственно семантического соотнесения неологизма со всем множеством первичных и вторичных номинаций во всем творчестве поэта — с его образной системой как динамическим целым.
Слово первоумнейшины встречается у Хлебникова единственный раз в словотворческих опытах начала 10-х годов (63: 8). Таким образом, создавая его, поэт мог опираться на фонд уже опробованных неологизмов: синейшина, красивейшина и (возможно, также) летивейшина. Заметим также неологизм первак рядом с этим последним (V, 253), впрочем, скорее семантический, чем материальный, если учитывать лексику русских диалектов. Можно (и необходимо) привлечь для анализа слова первоумнейшины уже знакомые нам первопроталины (НП, 283) и отметить, что компонент перво- не очень активен у Хлебникова: перволюди (76: 4; 85: 12), первочисла (88: 8), первовидцы (V, 141). Но от первоумнейшины семантические связи, по-видимому, протягиваются и к старцам-вещунам из стихотворения «Город будущего» (III, 63–64), где
Соответственно, для слова красивейшина может оказаться и на самом деле оказывается важным все образное поле ‘красота’, а не только слова с основами крас- и красив- и/или с аффиксами -ейш- / -айш- и -ей. Анализ поля ‘красота’ увел бы нас слишком далеко. Но не откажем себе в удовольствии привести один контекст, где слово небеснейший соседствует со словом красота. Это город, который только что, в дни революции, оглоблю бога ‹...› сломал о поворот и который в «Ладомире» (I, 192) и
В заключение вот еще несколько фоновых для слова красивейшина хлебниковских прилагательных. Это два из списка слов в «Любхо» (IV, 318): любвейшие (возможно, субстантивированное) и любочейнейшие (?; текст изобилует опечатками), — а также изолированные негчайшие (II, 303; ср. нежнейшие и легчайшие) и более доступное для неискушенного читателя невестнейшие (II, 218).
Эти два слова объединяет не только структурная общность, но и актуальная устремленность в будущее, жизнерадостность и высокая этическая требовательность к людям, достойным так называться. Будетляне лишь пересекаются с футуристами, отнюдь не совпадая с ними ни по реальному словоупотреблению, ни в смысле исторической прикрепленности к определенному течению в истории русской литературы. Несколько ближе значение этого слова к словосочетаниям земного шара председатели и грядущего творцы (I, 195). Число председателей земного шара Хлебников, пожалуй, слишком поспешно (с точки зрения еще не открытого им и в период создания «Ладомира» основного закона времени) ограничил 317-ю лицами. Творцами грядущего, и в его глазах и по современным оценкам, должны быть все достойные именоваться людьми. Тем самым основной смысл слова будетляне совпадает со смыслом слова творяне как общего для всех людей титула, как синонима изобретателей в их оппозиции приобретателям — оппозиции, всегда занимавшей поэта.
Судьба этих двух превосходно найденных слов, однако, различна. Различны и их история и “этимология”. Слово будетлянин на несколько лет старше, оно принадлежит к более обширной акцентной парадигме (будетлянин — творяни́н) и заметно свободнее в употреблении. К.А. Федин, повторим, по некоторым существенным чертам сходства мог назвать Гоголя, не претендуя на резкий сдвиг в употреблении слова, „будетлянином XIX века”. Леонид Мартынов писал в своей книге (так и озаглавленной) «Черты сходства» о тобольском “будетлянине” XVIII века Семене Ремезове. Рецензируя эту книгу, А. Марченко отмечает в ней „житие тобольского “будетлянина” петровской затейливо-прочной выделки”.51![]()
Слово творянин “дремало” вплоть до недавней повести «О» А. Вознесенского, опубликованной в журнале «Новый мир» (см. об этом в предисловии). Сам Хлебников не употреблял его в форме ед. числа. По своей внутренней форме слово творяне больше подходит как обозначение “новой общности людей” — смысла, который точно увидел в нем Вознесенский, чем будетляне, все еще обремененные некоторыми характеристиками конкретно-исторической деятельности футуристов, включая и воспоминания об их “загибах”.
Дворяне, обитатели высокомерных дворцов, дворцов продажи и наживы обречены и должны уступить место ... кому? Оппозиция дворец/творец в общем языке размыта и “случайным” обстоятельством — принадлежностью этих слов к разным предметно-логическим категориям: дворцы — ‘предметы’, творцы — ‘люди’. Актом словотворчества Хлебников “исправляет” историческую “случайность” и находит неологизм творяне, как нельзя лучше выражающий нужный ему смысл противостояния “дворянам” как символу приобретателей и смысл утверждения и прославления обитателей ранее провозглашенных поэтом в «Лебедии будущего» (IV, 286) творецких общин.
Из хлебниковских творян Вознесенский, в духе их создателя, свободно построил целое гнездо неологизмов. Здесь и „потомственный творянин”, и „творянская рука хирурга”, и „творянская надменность и сострадание к к живому”,53![]()
Не будем гадать, какой окажется дальнейшая судьба слов этого гнезда. Практический ответ явится как равнодействующая очень многих факторов. Не последнюю роль здесь сыграет и деятельность самих писателей, журналистов и филологов. Пока достаточно сказать, что слово творяне заполняет очень важную клетку в системе идеологически значимых понятий и номинаций нашей эпохи, причем заполняет эстетически впечатляюще и заразительно в эмоциональном отношении.
Путь самого Хлебникова к творянам был нелегким. Уже слово будетляне не имело аналогов в языке ни по странной основе — форме 3 л. будет, ни по чередованию т – тл. Тексты поэта позволяют выявить довольно значительный ряд неологизмов этого типа и смежных с ними, а также некоторые специфические сложности, которые возникают для неологизмов с суффиксом -ан-ин.
Приведем соответствующие материалы. Сюда относятся прежде всего ранние опыты с прилагательными: всяный (голос), дедиканово, смехотянкий (IV, 31–32). Непосредственная связь их с возможными существительными *всянин, *дедиканин и *смехотянка, впрочем, отчасти сомнительна. Так, не исключены модели типа пряный, великаново. Но среди неологизмов-существительных оказываются слова всеянин и юникане, а также юник (IV, 31 и 16), что делает правдоподобными и устанавливаемые нами связи.54![]()
Особняком стоит другое имя сказочной Снежимочки — Снегляночка (НП, 72), почти наверняка связанное для Хлебникова со смуглянка, но все-таки допускающее и такой неологизм, как *смуглянин.
Вообще обращает на себя внимание тот факт, что эксперименты с неологизмами на -ан-ин / -ан-ка и -анкаХлебников заканчивает к середине 10-х годов. К 1908 г. относятся слова блуждянки и небянки (60: 92 об. и 135), по-видимому, с предметным значением; блуждянкам, например, хорошо подходит значение ‘кометы’, а небянки — это, возможно, ‘планеты’ или иные ‘небесные тела’. В 1909 г. в «Зверинце» появляется сосеверянин (НП, 287) — префиксальный неологизм, лишь по мотивирующей основе сближаемый со словами на -ан-ин. К еще более раннему времени восходят женянки и немвянки (IV, 15, 18 и 33), причем последнее скорее всего связано с медвяный и не включает суффикса -ан-ка. Не позже 1914 г. родились и едкий хлебниковский сарказм Игорь Усыплянин (V, 267) и слова небичанин (63: 3 об.; там же небичи) и любянин (II, 282).
Если *небичанка могла бы спокойно сопровождать и даже полюбить небичанина, то для *любян мирное сосуществование и равноправие полов было затруднено неожиданным и досадным для словотворца созвучием *любянки со старым названием одной из московских улиц.55![]()
Это рассуждение и догадку о словотворческих “помехах” можно дополнительно подтвердить такой ссылкой. Оппозиция мягких и твердых согласных нечасто, но все же неоднократно использовалась Хлебниковым как средство словопроизводства, причем, что особенно показательно, именно в эти годы — и для неологизмов с корнем люб-: так, например, построены голюбь и голюбица (IV, 318) в «Любхо». И вот оказывается, что в этом беспрецедентном перечне нескольких сотен неологизмов в гнезде люб-56![]()
Несколько иную “помеху”, очевидно, почувствовал Хлебников, создавая одновременно со словом любянин сразу пару неологизмов времянин и времянка (II, 282). История слова времянка в современных значениях ‘временные сооружения разного рода (постройки, дороги, печки и т.п.)’, насколько известно, не исследована в подробностях. Поэтому неясно, проецировалась ли хлебниковская времянка, как и времянин, только на дворян, мещан, славян, христиан, селян и т.п. или и на получавшую права в просторечии современную времянку. Единственное указание словарей в этом плане — запись, сделанная в Сибири в 1916 г.: Ехать времянкой, а не по трахту (СРНГ, V, 192). Так или иначе, но Хлебников ни разу больше не воспользовался словами времянин и времянка, что, вообще говоря, может вызвать удивление на фоне высокой активности понятия времени в его словотворчестве и творчестве вообще. Сказалось ли здесь его удивительное чутье языка как системы, посчитался ли он с услышанным народным словом, противоречащим смыслу его неологизма, удовлетворился ли он словом будетляне как “синонимом” *времян — сказать трудно. Заметим, что *будетлянка, кажется, еще не нашла применения в письменной речи, как и *творянка, хотя в списках председателей земного шара зафиксированы и фамилии женщин: Анненкова, Николаева, Синякова...57![]()
Вопреки “мертворожденным” тезисам о “мертворожденности” хлебниковских неологизмов слова будетляне и творяне живут полнокровной своеобразной “образной жизнью”, отрываясь от породившего их времени и помогая современным творянам в их нелегкой борьбе с миром “упырей”. Не может быть сомнения в том, что словам этим суждена долгая жизнь, они останутся нужными всюду, где речь пойдет о подлинном творческом горении, так отличавшем их создателя, о современности как о переходе от прошлого к будущему.
Воистину, „слова поэта есть уже его дела” (Пушкин).
Начальная строчка этого стихотворения (III, 104), давшая ему название, замечательна в двух отношениях. Во-первых, неологизмом, которым открывается текст. Это глагол сыноветь — один из множества хлебниковских неологизмов на -еть, чаще всего представленных формами 1-го и 3-го лица и лишь в порядке исключения — инфинитивом. Во-вторых, здесь перед нами прекрасный пример внутреннего склонения слов; паронимические отношения внутри языка художественно переосмыслены и привлечены как поэтическое доказательство корневого родства между глаголом-неологизмом сыновеет и обычным словом синева.58![]()
По ориентировочным подсчетам у Хлебникова около 300 глагольных неологизмов, включая неологизмы- причастия и неологизмы-деепричастия как равноправные с неологизмами — личными формами и инфинитивами разных глаголов. Это весьма существенный мотив для того, чтобы не отделываться от глагола сыновеет чисто вкусовыми оценками (“нравится” — “не нравится”), а взглянуть на него и через систему глагольного словотворчества поэта — необходимое условие которое должно предшествовать любой филологической аксиологии. Отметим здесь лишь непосредственный фон для сыновеет.
Уже в тетради 1908 г. мы находим два глагола на -еть: божел и свирел (60: 40 и 89).59![]()
Этот материал, как очевидно, не представляется достаточным для вывода о принадлежности перечисленных неологизмов непременно глаголам на -еть. Возникает подозрение, что они вместе с сыновеет относятся к особому и беспрецедентному классу сложных глаголов — неологизмов со вторым компонентом -веять. (От Хлебникова можно “всего ожидать”, а не только такого). Контексты, в которых встречаются эти глаголы, как будто не противоречат нашему подозрению: почти все они допускают интерпретацию, связанную с “веять чем-л. или как-л.”, хотя глагол веять выступал бы при этом в своем переносном значении. Н.Л. Степанов, видимо, настолько был убежден в наличии здесь глагола веять, что в стихотворении «Крымское» даже воспроизвел бессмертновею как два слова (II, 49 и Хл 1936: 356):
Эту конъектуру в какой-то мере поддерживают лишь обычные у Хлебникова в рукописях случаи нечеткости слитных, раздельных и дефисных написаний. Но есть как будто очень сильный структурный аргумент в пользу именно сложных глаголов: единственный, правда, неологизм эрореет (27: 32), относящийся к работе над «Зангези» и далеко отстоящий во времени от бессмертновею (1908), но совсем недалеко от сыновеет, относящегося, по-видимому, к 1920 г.:
Но, как и в случае с бессмертно вею, здесь можно предполагать или словораздел: не эрореет, а Эр ореет (орлом), — или морфемный шов эр-ореет, тем самым получая не еще один пример оривой речи (от орать ‘кричать’), а неологизм, производный от слова орел.61![]()
В пользу веять говорит и некоторая активность этого глагола в словотворчестве Хлебникова. Ср. например, веяна и веево (26: 19) и чудовищно-гротескный неологизм с финалью -веющие (27: 11), а также солнцевей (II, 276), веязь (II, 7), небовеяние (II, 283), тиховейность (60: 110), вейные (II, 278; НП, 117), весеневеющий (НП, 283). Косвенно веять поддерживают, кроме того, сложные слова на -дей, тоже нередкие у поэта: озеродей (I, 198), жародей (II, 21), стаедей (II, 264), мородеи (III, 203), спасибодей (V, 91), Славодей (НП, 70 и 394) и др.
И все же мы склоняемся к тому, чтобы не переоценивать аргументов за наличие глагола веять в сыновеет и других неологизмах этого ряда. Решающими контраргументами при этом служат следующие.
Во-первых, в большинстве случаев особенно в 20-е годы глаголы на -веет оказываются у Хлебникова в общеконтекстной, а то и непосредственной близости с несомненными неологизмами на -еть. Ср. отцел и отцеют, трупеет, инеет, жертвеет, палачея и палачеет, вселеннея, угрюмея, улыбенеет (от улыбен — II, 218), веснел, мертвецеющая, былиннеют, старшинеют, парижеет, сынеет, тебеть, онею, менели, любимеют, илеют, мечеет и т.п.62![]()
Во-вторых, у Хлебникова обнаруживается значительное количество неологизмов-прилагательных с суффиксом -об(ый): быловая, небовые, мновый (дух), оново, глазовый, стрекозовые, думовое, мысловые, голубизновая, вселенновые, безумовый, весеновая, слезовый, времовый, вечеровые, озеровые, двойцовое и т.п. Среди них, правда не встретились *златовый. *зоревый, *сребровый, *бессмертновый, *счастьевый *огневый и *жемчуговый, но огневой — это слово общелитературного языка (ср. также заревой и сыновний), а неологизмы времовый, вселенновые и вселеннея и под. могли дать достаточный толчок к чересступенчатому словотворчеству.
В-третьих (это относится конкретно к сыновеет), вторая строчка нашего стихотворения содержит внутреннюю рифму:
В-четвертых, есть еще один контекст, который едва ли можно трактовать так, что там “чем-то веет” или “веет подобно чему-то”. Это другой случай использования Хлебниковым глагола сыновеет. Его мы находим в варианте опубликованного стихотворения «Морской берег» (III, 281), озаглавленном «На море» (66: 7 об. и др.). «Морской берег» и «На море» начинаются одинаково: Выстрел отцел. Могилы отцели. — Но далее в рукописи появляется строчка: Отцепеплом ночь палачеет, — а вслед за ней, после тоже известного по другим текстам образа (ср. III, 202 и 303): ‹...› пуль гульба, гуль вольба, воль пальба ‹...› — возникает этот неологизм как обобщение:
Читатель, очевидно, уже обратил внимание на неоднократные колебания автора перед интерпретациями хлебниковских неологизмов в жестко однозначном духе. Причина этого не столько в качестве идиостиля интерпретатора и не в его чрезмерной осторожности и даже не столько в слабой изученности общих проблем словотворчества и конкретного опыта Хлебникова в этой области, сколько в объективных характеристиках творчества будетлянина, в непрямолинейности, многомерности, диалектичности его экспериментов и использования их результатов в тех или иных художественных контекстах. Иному филологу трудно признать, что Хлебников был куда более ярким, одаренным, трудолюбивым и глубоким мыслителем и филологом, чем он сам. Один же из выводов нашего исследования сводится к тому, что, чем более углубляешься в действительно нелегкую для адекватной интерпретации словотворческую деятельность Хлебникова, тем больше поражаешься неожиданно открывающимся эстетическим связям между фактами, которые при неплохом, казалось бы, знакомстве с текстами, оставались незамеченными или выглядели эстетически ненагруженными, а то и попросту неудачными.
Первоначально серия очерков, составляющих основное содержание настоящего раздела, была задумана как предельно сжатый комментарий к наиболее ярким из хлебниковских неологизмов, взятых вне системы всего словотворчества. Была уверенность, что достаточно продемонстрировать или просто напомнить контексты произведений, чтобы представленные в них неологизмы заговорили сами о себе. Непосредственное эстетическое переживание, казалось, нуждается всего лишь в нескольких направляющих внимание читателя оценочных эпитетах и минимальных справках типа “ср. еще” и т.п.
Между тем каждый из выбранных для самостоятельного очерка неологизмов потребовал не только демонстрации, но и более или менее трудоемкого и полного исследования его связей, отдельные результаты которого (как и вытекающие из этих результатов задачи) были неожиданными для самого автора. Так, только собрав все множество фактов, на первый взгляд, мало связанных со словом сыновеет, автор впервые задумался над неологизмом сыновитый (60: 43 об.), ранее десятки раз пробегая его глазами. Вдруг возник вопрос не только о возможности/невозможности трактовать его основу как форму род. п. мн. ч. (ср. сыновний), но и о таком фрагменте словотворческой системы, как сановитый> сыновитый, а может быть, и >самовитый. Ведь в этом случае отношение сановитый – самовитый было бы параллелью социально заостренному дворяне – творяне.
Короче говоря, почти каждый очерк влек за собой множество новых связей, исследовательских задач и проблем. Их количество нарастало лавинообразно. Только необходимость как-то ограничить размеры работы заставляла обрывать связи ставить точку там, где но существу должно стоять многоточие или вопросительный знак. Судить о том, насколько удачно выбраны и прокомментированы объекты для настоящего раздела, будет читатель. Автор же, начни он работу снова, счел бы необходимым озаглавить этот раздел “Эстетика и диалектика словотворчества” или развернуть открывшийся в нем материал в отдельную книгу...
Прямолинейные и скоропалительные суждения о творчестве Хлебникова в целом или о его существенных деталях представляются в свете этого опыта особенно неправомерными. Если же они все же делаются, то оказываются не просто неадекватными, но и дезориентирующими, так как представляют исчерпанным вопрос, который еще не поставлен во всю ширь и глубину. Этим кратким отступлением мы воспользуемся и как переходом для того, чтобы сказать несколько слов о паронимии у Хлебникова и Маяковского в связи с анализируемой строкой и теми нигилистическими оценками, которые недавно получило само явление паронимии.63![]()
В одной из своих статей Л.И. Тимофеев попутно обсуждал “удельный вес” материальных неологизмов и случаев паронимии у Маяковского, выступая против, как ему казалось, „самодовлеющего анализа звукового строя стиха” в работах автора этих строк.64![]()
Показатель 0,5% неологизмов к общему количеству словоупотреблений в поэме «Хорошо!» и тот факт, что они не входят в разговорный обиход, представлялись Л.И. Тимофееву недостаточным основанием для „преувеличения роли писателя как языкотворца” (6). Преувеличивать, конечно, нехорошо, равно как и недооценивать. Для паронимии, или “паронимической аттракции”,65![]()
Обсудим в свою очередь эти соображения. Каким должен быть в произведении показатель неологизмов (окказионализмов), чтобы языкотворческая роль писателя превратилась из разменной монеты в нашей полемике в объект общего внимания филологов? Вопрос не риторический: аргументы оппонента таковы, что ему должен быть известен хотя бы порядок величины этого показателя и “показателя паронимии” как статистически значимой величины. Но этих сведений нам не сообщают, поскольку, очевидно, за иронией в данном случае не скрывается статистически мотивированное умозаключение. Мало того, некоммуникабельность усугубляется тем, что лингвист видит за попашет — попишет из «Хорошо!» и за другими уже исследованными фактами паронимии общие процессы в языке поэзии XX в., а критик и здесь не захотел подняться над эмпирией единственного текста («Хорошо!»). Лингвисты имеют в виду типологию и “удельный вес” паронимии, а Л.И. Тимофеев, доверившийся далеко не безупречному определению в словаре Ахманова 1969 (1-е изд. — 1966), — “народную этимологию”...66![]()
В отношении последней критик, кажется, прав: в «Хорошо!» ее функции в самом деле незначительны. Что же касается фактов паронимии, которые так и не заинтересовали Л.И. Тимофеева, то опять-таки нетрудно заметить, что и на протяжении взятых критиком для проверки “наугад” тысячи строк (т.е. “ступенек лесенки”) «Хорошо!» случаев типа кухарочьи хоры, дыру — Дарданеллы, тревоги отрава, тянет — тина, радуюсь — труд и т.п. много больше, чем поводов для иронии. Произвольный характер “статистической” прикидки, произведенной Л.И. Тимофеевым виден уже из того, что, скажем, в относительно самостоятельном целом 15-й главы «Хорошо!» паронимия функционирует совсем иначе, чем в главе 8-й, где ее практически нет. А паронимический несамодовлеющий анализ “ступенек” 2298–2302:67![]()
Чтобы по достоинству оценить строчку Сыновеет ночей синева, нельзя закрыть глаза на паронимические связи внутри нее. Не потому, что она открывает небольшое, шестнадцатистрочное стихотворение и “показатель паронимии” соответственно вырастает. И не потому только, что стихотворение это построено на диссонансных рифмах (в общей совокупности достаточно редких у Хлебникова), сложным образом связанных с развитием паронимии.68![]()
У Хлебникова можно назвать многие десятки произведений совсем не экспериментального характера, из которых невозможно удалить паронимию, не разрушив их поэтического смысла. «Сыновеет ночей синева...» именно такое стихотворение. Паронимия усиливает художественный смысл высказывания, как бы доказывает специальными поэтическими средствами, что синева ночей и не может не *сыноветь, поскольку слова синева и сыновеет — как бы одного корня, подчиненные некоей поэтической парадигме внутреннего склонения.
Паронимия у Хлебникова — это особая, большая и многообещающая тема. Эстетически ярких находок типа «Точит деревья и тихо течет...» (III, 106) или оппозиции меча и мяча у него множество и исследовать их надо в системе достаточно сложной и динамической. Здесь пришлось лишь кратко затронуть ее. Что же касается самого слона сыновеет, то в заключение недостаточно было бы ограничиться указанием на метафорический характер этого неологизма. Склоняясь к тому, что это не сложный глагол и что веять не входит в его структуру, подумаем все же еще раз, не доносится ли в нем некий “шорох” и от веять — слабое “веяние”.
Наши аналитические процедуры работали по принципу “или — или”. Я не хочу сказать, что окончательный ответ должен быть сформулирован по принципу “и — и”. Но некоторый суум — половинный ум или соум — разум-сотрудник, или хоум — тайный, спрятанный разум, или, наконец, зоум — отраженный ум, т.е. кусочек смысла веять, пожалуй, все-таки здесь присутствует. Заметим также, что в сыновеет спрятан и корень нов- и до читателя доносится и его “шорох”, гармонирующий с общим смыслом приобретения или выявления нового признака (ср. оппозицию сыновеет — отцел), устремленного в будущее, а не уходящего в прошлое. Ведь и в слове равнебен невозможно отрицать “шорох” неба, а иного рода “шорох” следует различать в неологизмах этоты, этаны, этавель и под. — “шорох”, доносящийся от горькой строчки поэта в стихотворении «Детуся! Если устали глаза быть широкими...»:
Завершая очередной очерк, хочется самому создать неологизм в духе Хлебникова, что-нибудь вроде *синебен, где звучал бы метафорический “молебен синему небу”. Ведь синий —это любимый цвет будетлянина. И не случайно художник И.Л. Улановский в своем замечательном портрете Хлебникова (1983) так смело использовал этот цвет.
Имя Зангези — это своеобразный венец хлебниковского словотворчества, как образ Зангези — в известной мере синтез результатов, полученных Хлебниковым в итоге многолетних осад слова, времени, числа, и вместе с тем — некоторая итоговая самооценка, воплощение проповеднической ипостаси автора и ее восприятия современниками, символ подвижника, необходимого людям, „как солнце” (Чехов), но еще не нашедшего у них понимания.
В собственно структурном плане неологизм Зангези существенно отличается от остальных словотворческих опытов поэта. Прежде всего он выглядит нечленимым, в нем невозможно выделить “корень”, “основу” и “аффикс” (или “квазификс”) — во всяком случае на базе апеллятивной лексики русского языка. “Этимологизировать” его удается лишь с помощью международного “именослова” — собственных имен как “интерлингвистического слоя языка”.69![]()
Первое, что приходит на ум как реакция на этот неологизм, — пожалуй, ассоциация с Зангезур, именем из истории Армении, связанным с освободительной борьбой армянского народа в XVI–XVII вв. против Турции и Персии.70![]()
![]()
Хлебников, однако, сам подсказывает источник, пусть не единственный, происхождения имени Зангези. В набросках 1922 г. к незаконченной поэме сохранились строчки: Вы видали, как Ганг тихо стучится в Зангези, / Зоями художника зван (V, 117). Слово зой в значении ‘эхо’, ‘отражение’ и т.п. достаточно часто встречается у Хлебникова, чтобы интерпретация этого высказывания не оставляла сомнений: в слове Зангези скрыто имя р. Ганг. Соответственно образ Зангези приобретает не просто “азийский” характер, обнаруживаемый и в самом тексте сверхповести, но и интернационалистские черты, поскольку в памяти сразу же всплывает знаменитый полилог рек в «Ладомире»:
Метонимии материков, рас и народов здесь совершенно прозрачны, как и символика “синтеза вер” (ср. выше раздел о мифологии), победы идеологического единства, провозглашаемой для будущего человечества. Но для структуры имени Зангези этот контекст дает еще немного. Правда, некоторые имена здесь созвучны (Волга, Янтцекиянг, Ганг), однако Дунай “представлен” в Зангези менее наглядно (если представлен вообще, по замыслу Хлебникова), а Миссисипи — только финалью -и.
Следующий ассоциативный шаг в том же направлении приводит нас к стихотворению «Единая книга» (III, 68–69), где приход книги единой символизируется не только своеобразным самосожжением разъединяющих человечество верований, религий, но и синим потоком великих рек:
Даже здесь Хлебников не обошелся без некоторого выпада против серой скуки Запада, но если Обь явно ничего не дает для этимологии Зангези в плане выражения, а Нил представляет (Северную) Африку и, видимо, мусульманство в плане содержания (как та же Обь — шаманизм), то Темза (с протестантским большинством среди англичан; католицизм “представлен” и Темзой, и Миссисипи, по напрямую искать у Хлебникова полного представительства “вер” опасно: простое перечисление ему претит) и своим звучанием “поддерживает” неологизм Зангези как новое имя творца.
Очевидно, однако, что роль Темзы — достаточно скромная на фоне “основополагающего” имени Замбези как символа черной Африки, форма которого уже явно не случайно так близка к имени “эпического героя” Хлебникова. Ганг и Замбези олицетворяют материки Евразии и Африки, а этого поэту вполне достаточно как отражения интересов всего человечества или по крайней мере его внушительного большинства.73![]()
Вполне возможно, что посредником в поисках подходящих этимонов при решении данной ономасиологической задачи послужило имя японского божества Идзанаги (у Хлебникова — Изанаги), которое поэт спутал с Идзанами, но которое своим звуковым составом с тем же успехом могло придать поискам определенное направление. Другие звуковые (и орфографические) поддержки имени Зангези еще более проблематичны. Тем не менее подсознательно и они могли в совокупности сыграть некоторую роль при окончательной шлифовке частностей перед крестинами божестваря. Это, например, имена Занзибар, Зендавеста, Коран, Евангелие, Заратуштра, Цзонкаба, Разин, Конго, Ангара, Меконг, даже слово мусульмане. Но в такого рода домыслах важно вовремя остановиться.74![]()
В «Грамматике идиостиля» уже были приведены варианты имени Зангези, извлеченные из «Гроссбуха» (см. ВГ 1983: 192). Они показывают, с каким трудом нашел Хлебников прекрасное имя для своего alter ego. Но и без них читатель сверхповести сталкивается с некоей загадкой уже при первом появлении Зангези. Верующие в него встречают проповедника непонятным восклицанием: Чангара Зангези пришел! (III, 324). Неясно, полное ли это имя героя или имени предшествует что-то вроде титула.
Слово Чангара мы находим и в черновиках самых первых набросков «Зангези», задолго до того, как «Зангези» был собран-решен 16 января 1922 г. (см. III, 386), и, видимо, до того, как было найдено имя Зангези. Это слово занимает среднюю часть таблицы — своего рода триптиха, на левой створке которого написано Ночь перед падение‹м›,75![]()
Итак, вырисовывается следующая примерная история имени Зангези: Чангара → Зенгези → Чанзара Зангези и Чангили → Чангези, Зангези и Мангези → Зангези и Чангара Зангези. Каждое звено этой цепочки ковалось с помощью многих компонентов; некоторые из них, устанавливаемые, конечно, лишь предположительно за недостатком безусловных фактов, мы предложим вниманию читателя.
Этап Чангара. Здесь можно предположить участие по меньшей мере трех компонентов: Ганг, Шанкара (имя реформатора индуизма, неоднократно встречающееся в рукописях поэта; см. раздел о мифологии) и чань(-буддизм).76![]()
Этап Зенгези. Основной импульс для этого неологизма (если он не простая описка поэта), по-видимому, исходит от Замбези, роль которого аналогична роли имени Шанкара на первом этапе. Место чань-буддизма занимает японский вариант этого названия — (д)зэн (-буддизм). Ганг сохраняет свое воздействие на форму неологизма, хотя оно ощущается в меньшей степени. Возможно влияние и имени Изанаги. Если справедлива догадка об участии в формировании слова Зангези такого имени, как Занги (см. выше сн. 74), следует учитывать также, что в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона Занги представлен в форме Зенги (т. XII, СПб., 1894, с. 545). Вероятно также участие старого названия Авесты — Зендавеста. Воздействие русских слов зеница и зегзица представляется сомнительным. Ударение — на втором слоге (в соответствии с Замбéзи) .
На следующем этапе приходится искать мотивировку сразу трех имен, причем двух из них — в сочетании.
Зангези. Почти все соображения об этой форме уже были высказаны выше. Переход от Зенгези к Зангези можно объяснить, как усиление воздействия основных имен Замбези и Ганг, отказ от варианта Зенги в пользу Занги, ослабление роли (д)зэн-буддизма в семантике и плане выражения неологизма и соответствующий рост вклада, принадлежащего Изанаги. Повышается роль Янцзекиянга как представителя Китая, место для которого планировалось, по-видимому, с самого начала. Судить об этом можно по черновикам стихотворения «О, Азия! тобой себя я мучу...», содержащим такую строчку: Косу плету из Рейна и Ганга и Хоанхо (34: 7). Роль Рейна в “косе” Зангези исполняет малозаметная Темза, роль Хоанхо (т.е. Хуанхэ) передана Янцзекиянгу (т.е. Янцзы). Вклад Зендавесты сменился более скромным вкладом Заратустры (т.е. Заратуштры). Ударение остается на втором слоге.
Чанзара. Само по себе это слово — явное видоизменение слова Чангара. Здесь перед нами попытка объединения в неологизме большего, чем в Чангара, количества этимонов, нужных поэту по смыслу, — по образно-символическому представлению во внешней форме неологизма мысли об идейном преобразовании мира, утверждения необходимости его идеологического единства. Снова усиливается роль компонента чань (как и в Чангара, мягкость Эн в этимоне не принимается во внимание); Ганг, хоть и еще “тише”, чем в Зангези, но “стучится” и здесь; основой же опять-таки избирается Шанкара, которое, впрочем, узнается с большим трудом, чем в Чангара. Ощущается в какой-то мере присутствие в неологизме и Изанаги, и Занги и Заратустры, однако, слишком слабо; эти компоненты “стучатся” так тихо, что их звуковое представительство оказывается недостаточным для сохранения в неологизме их смысла.77![]()
Сочетание Чанзара Зангези тем самым не приобретает практически ничего, кроме обремененного малоэффективными дополнениями компонента чан(ь), сверх того, что уже найдено в форме и содержании имени Зангези. Слово Чанзара оказывается балластом, который отбрасывается. Но поэт делает еще одну попытку. Он пробует изменить финаль в слове Чангара, сохранив его начало, воспользоваться иной словотворческой моделью.
Так возникает вариант Чангили. На фоне Чангара естественным кажется членение Чанг-или. Смысл компонента Чанг-, очевидно, достаточно закреплен предшествующими опытами. Ганг и чан(ь) здесь ощутимы так же, как и в Чангара, но замена „слова-льна” Шанкара на какую-то новую модель заставляет искать ее среди подходящих объектов в почти неохватном круге хлебниковских интересов. Чангили остается одной из загадок в словотворческих опытах поэта, правда, загадкой периферийной. Интерпретировать -или даже с той же степенью приближения к реальности, как это было сделано в отношении слов Чангара, Зенгези, Чанзара и самого Зангези, пока не удается.
Догадка о “грузинском” происхождении -или из -швили (или из апеллятивов на -или), допустимая в принципе, не может быть подкреплена ничем, кроме приведенной выше в сн. 71 черновой записи о “грузинском” мире и другой записи поэта о том, что им 24 V 1917 найден Шота Руставели (97: 3), т.е., по-видимому, построено некоторое уравнение его творчества, подобное уравнениям жизни Пушкина и Гоголя (см. V, 271–273), а также уравнениям их душ (см, 119: 5–6). Как ни слаба эта догадка, она неожиданно подкрепляет “наивную” ассоциацию между именами Зангези и Зангезур, которая в свою очередь работает вместе с грузинской версией о происхождении имени Чангили на рабочую гипотезу о наличии в образе Зангези закавказских корней.
Другая догадка может показаться еще более натянутой, но для полноты отметим и ее. Или в словотворческих опытах Хлебникова — это образ нежестко детерминированного будущего (см. ВГ 1981: 220–221) и своего рода “алгебраического” равенства судеб. Ср. такие неологизмы, как субстантив или, глагол иловать (←миловать), сочетание илийный рок, слова илевик, ильшевик и илёж, илийство — синонимы равенства (см. 46: 5; 66: 5 и 6 об.; 117: 3). Эти эксперименты относятся как раз к периоду работы Хлебникова над «Зангези». Не исключено, что поэт попробовал привлечь и символический смысл, вкладываемый им в корень или, к своим поискам подходящего имени для героя сверхповести. В таком случае Чангили становится и образом устремления в будущее, и равенства перед судьбой. Ударение в этом слове — на втором слоге.
Но и Чангили не удовлетворяет автора. Образный и символический смыслы в этом слове недостаточно наглядны, не задевают сознания читателя без пространных разъяснений, непосредственно недоступны. Предпринимается новая попытка — путем скорнения3 подчинить имя героя родным корням, осложнив обычную для этого словотворческого начала процедуру (ср. младыки, вружба, вольза, петер, братерик, дремя и т.п.) требованием сохранения денотата-героя при изменении его образных характеристик. Вводится то самое требование многозовности, которое отчасти реализовалось в предыдущих поисках, но лишь теперь формулируется в явном виде. Зангези трансформируется, преображается в Чангези и Мангези, оставаясь самим собой в своей сущности.
Зангези становится героем, которого [за]вут, призывают от которого чего-то ждут. Чангези — это тот же Зангези, но уже приобретший определенную популярность, добившийся известного успеха своими проповедями, чтением своих песен (см. III, 321, 318 и др.), своими летучками (III, 332–333); это Зангези, которого чают, жаждут, за которым даже готовы пойти как за учителем. Но он же и Мангези, т.е. Зангези, который манит, сам зовет за собой, стремится привлечь к себе хотя бы внимание, но, может быть, всего лишь прельщает, соблазняет, завлекает, обманывает?.. Не маньяк ли он? (Слово, правда, к счастью, иностранное, а этимология русского манить Хлебникова в общем не интересовала; но достаточно и на русской почве слова об-ман).
Зангези в самом деле не только “многозовен”, но и многомерен, “многоóбразен”. Что-то в нем привлекает слушателей, некоторые из них становятся верующими, хотя понимание пока оказывается возможным только до некоторого ближайшего предела. Слушатели быстро насыщаются, устают, скепсис и здравый смысл берут верх над любопытством к „новому зрению” и чаяниями откровений.
„Сырье, настоящее сырье его проповедь”, — говорит 2-й прохожий. Еще кто-то замечает: „Красиво, но не греет!” (III, 329, 345). Не обсуждая здесь правомерность переноса этих реплик из мира искусства в реальную жизнь и справедливость таких оценок применительно к деятельности самого Хлебникова, стоит заметить, что текст сверхповести по существу не был в достаточной мере отшлифован автором, отдельные части ему не удалось полностью пригнать друг к другу. Целое было создано ценой потери в отдельных деталях, “сыроватость” текста ощущается читателем, а исследователь рукописного наследия поэта видит, какое богатство замысла осталось в затексте, за поспешно подготовленной к печати версией произведения. «Зангези» — одна из самых ярких и важных вещей в творческом наследии Хлебникова. Нельзя ни в коем случае сказать, что, публикуя «Зангези» в известном нам виде, он отступил от своих принципов, поработал не в полную силу и т.п. Нет, он вложил в «Зангези» всего себя, это самое богатое по содержанию из всех его произведений. Но условия жизни поэта и требования замаячившего перед ним печатного станка были таковы, что он оказался не в состоянии довести до конца, развить и доработать многие из идей, сюжетных линий, жанровых открытий, словотворческих находок и отдельных деталей, получивших лишь частичное отражение в опубликованном тексте сверхповести.
Это касается и такой частности, как имена Чангези и Мангези. Возможно, что, окажись для Хлебникова реальным “окончательный” текст сверхповести, к которому он уже не захотел бы прикасаться,78![]()
Словосочетание Чангара Зангези в этой связи тоже не может рассматриваться как “окончательное”, как “последняя воля”, как итоговый результат поисков, которые, конечно бы, продолжались. Зои художника, призвавшие в качестве модельных два имени — гидроним Замбези и антропоним Шанкара, не хотели отказаться ни от одного из них. Перевес, и вполне заслуженный, получил Зангези, но и Чангара завещан читателям, комментаторам и исследователям, завещан “каноническим” текстом произведения, ставшего последним в творческой судьбе поэта и донесшего до нас величественный и хрупкий образ одержимого подвижника Зангези, далеко не идеального героя, но несомненно “положительного”, так необходимого в строительстве культуры социалистического общества.
Герой этот богат и исторической памятью, и активными откликами на события современности, он устремлен в будущее всего человечества и в то же время обращен вот к этому лесу с его великолепными птичьими голосами и с его таинственностью, где что-то остается от сонма богов всех народов (III, 319). Экологическая культура для него не проблема, а норма поведения, понимаемая очень широко. Замечательна и культура общения: Зангези открывает слушателям всю душу, хорошо сознавая недостаточную доступность языка, на котором пока только и можно выразить обуревающие его идеи, представляемые в первом наброске, но заслуживающие внимания уже потому, что обычные языки разъединяют людей, а герой предлагает людям не новые спички для курильщиков, а ни много ни мало — спички судьбы. Выражаясь современным языком, Зангези — борец за мир во всем мире, где война еще существует (III, 346), призывающий народы к единству, к тому, чтобы взять в ладони Земного шара мячик (III, 357), к диалогу вокруг тезиса о том, что проволока мира — число (III, 352), лишь бы не отделывались от него без проверки высокомерным словом пустобрех. Он не только мыслитель, открывающий законы времени и вырубающий доски судьбы (III, 322), не только языкотворец мирового языка, внимательный в то же время к цветам, букашкам, лесным жабам (III, 321) и предлагающий людям большой набат в разум, в колокол ума (III, 334), т.е. рационалист, но и поэт, воспевающий весенние взоры, созвездья и горы. Это — поэт, который понимает, что и благовест ума может быть прекрасен (III, 337), как прекрасен могатырь в зáмке “Могу”, сменяющий богатыря, подозрительно и таинственно связанного со словами бог и богач. И боги как олицетворение судеб, неподвластных человеку, улетают, испуганные мощью тысячи голосов, поклявшихся взять судьбу в свои руки (III, 339). Они летят к доразумному устью, а певцу Зангези звезды хлопают в ладоши (III, 343).
Можно сказать, что в 1922 г. молодая советская эпическая и драматическая поэзия получила положительного героя такой силы, как Зангези, столь человечного и живого, столь одухотворенного и ранимого, цельного и многостороннего. Имя Зангези навсегда вписано в историю советской и мировой литературы как имя настоящего “гражданина мира” неизвестной национальности (азиат? африканец? полинезиец? кавказец? японец? армянин?..), но объясняющегося на русском поэтическом языке патриота-интернационалиста. Неясно, какой смысл вкладывал Хлебников в прозвище Главздрасмысел (117: 1 об.). Ироничный, если прозвище в неразборчиво написанном черновике отнесено к собеседнику Зангези, доумцу, или же высокий, утверждающий, если это сам собеседник Зангези так почтительно именует заумца. Важно то, что Хлебников не был врагом “здравого смысла”, но считал, что ни в коем случае нельзя ограничиваться им. И этим он тоже близок последним десятилетиям XX в., века “сумасшедших” идей, неожиданных открытий, великих социальных сдвигов и перемен. В Зангези налицо и здравый смысл в выборе строительного материала из мира звуков, образов и символов, и нечто сверх этого: способ плавления исходных слов, облик неологизма, богатое поле ассоциаций вокруг него.79![]()
Д.Н. Шмелев хорошо сформулировал общее правило восприятия слов: „Чем привычнее для нас слово, тем меньше мы ощущаем его скрытую образность ‹...› Наоборот, слова малознакомые останавливают на себе внимание своим звучанием, своим внешним сходством с другими словами” (1964: 64 и 71). Вместе с тем внутренняя форма поэтического неологизма обычно и рассчитана на постоянно свежее восприятие его образного смысла. Зангези для многих еще совсем непривычное слово. Это — своего рода азиизм (77: 18), если несколько переосмыслить другой хлебниковский неологизм, необычный для него и сопоставленный им более знакомому слову европеизм. Но едва ли образный смысл в Зангези выветрится, перестанет эстетически ощущаться в нем и тогда, когда этот мифонеологизм найдет, наконец, широкую аудиторию людей, понимающих Хлебникова, станет прозрачным и привычным для всех, кто приобщился к его творчеству и словотворчеству. Как это слово еще отзовется в душах читателей, исследователей и продолжателей поэта, предугадать „нам не дано”. Однако благодать бессмертия Хлебников своему Зангези обеспечил.
Бессмертие многих других неологизмов куда более проблематично. Выбрать из десятков тысяч новообразований даже сотню безусловно удачных и при этом самых удачных, как было сказано (с. 174), очень нелегко. Критерии Поэта, автора и читателя будут здесь совпадать далеко не во всем. Сам автор готов внести в предлагаемый далее перечень избранных неологизмов немало усовершенствований, скажем, слова будь 60: 45 об. (ср. чудь), Волгоград ‘Астрахань’ РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 44, л. 1 об., огнезлаки ‘протуберанцы’ там же, ед. хр. 29, фр. 3, л. 4 об., ужасавль там же, ед. хр. 30, фр. 2, л. 13 (ср. чудесавль), Я-мир (Я-Мир? Ямир? IV, 35; ср. „Я-бог”, гордые ябоги и Ябог ищет ябогиню РО ГПБ, ед. хр. 17, фр. 6), ничтрусы ‘ничего не боящиеся’? V, 61 (ср. ництрусы III, 203), антоним к логике Аристотеля Умика Будийц Хл 1968–1972: III, 433 или неологизмы красивицы и коняшня, скрывавшиеся под видом красавиц и конюшни в невыверенпых текстах сверхпоэмы «Война в мышеловке» и стихотворения «Полно, сивка, видно, тра...» (II, 245 и 285), и др.
Но всего не скажешь. И, соглашаясь с тем, что принцип “нон-финито” — один из тех, которые неизбежно подчиняют себе даже высокое искусство,80![]()
| Азматери (= Азийского материка; род. п.) 82: 52 | мучоба IV, 15, 153; НП, 64 (ср. учёба) |
| бобэоби II, 36 | мыслево II, 266 (ср. кружево) |
| богевна НП, 82 (ср. царевна) | мыслока IV, 9, 32 (ср. осока) |
| богороды I, 193 | мысляр 41: 4; 66: 6 об. (ср. гусляр) |
| боженята 125: 43 (ср. чертенята) | наимал ‘атом’ РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 25, л. 1, 2 об. |
| болитва 80: 40 (ср. молитва) | намодержавие 92: 9 |
| брюховеры IV, 309 | нашедержавие 92: 9 |
| будеса 93: 6 (ср. чудеса и небеса) | нарочители 50: 10 об. |
| будесники IV, 309 (ср. кудесники) | небедь V, 233 (ср. лебедь) |
| будетляне V, 316 и passim | небесничие 27: 9 (см. весничий) |
| будьба 50: 10 об. (ср. судьба) | небесочество IV, 12 (ср. высочество) |
| бурево 66: 7 об. (ср. курево) | неболёты IV, 288; V, 253 |
| бурегурит Глаг. III, 202 (ср. балагурит) | небостан III, 381 |
| бух II, 92; IV, 17 (дух×бытие) | небоука 125: 15 (ср. наука) |
| бяка числа 66: 5 (см. ляля числа) | небоходы IV, 288 |
| верлад 65: 3 (ср. лад вер) | Невск ‘Петроград’ НП, 372 |
| веселоша II, 190; IV, 14 (ср. святоша) | нежногорлый (Пушкин) Прил. 80: 37 |
| весничий 27: 9 (ср. лесничий; см. злобничий) | нежчины 60: 136 (ср. мужчины) |
| взвьюжит Глаг. 60: 106 об. | неимеи ‘пролетарии’ IV, 309 |
| взорваль ‘бомба’ 63: 6 | нехотяи III, 340 |
| водь НП, 93 (ср. синь) | нечетняк 119: 7 (ср. ивняк) |
| воздушинка I, 81 | низари I, 202, 215 (ср. сизари) |
| волгоруссы IV, 118 | Никогдавль III, 73, 281 (ср. журавль и Ярославль) |
| Волгохульство 42: 4 (ср. Богохульство) | ничумеи ‘ничего не умеющие’ IV, 309 |
| Волеполк 66: 5; 97: 2 (ср. Святополк) | нравда 27: 13 (ср. правда) |
| волитва 60: 56 (ср. молитва) | нудь НП, 202 (ср. жуть) |
| вольба III, 303 (ср. пальба) | обессынена (страна) Прич. V, 15; НП, 58 |
| вольза V, 60 (ср. польза) | облесяйте Глаг. IV, 204 |
| Вольша 46: 5 (ср. Польша) | овладивосточить Глаг. I, 289 |
| времири II, 271 (ср. снегири) | озорить Глаг. III, 298 |
| времыши IV, 19 (ср. камыши) | омамаены (сосны ветром) Прич. II, 217 |
| времякопы III, 87 | оренята 50: 8 (см. криченята) |
| времянин II, 282 | ословление (чисел) 86: 28 |
| времянка (!) II, 282 (ср. дворянка) | оснегурить Глаг. V, 93 |
| времяука 66: 5 (ср. наука) | остроглазье III, 293 |
| вружба V, 330 (ср. дружба) | отлюбовь ‘благодарность ’60: 131 об. |
| всеучбище ‘университет’ II,73 | отрицанцы IV, 309 |
| вчерахари 66: 6 об. (ср. пахари) | охолопиться Глаг. III, 263 |
| выдум III, 207 (ср. вымысел) | очёнки 55: 7 (ср. глазенки) |
| вымычу Глаг. 50: 5 | очеса V, 64 (=др.-рус; ср. словеса) |
| выстони Глаг. III, 174 | первопроталины НП, 283 |
| Главздрасмысел 117: 1 об. | первоумнейшины 63: 8 |
| главнебы ДС, 42 | плясавица II, 83 (=ц.-слав.; ср. красавица) |
| глазята НП, 55 | подсказчук ‘суфлер’ V, 256 |
| глиняно-гнедое (тело) Прил. III, 117 | поец III, 39; V, 232 (пою×боец) |
| голубиня II, 238 (ср. богиня) | предземшары V, 167 |
| грезарня IV, 311 (ср. овчарня) | продума ‘проект’ V, 71 |
| грезютка 27: 30 (ср. малютка) | противоцари 74: 12 |
| грустиночка НП, 251 | прошлецы IV, 276, 278 (см. с. 131) |
| грустняк IV, 9, 19; НП, 65 (ср. ивняк) | пугачёвые (руки) Прил. III, 275 |
| дахари III, 341 (ср. знахари и дать) | Путестан V, 71 |
| дерзак 53: 7 (ср. вожак) | пятилетка ‘пятиместный самолет’ V, 254 |
| дом-книга , ~ -тополь, ~ -цветок IV, 283–286 | равнебен II, 190 (ср. молебен) |
| Доном-Волгою (твор. п.) III, 301 | равнечество 63: 7 (ср. отечество) |
| доумец 117: 1 (см. заумец) | развратноухие (зайчишки) Прил. IV, 157 |
| дочерик IV, 308 (ср. материк) | разник Глаг. II, 269 (ср. возник) |
| дружево IV, 308 (ср. кружево) | раньшевик III, 308 (ср. большевик) |
| духодоры IV, 310 (ср. духоборы) | резварни IV, 281 (см. грезарня) |
| забочий IV, 16 (ср. рабочий) | самооплеванщина 60: 26 |
| Зангези III, 317 (Ганг×Замбези) | самоправились Глаг. III, 157 |
| заумец 117: 1 (см. доумец) | светинка ‘фотон’? 9: 3 об. |
| звучей 60: 129 (ср. ручей) | свирепо-свинцовые (ядра) Прил. III, 151 |
| зеленичка 60: 74 (ср. синичка) | сейчасные Прил. II, 216 |
| злобничий ‘дух войны’ 60: 17 (см. весничий) | славяний НП, 318 (ср. галлий, скандий и т.п.) |
| злопись ‘сатира’ 125: 15 | словля НП, 283 (ср. кровля) |
| зоварь 32: 1 (ср. волгарь) | смертночество 63: 13 (ср. Ваше высочество) |
| золотописьмо II, 37 | смехачи II, 35 (ср. силачи) |
| Иваний 94: 49 (см. славяний) | смехотворство 60: 109 об. |
| игрополь V, 71 (ср. тополь и Константинополь) | смеюнчики II, 35 |
| иссмеял Глаг. 60: 76 | смеярышня II, 100 (ср. боярышня) |
| какнибудцы 117: 3 | Снежимочка НП, 64 (ср. снежиночка) |
| клинопад III, 37 (о петроглифе) | (в) соболях-рысаках III, 301 |
| конелюд ‘кентавр’? V, 132 | соборчество 9: 8 об. (ср. землячество) |
| Конецарство II, 257 | Солнцелов III, 87; V, 303 |
| коротко-голубой (меч) Прил. I, 251 | Солнцестан III, 63 |
| красавда IV, 32 (ср. правда) | соседыш I, 187 (ср. последыш) |
| красивейшина НП, 285 | спорвер 65: 3 (ср. спор вер) |
| красивняк IV, 9 (ср. ивняк) | стеналь ‘арфа’ 60: 58 об. |
| красотинцы III, 8 (ср. пехотинцы) | стыдесный Прил. III, 31 |
| кричаль ‘манифест’? IV, 275 | стыдь V, 96 (см. с. 189) |
| криченята 50: 8 (ср. чертенята) | судьбоделие 86: 47 |
| крылышкуя Деепр. II, 37 | Судьболов II, 254; НП, 275 |
| Ладомир I, 184 | судьбомер 83: 4 |
| лгавда 125: 15 (ср. правда) | судьбопашество 86: 47 |
| лебедиво II, 37 (ср. огниво) | судьбоплавание ДС, 3 |
| левда 60: 92 об. (ср. правда) | суедумцы IV, 309 |
| леляна III, 73 (поляна×лель) | сумнец ‘пессимист’ 63: 18 об. |
| лепыш ‘скульптор’ 63: 15 об. | сынева III, 205, 282 |
| летёж V, 253 (ср. чертеж) | сынёнок IV, 323 |
| летерик III, 308, 311 (ср. материк) | сынечество V, 155 (ср. отечество) |
| летеса III, 140 (ср. небеса) | сыновеет Глаг. III, 104 |
| летоки V, 253 (ср. седоки) | такович III, 344 (ср. такой и Петрович) |
| летчайший V, 253 (ср. легчайший) | творяне I, 184; V, 232 |
| лжаное (поле) Прил. IV, 19 | Темнигов III, 73 (ср. Чернигов) |
| любеди II, 303 (ср. лебеди) | тенекниги, ~ печать ‘телевидение’ IV, 287 |
| любель ‘отдельное выражение любви’ 60: 108 об. | тихомирят Глаг. IV, 14 (ср. утихомирят) |
| любёнок IV, 317 (ср. ребенок) | Тихославль III, 73 (ср. Лихославль) |
| любеса III, 29 (ср. небеса) | Трудомир I, 184 |
| люброва II, 19; IV, 317 (ср. дуброва) | тухлоумцы IV, 311 |
| любь ‘всё, что можно любить’ IV, 318 (ср. синь) | тяжело-гордый (путь) Прил. 60: 76 |
| людволны 88: 5 | указуй ‘режиссер’ и др. V, 300; 64: 79 |
| Людостан I, 188 | улетавль III, 73 (ср. журавль) |
| ляля числа 66: 5 (см. бяка числа) | ульяня Деепр. 80: 36 (ср. Ульянов) |
| малоста III, 202 (ср. староста) | умночий НП, 104 (ср. рабочий) |
| Международник ‘Интернационал’ I, 174 | (Игорь) Усыплянин V, 26. (ср. Северянин) |
| мечтежники 60: 133 (ср. мятежники) | хныкачи V, 297 |
| мечтожество 60: 132 об. (ср. ничтожество) | ходнырлёт V, 145 |
| младоста III, 202 (ср. староста) | хохотка 27: 30; 64: 108 (ср. молодка) |
| младуга III, 74 (ср. радуга) | царепад III, 213 |
| младыки III, 343 (ср. владыки) | чингисхань Глаг. II, 217 (с опечаткой) |
| мленник НП, 103 (ср. пленник) | Числоводск НП, 194 (ср. Кисловодск) |
| могатырь III, 337 (ср. богатырь) | числяр ‘математик’ V, 226 (ср. гусляр) |
| могач III, 202; НП, 234 (ср. богач) | чтожества 66: 5 (ср. ничтожества) |
| моги III, 337 (ср. боги) | чудесавль ‘мистерия’ III, 93 |
| могуче-рыжий (водопад волос) Прил. I, 113 | юноста III, 203 (ср. староста) |
| моженята III, 338 (см. боженята) | языководство V, 234 |
| мророки ‘каркающие черное писатели’ 125: 15 (ср. пророки) | яроста IV, 148 (ср. староста) |
‹...› нет путейцев языка ‹...›
Хл V, 228
Как нередко бывает при системном исследовании почти необозримого, содержательного и сложного для осмысления материала, наше описание выявило едва ли не больше новых проблем и конкретных вопросов, чем законченных решений и четких ответов к заранее поставленным задачам. Это касается любого из разделов настоящей работы. Три линии исследования, которых автор должен был придерживаться, учитывая современное состояние велимироведения, могут быть определены как (1) собственно лингвистическая или лингвопоэтическая, (2) эстетическая, связанная уже не только с непосредственным восприятием неологизмов и их структуры, но и с их оценкой как наглядных актов формотворчества и поля действия общих категорий эстетики социалистического реализма, и (3) методологическая, обусловленная осмыслением взаимоисключающих точек зрения на весь смысл деятельности будетлянина и на отдельные стороны его творчества в связи с первыми двумя линиями. Лишь нераздельное взаимодействие этих подходов при интерпретации отдельных неологизмов, их серий и всего их динамического множества с учетом выявленных словотворческих начал, которым следовал поэт, позволяет в принципе избежать ограниченности нормативистских или вкусовых истолкований.
Итоги исследования, по-видимому, делают реальной постановку такой задачи, как системное сопоставительное изучение словотворчества Хлебникова и Маяковского. С другой стороны, сравнение этих итогов с результатами, полученными в монографии Vroon 1983, позволит яснее представить достоинства и недостатки различных трактовок конкретных звеньев в неологической системе Хлебникова. Тем самым окажется возможным углубление общих концепций культуры словотворчества.
Ю. Олеша мечтал написать статью, в которой была бы „целая река цитат” из русских поэтов. Актуальна мечта о такой статье и на материале поэзии Хлебникова. Но ее особенность в том, что своеобразной „рекой цитат” оказываются также многие из неологизмов, представленных и в этой книге. Их образная природа бросается в глаза и заслуживает особого исследования наряду с другими направлениями семантических преобразований в художественной речи поэта.
Б.В. Томашевский писал, что в неологизме „осмысляется самый образ создания слова — поэтическая морфология” (1959: 185). Словотворчество как объект поэтической рефлексии Хлебникова и способ преобразования самовитого слова обнаруживает неизвестные нормированному литературному языку пределы членимости слов на морфемы, специфические проблемы чересступенчатой и потенциальной неологизации. Оно снимает частеречевые ограничения на основы, ставит под сомнение понятия унирадиксоида и унификса, дает новое зрение любым „слепым” и „полуслепым” „остаткам” слов (Реформатский 1965: 79), наглядно демонстрирует (в звездном языке ) подвижность границ между аффиксацией и словосложением (ср. Панов, 1971), членит по-новому любые „старые слова”, в частности и в особенности корневые и опрощенные. Видимость архаичности неологизмов будетлянина создается именно этим обстоятельством — множеством “квазификсов”. Их открытое множество тесно связано с множеством активных, малопродуктивных и непродуктивных суффиксов литературного языка (ср. друж-ба → круж-ба и вр-ужба). Между тем установки на архаизацию у Хлебникова нет ни в отборе основ и лексем, ни в стилистических предпочтениях, ни в способах словотворчества. Можно сказать, что за неабсолютным исключением греко-латинских апеллятивов и аффиксов он “морфемно всеяден”, но не более того: предпочтепие старины, самоцельное наслаждение ее ароматом ему противопоказано.
С именем Хлебникова связано открытие и, можно сказать, экспериментальное исследование принципиально нового способа словотворчества, который мы назвали скорнением3 и который получает в последнее время все более заметное распространение в терминологии (с учетом специфики этой области языкового строительства).1![]()
Едва ли справедлив тезис об установке Хлебникова на „неологизмы с невычленяемыми суффиксоидами” (Панов 1962: 43). Будетлянин — враг не только опрощения и нечленимости, но и непродуктивности. Его любовь к непродуктивным в литературном языке типам словообразования — это не любовь к “архаике”, а интерес к потенциям языка, стремление к „созданию окказиональных словообразовательных типов, моделей” (Лопатин 1973: 122), включая и небывалые способы словотворчества.
Почему у Хлебникова нет неологизмов на базе слов типа буженина и малина? На этот вопрос, поставленный М.В. Пановым (1971: 178), поэт мог бы ответить, что отличие этих слов от слов с унификсами для него несущественно; отсутствие таких неологизмов случайно; легко представить у него слово *суженина, а слово алина — реальный его неологизм (117: 3). Ответ же на вопрос, почему сам Хлебников не создавал слов указанных типов, как кажется, однозначно определен именно его борьбой с опрощением.
Так или иначе, но материалы этой книги ставят перед дальнейшим лингвистическим изучением словотворчества Хлебникова множество разных проблем. Прежде всего необходимо детальное описание семантики его неологизмов, чаще всего идиоматической, богатой „образными преувеличениями”. Важно при этом учитывать все возможные деривационные истории неологизма и существенную для поэта множественность мотивировок, а также не только соответствующие словообразовательные ряды, цепочки, парадигмы и гнезда, но и по существу всю образную систему его первичных и вторичных номинаций.
Если привести в систему сохранившиеся черновые фрагменты и рассматривать новообразования на фоне всего словотворчества, реконструируя реальные замыслы Хлебникова, то обозначаются контуры “проблемного единства” его деятельности, снимается ее пресловутая “непонятность” и обнаруживается содержательность буквально каждого неологизма. Мало того, в неологизмах поэта мы начинаем различать и ценить также принципиально новые способы образной выразительности. Обладая, как правило, парадигматической, самодостаточной экспрессивностью, неологизмы Хлебникова подкрепляют ее в контекстах паронимическими и другими связями, т.е. как бы умножают на синтагматическую экспрессивность.2![]()
![]()
Здесь „народ-языкотворец”, видимо, может “по-хлебниковски” ставить пределы наводнению русского языка “иноплеменными словами”, идя путем, несколько отличным от того, который привел поэта-творянина А. Вознесенского к созданию такого “антихлебниковского” обозначения смелого архитектурного проекта, как поэтарх.4![]()
Кажется понятным, почему словотворчество Хлебникова не вызвало ни одной сколько-нибудь значимой пародии. Этот ведун и словельщик русской речи (60: 92 об.) был занят поисками незамутненной сущности русского языка (60: 96 об.), а стремление проникнуть к ней и результаты, полученные поэтом, который бросился в будущее от 1905 г. (НП, 368), отнюдь не пародийны. Пародией выглядят сейчас оценки его как “идеалиста и реакционера” или иные из писаний о самовитом слове.
В словотворчестве Хлебникова тесно сплетены его общемировоззренческие, социальные, этические и эстетические установки. Открытая в будущее система словотворчества, образная емкость его неологизмов, глубина смысловых ассоциаций, мобилизованных в них поэтом, принцип “эстетического равноправия” исконных слов русского языка, те ключевые для поэта корни, понятия и слова-образцы, на которые ориентированы его неологизмы (труд, люд, мир, время, вселенная, судьба, рабочий, лесничий, свет, смех, грусть, любовь, нежность, правда, наука, лететь, мочь, творить, петь, красивый, будущий и т.п.), беспрецедентные образы птиц и богатство цветообозначений, — все эти и многие другие черты его воображаемой филологии обращены не только к лингвистам и литературоведам, но и к философам, социологам, исследователям психологии творчества, к самим поэтам.
Метафора бога человечьего (III, 90), переосмысленная применительно к словотворческой деятельности самого путейца языка, прошла три этапа. Этап скорнения1 знаменуют смехачи и сотни аналогичных словотворческих гнезд. Иллюзией является взгляд, согласно которому количество неологизмов у поэта после 1910 г. сокращается (Markov 1962: 67). Массив образований типа лаум и гознамя, связанной со звездным языком и общей идеей скорнения2, развивается на втором этапе уже рука об руку с неологизмами типа смехачи. «Слово о Эль» заставляет неологически напрягаться даже привычное слово лямка в блестящем четверостишии из черновиков (64: 64):
В период между завершением авторской работы над этой книгой и ее выходом в свет появилось в связи с хлебниковским юбилеем немало публикаций (см. Литература, а также ВГ 1983). Они не обязательно приводят к реальному приращению наших знаний о будетлянине и все же обнаруживают тенденцию к качественному росту исследовательской хлебниковианы.5![]()
Особо должен быть упомянут и такой собственно писательский жанр, как “слово о Хлебникове” — см., например, статью Ю. Нагибина «О Хлебникове» (Новый мир, 1983, № 5). Было бы некорректно сопоставлять этот “отклик” писателя с этапной статьей Тынянов 1928 уже потому, что он почти полностью изолирован от исследований творчества Хлебникова. Но как одна из реакций на ощущаемую потребность в анкете “Ваше, тов. писатель, отношение к Хлебникову” заслуживает внимания и статья Ю. Нагибина (самого склонного к словотворчеству). См. также юбилейные выступления в печати других писателей.
Особенно чуткий к материи слова, Хлебников всегда видел в языковой форме движения материи движение смыслов, способствуя этому движению всем своим творчеством, а не только созданием неологизмов. Один из главных уроков деятельности красного будетлянина (49: 5 об.) и состоит в том, что словотворчество — это могучий источник новых смыслов, потребных литературе и жизни, поскольку „содержание мысли больше, чем шаблонно-узуальные возможности языка”.6![]()
![]()
Можно понять, почему эти „птицы” и все наследие Хлебникова так долго оставались в “клетках” — где-то в запасниках нашей культуры. Нашумевшие евтушенковские „какбычегоневышлисты” — ведь это духовные (а отчасти и словотворческие) потомки хлебниковских нехотяев. Но юбилей Поэта серьезно подорвал их “ширпотребовские” позиции. Награжденный „каким-то вечным детством” (по слову А. Ахматовой о Пастернаке), Хлебников, подобно многим другим “трудным детям” — поэтам XX века, конечно, не предмет такого ширпотреба, хотя всегда был “поэтом для читателя” (К. Ваншенкин), если не “поэтом для всех”. Он требует не только высокой культуры (про)чтения и издания, но и той самой мировой совести, без которой (по его слову) невозможна “мировая революция”.
Справедливо писал недавно Валентин Распутин: „Слово сильно, когда существует в нагрузке и напряжении”.8![]()
С первых своих шагов Хлебников мечтал о том,
персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 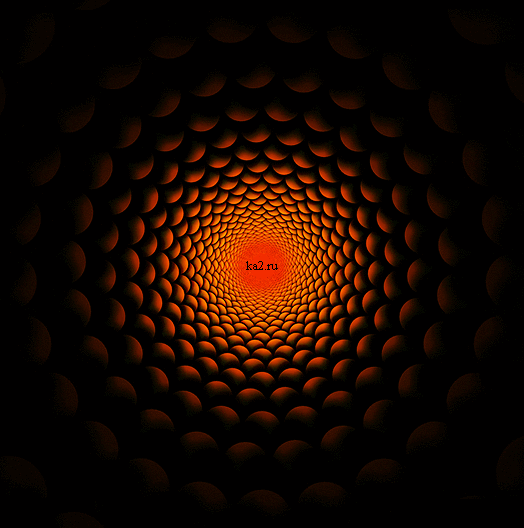 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||