

Литературная биография Хлебникова, история его творчества изумляет противоречиями, окрашенными нередко в трагикомические и трагические тона.
Вспомним прежде всего, что одни провозгласили Хлебникова гением и поэтом будущего (Вяч. Иванов, Кузмин и др.), а иные — их огромное большинство — бредовым заумным стихоплетом, чем-то вроде популярного юродивого от литературы. Лихие рецензенты с особенным рвением испытывали на нем полную меру собственной тупости и невежества. Поклонники легкомысленно поднимали хлебниковские «Доски судьбы» и «Звездный язык» на высоту научно-философских откровений.
Сотканный из сложнейших противоречий, в которых прихотливо запечатлелись не менее сложные социальные исторические противоречия, Хлебников, не искавший ни сенсаций, ни скандалов, оказался необычайно притягательной силой для поверхностных критиков и для любителей окололитературного бума, для эстетов и мистиков, для “заумников” и просто богемщиков.
Хлебников не был ни поэтом будущего, хотя его влияния бесспорны и существенны, ни мистификатором-заумником, хотя он создал “заумь”, ни бредовым графоманом, хотя ему были присущи маниакальные идеи, ни „человеком больших прозрений“, хотя некоторые его произведения отличаются подлинной глубиной. Несомненно одно: Хлебников был крупным литературным явлением, сложным и противоречивым.
Пора освободить Хлебникова от облепившей его анекдотической шелухи.
Давно пришло время выяснить очертания действительного Хлебникова и объективно разобраться в его творчестве, в его идеях.
Одной из главнейших проблем, связанных с именем Хлебникова, является проблема языка.1![]()
Для всякого художника слова то или иное отношение к слову, как основному материалу литературы, творческая работа над языком играют существенную роль, далеко выходящую за пределы того, что обычно понимают под “литературной техникой”.
Отношение к слову принципиально, глубоко идеологично. Нелепо представлять себе языковую работу писателя как внешнюю, хотя и необходимую “отделку”, подобно “оформлению” сцены или фасада построенного здания. Роль языковой работы неизмеримо значительнее уже потому, что язык является не только техникой, но и практическим, реальным сознанием. В языке реализуется стиль, способ художественного мышления, угол зрения писателя и то, что он изображает. Только через язык образы писателя приобретают объективную значимость, конкретную определенность, “одеваются плотью”. Отношение к слову обнаруживает внутренние, “интимные”, пожалуй, наиболее специфические стороны идеологии художника слова.
Анализ языковой работы писателя сложнее и тоньше интерпретации и оценки “готовых” образов; он ведет к той же цели, но несколько иным путем, и хотя необходимо предполагает и дополняет эту общую интерпретацию и оценку, но кроме того дает возможность обнаружить как бы изнутри стилеобразующего процесса специфику данного художественного мышления через раскрытие отношения писателя к слову.
О некоторых художниках слова, о некоторых литературных школах можно сказать, что языковая сторона приобретает особо важное значение для уяснения их художественной системы, их методов построения образов. Таковы художники, у которых образ мышления, способ изображения действительности находится, в силу различных причин, в остро конфликтном столкновении с теми шаблонами мысли, ее готовыми “принудительными” формами, которые предлагает язык, то есть наличная система грамматических и стилистических средств литературного выражения. Таковы художники-реформаторы языка. Само собой разумеется, что лингвистические воззрения и языковая практика этих художников представляют особенный интерес: в них особенно ярко запечатлены противоречивые тенденций развития литературного языка.
Вряд ли мировая литература знала другого, столь неутомимого и крайнего языкоборца, как Хлебников. Он поднял знамя решительного восстания против существующего языкового “строя”. И если бы в такого рода восстании, как у Хлебникова, можно было вообще одержать победу, то, несомненно, Хлебников оказался бы величайшим реформатором языка. Во всяком случае, по сравнению с Хлебниковым, потрясение языковых “основ”, провозглашенное итальянскими и русскими футуристами, а затем эпигонами последних — имажинистами, конструктивистами и пр. — кажется робким и жалким детским лепетом.
Языковые принципы Хлебникова имели, как это ни странно на первый взгляд, больше общего с принципами некоторых символистов, чем других футуристов; с последними у Хлебникова — и в теории и на практике — были только некоторые формальные точки схождения. Были у Хлебникова, помимо символистов, и другие, исторически отдаленные идейные схождения, принципиальные точки опоры, ещё более неожиданные с первого взгляда и, вероятно, самому Хлебникову мало известные.
Но здесь необходимо сделать отступление.
Хлебников был представителем того поколения российской мелкобуржуазной интеллигенции, которое вступило в общественную жизнь в 1905 г. (Хлебников родился в 1885 г.). Он был представителем высококультурной “университетской” части этого поколения, захваченной так или иначе революционным движением. В 1906 г. Хлебников участвует в общестуденческой демонстрации в Казани, попадает на месяц в тюрьму и примыкает даже к какому-то кружку революционеров, замышлявших террористический акт.2![]()
Хлебников оказался в рядах той интеллигенции, которая под влиянием временного поражения революционных сил отшатнулась от освободительного движения. Провозглашалась “Смена вех”. Одни уходили в ортодоксальную религию и мистику, другие — в “мистический анархизм”, третьи — в эротизм, четвертые — в философию обывательщины, которую откровенно проповедывал В. Розанов... Другие “бежали от политики” в искусство, отчасти чтобы укрыться под сень “преображающей мир” красоты, отчасти чтобы подменить действительный дух “восстания против старого мира”, готового рухнуть, эстетическим бунтом. Хлебников оказался в числе последних.
Он “уходит в книги”, вернее, в замыслы научных открытий и в поэтические искания. Он попадает в окружение искателей нового, “освобожденного” искусства, бунтующего против буржуазного быта и литературных традиций. Вскоре он становится центром литературно-анархиствующих будетлян-футуристов. Загнанный реакцией в тупик, он, однако, не примиряется с действительностью и судорожно ищет выходов для творческой деятельности, для мысли, открывающей новые перспективы. Буржуазный быт ужасает его. Университетская наука не удовлетворяет. Он мечется с факультета на факультет и уходит из университета в среду литературной богемы последних лет российского капитализма.
В непримиримом конфликте с действительностью, далекий от реального понимания ее социальной сущности и движущих сил, он блуждает окольными индивидуалистическими путями, концентрируя в самых неожиданных иллюзорных направлениях творческую энергию протеста и волю к преображению действительности, к ее реформации. Преображающая мысль, сама по себе, без отношения к практике, представляется ему реально воздействующей на бытие.
Своеобразное выражение мелкобуржуазного бунта против исторической действительности, против готового рухнуть “старого мира”, эта полуслепая воля к преобразованию мира воплотилась у Хлебникова в форму причудливых иллюзорных идейных “восстаний”, иногда безудержно фантастических.
Хлебников, так же как Маяковский, Блок и многие другие, был захвачен предчувствием неминуемого взрыва старого общества, катастрофических перемен, грандиозного пролома того социального тупика, безысходность которого так ярко осветило зарево империалистической войны. В предчувствии крутого излома истории Хлебников стремится осмыслить и разгадать “логику” истории, “логику” судьбы, овладеть закономерностью событий, и отсюда его попытки в системе числовой символики “открыть” законы исторического “времени” — весь пафос замысла его «Досок судьбы». Отсюда же и смысл его поэтического языкотворчества, исканий всемирного языка и азбуки ума, поскольку и в рисовавшейся ему системе языковой символики (как Блоку — в символике цветов) “раскрывались” тайны действительности и прозревались пути к ее “преображению”.
После падения самодержавия и капитализма Хлебников воспринял победоносную революцию не столько в ее реальных чертах, сколько в плане наступления новой эры для осуществления, на обломках старой действительности, его собственных утопических проектов и идей.
Хлебников мистифицировал революционную действительность в том же направлении, что и дореволюционную, осознав революцию как стихийную разрушающую и освобождающую силу и наделив ее фантомами своих реформаторских стремлений и поэтических чаяний.
Он писал Г.Н. Петникову в 1917 г.:
Несомненно, что Хлебников был одержим своего рода манией прожектерства и изобретательства, и его реформаторский пафос окрашивался подчас в патологические тона.
Он предавался с маниакальной настойчивостью “исследованию” числовой закономерности исторического процесса, законов времени, управляющих историей. Он предлагал не только думать о круго-Гималайской железной дороге с ветками в Суэц и Малакку, но и ввести обезьян в семью человека и наделить их некоторыми правами гражданства, совершить постепенную сдачу власти звездному небу, или разводить в озерах съедобных, невидимых глазу существ, дабы каждое озеро было котлом готовых, пусть ещё сырых, озерных щей; толпы обедающих, купаясь, будут располагаться по берегам, — пища будущего ‹...›4![]()
Конечно, эта пища будущего может служить лишь пищей для любителей анекдотов. Но среди подобного рода проектов и предложений, исходивших от Председателя Земного шара, мы находим развернутую теорию нового искусства, точнее — теорию нового поэтического и философского языка. От этой теории нельзя отмахнуться с такою же легкостью, как от прочих “открытий” Хлебникова, не только потому, что она теснейшим образом связана со всем его поэтическим творчеством. Она интересна и сама по себе, так как в ней с необыкновенной ясностью отразилась вся глубина идейных противоречий не одного только Хлебникова. Она интересна и потому, что, адресованная будущему, теория эта своими корнями прочно цепляется за отдаленное прошлое.
B статье «Художники мира» (1919 г.) Хлебников предложил отчетливую программу радикальной перестройки языка, объективный смысл которой заключался в стремлении уйти от языка социальной действительности.
Общая цель труда художников и труда мыслителей — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего Спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды. Когда-то языки служили объединению людей 1) пещеры, 2) деревни, 3) племени, родового союза, 4) государства, но теперь они, изменив своему прошлому, служат делу вражды и, как своеобразные меновые звуки для обмена рассудочными товарами, разделили многоязыкое человечество на станы таможенной борьбы, на ряд словесных рынков, за пределами которых данный язык не имеет хождения ‹...› На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, — из них строится здание слова. Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки
‹...› Думая о соединении человеческого рода, но столкнувшись с горами языков, бурный огонь наших умов, вращаясь около соединенного заумного языка, достигая распылением слов на единицы мысли в оболочке звуков, бурно и вместе идет к признанию на всей земле единого заумного языка. Конечно, эти опыты — ещё первый крик младенца, и здесь предстоит работа, но общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык “заумный”.5![]()
В этой статье и в других местах Хлебников приводит примеры и с немалыми противоречиями развивает мысли о всемирном письменном языке (заумном, звездном), который заменит в литературе “бытовой язык”, потому что бытовой язык — тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность, и отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Это новое словотворчество покоится на азбуке понятий, на азбуке ума.
Совершенно очевидно, что идея заумного языка в таком понимании далеко отстоит от вульгарных представлений о зауми как обесмысленной звукоречи или звукописи. Такие представления распространились с легкой руки некоторых критиков и “теоретиков” футуризма, вроде А. Кручёных, которые провозглашали:
Или:
Впрочем, тот же Кручёных одновременно пытался представить заумь иначе — как простое переименование вещей для освобождения от “захватанных” наименований:
Писавшие о Хлебникове просто подменяли его теорию рассуждениями в духе простодушного А. Кручёных. Избавляя себя от труда разобраться в языковой теории и практике Хлебникова, литературоведы и критики сеяли и продолжают сеять невообразимую путаницу. Совсем недавно А. Селивановский в «Очерках русской поэзии XX в.», настаивая, что футуристы — в том числе и Хлебников — принципиально перенесли „центр тяжести в поэзии со смысла на звучание“ и „бунтовали против символистического стиха как стиха смыслового“, писал о Хлебникове, что он „утверждал “заумь”, звукопись, противопоставленную смыслу ‹...›“ И в другом месте: „Если мы внимательно проанализируем общее направление его словесного изобретательства, то мы без труда установим, что это изобретательство в свою основу положило принцип славянского корня ‹...› Он много говорил о международном “вселенском” языке, но этот язык он сводил к звучанию букв, а в корне слова он старательно изгонял всё неславянское, “чужеземное”, — даже в этом сказалась его крестьянская ограниченность“.10![]()
Что значит: положенный в основу словесного изобретательства “принцип славянского корня”? Словотворчество на основе отбора корней, общих славянским языкам? Попытка вроде старинной затеи Юрия Крижанича создать общеславянский литературный язык (1666 г.) из элементов хорватских, русских, церковнославянских? Где же у Хлебникова этот “принцип”? Правда, в ранней молодости, в эпоху разгула реакции (1908 г.), Хлебников пережил короткое увлечение “славянофильскими” идеями, поместив в газете «Вечер» крикливое воззвание к славянам, как он сам с иронией указывает в автобиографической анкете для «Критико-библиографического словаря русских писателей» С.А. Венгерова, и напечатав две языковедные статьи в «Славянине» — в результате занятий славянской историей и языками.11![]()
К тому же, либо Хлебников изгонял “все неславянское”, и тогда неверно, что он изгонял “все чужеземное” (болгаризмы, полонизмы), либо он изгонял всё чужеземное, и тогда нужно говорить о “принципе русского корня”. Неславянское и чужеземное — вещи разные.
Но что тогда значит: принцип русского корня? Либо Хлебников выдвинул принцип отбора “исконных”, “племенных” корней как основы для словотворчества, либо этот принцип просто означает, что Хлебников преимущественно пользовался для словопроизводства основами (“корнями”), наличествующими в русском языке. Первое утверждение было бы опять-таки совершенно произвольно, а второе ничего не объясняет в Хлебникове: таков обычный путь новообразований в национальном языке. Правда, в жизни языка существенную роль играет заимствование, по мере надобности, готовых слов из других языков, наблюдается процесс интернационализации лексики (а через лексику и таких элементов, как некоторые суффиксы: хвостизм по образцу: оппортунизм).
Но и Хлебников пользовался заимствованными — им же самим — словами, отнюдь не обязательно “славянскими”: китайскими (шанди, тянь) или персидскими (рэис, шай, шире), или египетскими (зумзумима) и др., а также словами, заимствованным до него из различных языков и в разное время: геростратический, могол, лал, Астарта, Венера, Киприда, Тор, кайзер, король, реквием, ферязь, бал, тевтон, Альбион, жупан, сейм, бушменский; от собственного имени Мамай он образует причастие омамаен (пусть сосны бурей омамаены), а от Ниппон — прилагательное ниппонский (ниппонские тризны).
Большую смысловую, а с точки зрения А. Селивановского и других — звуковую роль играет у Хлебникова ввод иностранных имен собственных, например (из стихотворения «Азия»):
Подобных примеров множество.
Нет, какой уж тут “принцип славянского корня”, и где здесь “крестьянская ограниченность”... В качестве путейца языка Хлебников действительно заменял футуриста будетлянином, а для слова театр предлагал такие синонимические неологизмы: детинец, казяны, показень, вождебен (так как ведет общество) ‹...›; для слова авиатор — летатель, удобно для общего обозначения, но для суждения о данном полете лучше брать полетчик (переплетчик), а также другие, имеющие свой, каждое отдельный оттенок, например, неудачный летун (бегун); знаменитый летай (ходатай, оратай) и летчий (кравчий, гончий) ‹...› Сидящие в воздухолете люди (пассажиры) заслуживают имени летоки. Летоков было семь ‹...› и т.п.
Совершенно ясно, что для Хлебникова дело было не в иностранности слов (авиатор, футурист, театр) самой по себе, а в том, что, будучи иностранными, заменяемые слова заведомо лишены так называемой внутренней формы в плане русского языка, одиноки, лишены внутренних смысловых связей, указывающих на ход образования их значения, ход языковой организации соответствующих понятий (ср. объедало, жилец, читальня, ударник).
Наряду с иностранными, Хлебников пересматривает — по разным соображениям — и русские слова и выражения: вместо воздухоплаванья как проявления деятельности жизни он предлагает слово летоба (учоба, злоба) ‹...›; вместо: “способность летать” — летизна и пр., и пр.
Где же здесь принципиальный “перенос центра тяжести со смысла на звучание”? Но, быть может, это утверждение критиков объясняет другую сторону языковой теории и практики Хлебникова?
Быть может, это положение относится именно к тому, что А. Селивановский называет „звукописью, противопоставленной смыслу“, к хлебниковоким опытам международного языка: „Этот язык он сводил к звучанию букв...“
Хлебников часто выступал утопистом и фантастом, но отсюда не следует, что мы в праве приписывать ему нелепости, в которых он неповинен. Буквы так же мало способны звучать, как портрет Хлебникова, приложенный к собранию его произведений, декламировать стихи. Буква — графическое изображение, условный письменный знак одного или нескольких звуков речи — и только. Хлебников думал совсем о другом.
Нельзя приписывать Хлебникову и принцип „звукописи, противопоставленной смыслу“, как это делается обычно, — Хлебников неповинен и в этом.
Правда, он говорил и о звукописи, применял ее на практике и даже считал “звукопись” питательной средой, из которой можно вырастить дерево всемирного языка.14![]()
В том-то и дело, что Хлебников не стремился к отрыву и обособлению звуковой (и графической) материи языка как формы от смысла как содержания, но, напротив, всё его внимание было направлено на борьбу с исторически сложившимся разрывом между языковой техникой выражения и выражаемым смыслом, между звуковой формой и смысловым содержанием речи. Другими словами, Хлебников прежде всего был озабочен вопросом преодоления “произвольности” языкового знака, который для современного языкового сознания выступает как мотивированная только традицией, “условная” форма, тогда как на самом деле генетически он неразрывно и непосредственно связан с мышлением, не “произволен” и не “условен”. Хлебников мечтал об абсолютном преодолении противоречия между языком как техникой и языком как идеологией и, следовательно, о возможности непосредственного подлинно адэкватного выражения мыслей, а тем самым об организации международного языка. И в этом уже сказался его лингвистический утопизм.
Принимая как данность языковую технику, пытливые люди издавна останавливались перед вопросом об ее отношении к мышлению: почему, например, звук и для людей, говорящих по-русски, означает соединительный союз, а по-латыни — глагольную форму ‘иди’, почему комплекс звуков да для нас “выражает” утверждение, согласие с чем-нибудь, а для немцев — нечто совсем другое, то, что мы выражаем словами — ‘там’ или ‘здесь’, или ‘когда’, или ‘как’, или ‘тогда’, почему наши: дам и он для турка значат: ‘крыша’ и ‘десять’… и т.п. И почему одно и то же означаемое выражается по-русски как голова, а no-француэски как тэт, то есть совсем иными звуками?.. Не очевидно ли, что звуки речи внутренне, органически никак не связаны со смыслом, и не случайно ли в одном коллективе они в силу традиции наделены одним значением, а в другом — совсем иным?
Старая наука о языке так и считала, успокаиваясь на том, что между означаемым и означающим “нет в действительности никакой естественной связи” и что, следовательно, языковой знак — в этом смысле изначально „произволен и условен“ (де Соссюр и др.).
Отсюда проистекал принципиальный отрыв языка от мышления, и звуки речи, звуковые изменения в языках рассматривались имманентно, изолированно от идеологии и ее техники, как некий самостоятельный процесс и притом не как единый глоттогонический (языкотворческий) процесс, а как ряд обособленных автогенных процессов.
Только новое учение о языке на диалектико-материалистической основе нанесло сокрушительный удар этому антиисторическому формальному подходу к языку, выяснив, что в языке нет ничего не связанного так или иначе с мышлением, нет ничего независимого по отношению к идеологии, ничего “немотивированного” и “условного” в этом смысле. Всё в языке насквозь идеологично, если рассматривать его не в отдельных статически взятых фактах, оторванных от общественной практики и изъятых из истории, а в широкой перспективе его действительного генезиса и развития, то есть с точки зрения единого глоттогонического (языкотворческого) процесса в целом и его конкретных этапов. От установления этой широкой перспективы, от проблемы генезиса речи, играющей колоссальную роль для прояснения взаимосвязи языка и мышления на различных этапах общественного развития, как и от самой проблемы этой исторической взаимосвязи, старая лингвистика решительно открещивалась либо отделывалась несостоятельными замечаниями.
Хлебников в своих исканиях был очень далек, конечно, от подлинно научной постановки вопроса о действительной взаимосвязи языка — и его “техники” — с мышлением — и его “техникой”.
Но хлебниковский подход к вопросам языка был далек и от формализма старой лингвистической науки, изучавшей означающее без увязки с означаемым. Принцип “заумности” языка, приписываемый Хлебникову, с гораздо большим основанием можно отнести к старой лингвистике, к ее фонетическим и даже морфологическим построениям, чем к теории Хлебникова.
Вразрез с господствовавшими буржуазно-лингвистическими взглядами Хлебников считал не только возможным, но социально необходимым рационализацию языка на основе организованного вмешательства в его жизнь, хотя принцип и методы этого вмешательства были иллюзорно-утопическими.
Хлебников пытался построить такую науку и практически использовать ее данные в своем поэтическом творчестве. При этом он исходил из убеждения, что языки на современном человечестве — это коготь на крыле птиц: ненужный остаток древности, коготь старины, и что, таким образом, перед наукой словотворчества стоит проблема всемирного рационализованного языка, не “условного” и “произвольного”, а по возможности реального: новое слово не только должно быть названо, но и быть
направленным к называемой вещи.16![]()
Это значит, что хотя всякий язык, по мнению Хлебникова, — игра в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира ‹...› и для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек, — но путем известных операций можно вскрыть и рационально использовать исконную, естественную для всех языков значимость, присущую первоэлементам — основным единицам звуковой речи. Перечень этих основных единиц составит тем самым азбуку понятий, азбуку ума — основу для словотворчества и словопользования, преодолевающих местные и национальные лингвистические границы.
Отсюда видно, что языкотворчество в представлении Хлебникова расходилось и с принципами “искусственных” международных языков типа “воляпюк” или “эсперанто”, которые строились на основе грубо-формалистического понимания языка, его грамматической структуры, как лоскутной одежды произвольно аляповатого покроя для мысли, с механистическим отрывом “техники” языка от мышления с его “техникой” (например, произвольное навязывание норм словообразования по архаическому типу — агглютинации и т.п.).
Гораздо ближе к исканиям Хлебникова стоят старинные стремления к созданию “философского языка” (XVII и XVIII вв.), характеризующиеся тенденцией к органической увязке языка с мышлением — и даже к радикальному преодолению всякого противоречия между ними, — с тем, чтобы выражение идеально совпадало с выражаемым и чтобы исторически сложившаяся специфика языка оказалась снятой и была заменена математически точной, строго логической и всеобщей системой прямых и непосредственных обозначений мыслей, подобно системе выражения исчислений.17![]()
Эти порожденные философским рационализмом ярко утопические поиски универсального языка, как “реального выражения”, как полноценного орудия “логики отношений”, “логики открытий” и как “всеобщей характеристики”, несколько проливают свет на замыслы Хлебникова и объясняют внутреннюю связь его языковой теории с его попытками исчисления законов времени, математического объяснения истории, сведения ее закономерности к числовым законам исторической “логики” — к логике чисел.
Присмотримся ближе к классическим принципам “всемирного” “философского” языка.
Подробно критикуя какой-то проект “искусственного” языка, Ренэ Декарт в письме к Мерсенню 20 ноября 1629 г. высказал идею, легшую в основу “изобретений” универсального языка:
То, о чем мечтал создатель рационалистической философии, попытался осуществить в Англии чеcтерский епископ Джон Вилькинз в своем труде «Опыт реального выражения и философского языка», изданном Королевским обществом в Лондоне в 1668 г.
В своем трактате, состоящем из четырех частей (первая содержит «Пролегомены», вторая — «Универсальную философию», третья — «Философскую грамматику» и четвертая — «Реальное выражение и философский язык», то есть проект нового усовершенствованного языка), Вилькинз исходит из критики несовершенного способа выражения посредством существующих и существовавших ранее языков и из необходимости создать “реальное выражение” путем письменных знаков и путем звуковой речи строго на основе философcкой классификации понятий, априорно охватывающей всё содержание мышления.
В главе IV части I, например, он говорит о несовершенcтве слов в языках, о присущих им “двусмысленности”, “вариабильноcти” и “синонимичности”, о “сомнительной” фразеологии, об ошибочном способе письма. В частности, он указывает, что „двусмысленности проистекают от различных значений слов, которые неизбежно делают речь двусмысленной и темной; и это доказывает отсутствие достаточного количества слов. Таковыми слова являются или в своем абсолютном значении или в фигуральной конструкции, или вследствие фразеологии“. И далее приводится пример латинского слова liber (книга), имеющего несходные значения у литераторов, политиков, ораторов и крестьян.19![]()
Другое дело — философский язык, основанный полностью на классификации “вещей и понятий”, непосредственно и точно фиксирующий мысль.
В этом языке знаки должны быть составлены так, чтобы их взаимозависимость и взаимоотношения точно отражали взаимозависимость и отношения соответствующих вещей и понятий. Письменные знаки и имена предметов, то есть и система письменного выражения и ее звуковой эквивалент, передаваемый буквами, должны отражать в своем системном порядке сходства и противоположности, которые заложены в “природе самих вещей”. Этот “естественный метод” выражения оказался бы очень важен для развития мышления, так как „изучая знаки и имена вещей, одновременно просвещались бы относительно самой природы этих вещей“.
В соответствии с этими положениями Вилькинз построил классификацию “вещей и понятий”, разделив их на сорок классов и проведя дифференциацию внутри классов. Затем он предложил систему буквенных обозначений, наподобие алгебраической нотации, и цифровых знаков, в соответствии с указанными выше принципами, то есть ряд основных сочетаний, которые соответствуют таблице понятий (“азбука ума”).
Таким образом, Вилькинз свел язык к простой и всеобщей иероглифике формально-логических понятий и формально-логических отношений между ними, сведя мышление, познание, к априорно возможным сочетаниям понятий в пределах неизменных отношений между ними. И как только действительный опыт потребовал бы изменения в классификации “вещей и понятий”, например, разошелся с такой классификацией животных: “без крови”, “рыбы”, “птицы”, “звери”, тотчас же пришлось бы ломать систему мышления и языка, не допускающую существования “кита” и т.п., либо в угоду “философскому языку” остановить всякое движение мышления. С другой стороны, нетрудно заметить голую, выхолощенную абстрактность и общность или же, наоборот, оторванную от общего, негибкую логически примитивную, но педантическую конкретность “реального выражения”, его формальную неподвижную “точность”, которые делают “язык” безнадежной помехой действительной мысли уже потому, что каждая сторона, каждый элемент конкретного понятия — и все понятия вообще — закреплены постоянными и неизменными отдельными знаками. Такой язык неизбежно обрекает на полную невозможность выражения многогранной взаимосвязи и взаимопроникновения понятий, отражающих действительность.
Этот опыт заслужил сочувственное внимание со стороны Лейбница, который, однако, указал на существенный недостаток проекта Вилькинза.
Лейбниц писал Томасу Бюрнету 24 августа 1697 г.:
Таким образом, Лейбниц не только поддерживал идею Декарта о философском универсальном языке, но даже сам был близок к тому, чтобы попытаться разрешить ее практически.
Незадолго до смерти в письме к Ремонду Монмору из Вены 10 января 1714 г. Лейбниц возвращается к этому же вопросу, который занимал его всю жизнь:
Следовательно, и Лейбниц думал о такой коренной перестройке языка, которая, с одной стороны, радикально облегчила бы технику речи, упростила обмен мыслей и расширила до всемирного масштаба распространение идей, сняв языковые границы общения людей различных стран, а с другой — преодолела бы противоречия между языком и мышлением и, вместо окольного опосредствующего пути языкового выражения мыслей, открыла бы возможность непосредственного, точного, строго адэкватного выражения мышления, минуя отложившуюся в языках и навязываемую ими — в словах и словосочетаниях — систему значений, так или иначе иллюзорных, толкающих на ошибки. Лейбниц отказался признать проект Вилькинза философским языком, как в свое время Декарт — проект неизвестного автора. Но и сам Лейбниц в этом направлении не смог конкретно предложить ничего другого. Он пришел к той же идее “алфавита человеческих мыслей”:
Эта идея построения “всеобщей характеристики” не только очень близка к вилькинзовским принципам, но и отчасти восходит к схоластическому опыту Раймонда Луллия, к его «Ars magna» и «Ars brevis», где познание сведено к теории механических соединений понятий, а “язык” трактуется в плане средневекового реализма, и даже глубже — к той совершенной «Signature rerum», которую искали античные мыслители в числовой символике пифагорейцев.
Но лингвистические утопии XVII и XVIII вв. имели другое качество. Они ярко отразили протест против феодального мировоззрения, новые идейные тенденции буржуазного развития, в частности, рационалистической критикой исконного языка, “данного от бога”, и стремлением к установлению беспрепятственного международного обмена научными идеями, стремлением ко всеобщему космополитическому языковому общению, максимально способствующему торжеству могущественного человеческого разума. С другой стороны, искания философского языка имели гносеологический смысл: они служили цели построения логики отношений. В XVII в, заново встала проблема генезиса и сущности языка, его отношения к мышлению. Для Лейбница характерно, что его мысли об универсальном философском языке не были связаны с его же объяснением генезиса речи при помощи звукоподражательной теории, развивавшей отчасти соответственные идеи, изложенные Платоном в «Кратиле». Лейбниц исходил из принципа, что первоэлементы звуковой речи, — таковыми он считал отдельные звуки (он называет их буквами), — связаны с известным значением “в силу прирожденного инстинкта” людей: например, анализируя значения слов со звуком r в различных языках, Лейбниц пришел к убеждению, что этот звук исконно означает сильные движения и вызываемое ими резкое акустическое впечатление, а l означает более тихий шум или быстроту движения и т.п. Но по различным причинам большинство слов претерпело существенные изменения и искажения, удалившись от своего первоначального произношения и “оригинального значения”.26![]()
Таким образом, Лейбниц разделял ошибочные антиисторические представления об отдельных звуках существующих языков как изначальных единицах речи и о звукоподражательном генезисе речи, мнимо объясняющем “естественную” связь звука со значением.
Не ясно ли теперь, что языковые идеи Хлебникова двигались под знаком скорее “пассеизма”, чем “футуризма”, что Хлебников занимался больше идейным реставраторством, чем сокрушением старого во имя строительства нового. Лингвистические “открытия” Хлебникова были сделаны не позднее XVII в.
В самом деле, Хлебников покорно повторяет известные нам мысли Декарта, Вилькинза, Лейбница, пользуясь их терминологией и только варьируя частности. Хлебников говорит об азбуке ума, об азбуке понятий, о строе основных единиц мысли и о задаче дать основным единицам разума начертательные знаки. Он так же стремится к идеалистически-иллюзорному преодолению противоречий между языком и мышлением и так же далек от понимания действительной исторической взаимосвязи между ними. Совершенно так же иллюзорны его взгляды на генезис и специфику звуковой речи, на ее развитие, и столь же метафизична его теория всемирного языка. Оригинальность Хлебникова только в том, что теорию всемирного языка он своеобразно сочетал воедино с теорией “естественной” связи первоэлементов речи — отдельных звуков существующих языков — с единицами мысли. Из попытки такого сочетания и родился принцип “зауми”.
Гора родила мышь... Философские основания критики существовавшего языка и поисков нового, усовершенствованного, идейное содержание реформаторских стремлений мыслителей-рационалистов остались для Хлебникова в стороне. Он подхватил формальную и, так сказать, техническую сторону их исканий, вышелушил содержание и эклектически сочетал с идеями совсем другого плана и другого масштаба. Замыслы “универсального” языка и реального выражения преломились в концепции Хлебникова, как в кривом зеркале, получили почти пародийный характер.
Так, с почти пародийной неожиданностью Хлебников обнаружил, что основные элементы рационализированного языка совпадают, в сущности, с первоэлементами “исконного” языка, и проблему реформации языка превратил в проблему реставрации генетических отношений, освободившись от задачи дать всеобщий анализ содержания мышления.
Хлебников полагал, вопреки мнению Лейбница, что эти первоэлементы речи не утратили, как выражался Лейбниц, своего “оригинального значения” и могут быть без особого труда восстановлены там, где их затемнило “дневное” значение, заслонило “бытовое”, житейское словоупотребление. Нужно только “открыть” соответствующий способ. В нем — секрет нового словотворчества писателя.
Бытовое значение слова, — писал Хлебников, — так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи ‹...› Самовитое слово отрешается от признаков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки. Он говорит о “дневном” и “ночном” разуме слова, о “звездном” значении. Значение слов “бытового языка” нам понятно в силу условной традиции: слово ‘солнце’ в условном мире людского разговора заменит прекрасную, величественную звезду. Слово ‘солнце’ — звуковая кукла, условно изображающая солнце. Но язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки ‹...› А если брать сочетания этих звуков в вольном порядке, например, бобеоби, или дыр бул щел, или манчь, манчь, чи брео зо, — то такие слова не принадлежат ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но все-таки существующее ‹...› как таковые они что-то значат. Но так как прямо они ничего не дают сознанию ‹...› то эти свободные сочетания ‹...› названы заумным языком. Заумный язык — значит, находящийся за пределами разума ‹...› То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него есть особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.27![]()
Итак, “заумный” язык это — свободные сочетания основных элементов речи и, как таковые, отнюдь не бессмысленные, но имеющие власть над сознанием, то есть нечто значащие, хотя их значение потенциальное, неясное, “сумеречное”, потому что оно не закреплено широкой практикой общения или вытеснено этой практикой. Однако “естественное” их значение может быть разумно вскрыто, реализовано сознанием, если погрузиться в тайны языка, ибо язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его.28![]()
Все дело в том, чтобы вскрыть таящиеся под спудом исконные всеобщие основные значения “основных единиц речи” — согласных и гласных звуков. Таков путь сделать заумный язык разумным:
В погоне за разоблачением “мудрости языка” (пусть сравнительное языкознание придет в ярость) Хлебников, “открывая” значения гласных, указывает на внутреннее склонение слов, на склонение по падежам основы:
Таким образом, с одной стороны, Хлебников стремился реформировать язык в направлении, навеянном философско-рационалистической концепцией универсального языка, “реального выражения”, на основе классифицированного содержания мышления, путем закрепления основных “единиц речи” за основными “единицами ума”, за “точными понятиями” (“логикой” пространственных отношений, в частности), а с другой стороны, он отказывался от условности этого закрепления с точки зрения выбора языковых знаков, претендуя на раскрытие “естественной” исконной связи знака и означаемого в духе натурфилософских лингвистических теорий, во многом восходящих к сократовским рассуждениям в «Кратиле» о воспроизведении в звуках речи “сущности вещей”.
Отсюда — вопреки философскому рационализму — признание за языком не только самостоятельной, но даже верховной гносеологической роли. Ни в чем не сказался так своеобразно языковой фетишизм Хлебникова, как в его исходном положении, что в языке столько простых имен, сколько единиц в его азбуке. Это значит, что азбука ума, или классификация понятий — “всеобщая спецификация” по терминологии Лейбница, — основывается на “азбуке” языковой, а не наоборот. Это значит, далее, что надлежит не столько приспособливать язык к мышлению, к чему стремились реформаторы-рационалисты, сколько, доверившись мудрым тайнам языка, тайнам мистифицированным, сделать “раскрепощенный” язык, самовитое слово хозяином мысли или по крайней мере ее полновластным путеводителем в дебрях неизведанного. Поэт — речетворец, властелин языка — тем самым оказывается повелителем мысли. В самом языке таится премудрость, potestas clavium — могущество ключей. И техника языка — ключ к своеобразной “логике открытий”, о которой мечтали метафизики-логисты и которую Хлебников извлекает из недр языка путем фантастических операций. Ведь слова — живые глаза для тайны.
Так явления омонимии, звукового подобия или тождества разнозначащих слов из частичного средства каламбурного выражения, то есть игры понятиями путем реализации неожиданного столкновения в слове вытесняющих друг друга значений (двусмысленность), превращаются в основной семантический принцип или закон, призрачно управляющий движением мысли и мнимо вскрывающий “сущность вещей”, их “тайные” связи и отношения: бок — бык, лес — лыс, вол — вал, или: чан — чаша — чулок и пр. Или по поводу деепричастного неологизма крылышкуя (Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил ‹...› и т.д.) Хлебников замечает: Крылышкуя ‹...› потому прекрасно, что в нем, как в коне Трои, сидит слово ‘ушкуй’ (разбойник) ‹...›31![]()
![]()
Так, способ выражения определенных грамматических отношений и связей слова — падежи — мнимо усматривается там, где имеются просто сходнозвучные, но различные слова, и превращается в мнимый показатель противоположного качества понятия, чтобы в этой своей роли направлять мышление.
Имманентные и неизменно действующие “законы” языка, усматриваемые Хлебниковым, совпадают с такими же “законами” творческой интуиции.
Вряд ли Хлебников знал, что фонетическое изменение основы в древнейшие периоды развития речи, действительно означало изменение смысла основы — играло собственно семантическую, а не морфологическую роль, и что подобная роль сохранилась в так называемых тюркских языках, но не в русском, где фонетическое изменение основы, поскольку оно наблюдается, выступает именно как “внутренняя флексия”, то есть может служить выражением только “грамматических значений” и не меняет смысла основы. А если бы Хлебников и знал об этом, то всё равно отмахнулся бы от “невежества” языковедов.
Дело в том, что языковая позиция Хлебникова насквозь, принципиально архаистична.
При всей фантастичности “открываемых” Хлебниковым “законов” языка, эти “законы” почти всегда отражают, хотя бы неточно и искаженно, действительные явления развития языка на отдаленных от нас исторических этапах. Хлебников ищет языковой “золотой век” в глубинах истории. Это и значит: разрушать языки осадой их тайны. Не только иллюзорное внутреннее склонение (бык — бок) отбрасывает к пережитым этапам языкового сознания.
Таковы же разнообразные попытки своеобразно повернуть структуру языка в сторону синтетизма, возвратить — на новой основе — всем его элементам эмпирическую конкретность значения, ту самую конкретность, которая в способе выражения соответствовала синтетической конкретности примитивного мышления и которая для высокоразвитого обобщающего и абстрагирующего мышления, способного с неизмеримо более достоверной конкретностью отражать действительность, явилась бы по меньшей мере невыносимой обузой.
Подобно тому, как Хлебников предлагал носить вместо одежд средневековые латы белого цвета из того полотна, которое теперь служит для жалких воротничков и нагрудников («Предложения»), он хотел из относительно легкой и тонкой “материи” языка, эластично реализующей общие контуры и все изгибы современной мысли, сделать “латы” по старинному образцу, латы примитивной конкретности, пышные, но неудобные и вредные, — бутафорские латы из полотна… Вредные потому, что такого рода конкретность искажает реальные связи и отношения действительности. Он хочет вернуться к аглютинативному типу словообразования, чтобы вместо неконкретного слова ‘обувь’ говорить че-ноги или вместо ‘чаши’ — че-вода (где че — оболочка). Он стремится образовывать особые слова для обозначения единичных и частных понятий, которые выражаются в современном языке соответственными общими словами-понятиями путем уточнения, конкретизации их значения, по мере надобности, аналитическими средствами контекста, синтаксиса, без отрыва, что очень важно, единичного и частного от общего.
Так, мы видели уже, что вместо слова ‘летчик’ Хлебников, в соответствии со своими принципами индивидуализирующей конкретной детализации, предлагает слова: летатель для “общего обозначения” (общее понятие), летун для летчика-неудачника, летай для знаменитого летчика. Вместо аналитического выражения: “радость полета” предлагается отдельное слово леторадость и т.п. Точно так же он занимается с маниакальной настойчивостью созданием производных от корнесловов “люб(овь)”, “сме(х)” и т.п., пытаясь ввести в язык множество отдельных слов для выражения всевозможных оттенков соответственных общих понятий, закрепленных в языке, и полагая, что этим он обогащает язык. Более разительным примером, чем известное стихотворение «Заклятие смехом» («О, рассмейтесь, смехачи!»), может служить прозаический отрывок «Любхо», сплошь состоящий из дериватов ‘любви’, в огромном большинстве изобретенных автором: Залюбясь влюбяюсь любима люблея влюблисвах в любви любинеющих, любки, любкий, любрами олюбрясь нелюбрями залюбить ‹...› и т.д., — свыше четырехсот производных от корнеслова люб.33![]()
Можно подумать, что перед нами стилизация под примитивный язык некоего “любвеобильного” племени, — язык, в котором, за отсутствием развитого отвлеченного, обобщающего мышления каждый отдельный оттенок смысла, каждое отдельное впечатление, состояние, действие, свойство выражается отдельным специальным словом, как, например, в языке Эвэ, где имеется свыше тридцати различных “наречий” — прилеп, присоединяемых только к глаголу ‘зо’ — ходить — для выражения различных типов походки и поступи, причем, конечно, общего понятия в нашем смысле — ‘ходить — ходьба’ нет вовсе, и глагол ‘зо’ выражает не ‘ходить’ вообще, а в связи с прилепами всегда только определенную манеру ходить.
По свидетельству исследователей, в речи австралийских племен отсутствуют выражения общих понятий — ‘дерево’, ‘птица’ и пр., а есть только отдельные термины, обозначающие такую-то породу деревьев или птиц.
Далее, чрезвычайно характерно стремление Хлебникова построить классификационную азбуку ума на основе пространственных отношений, то есть его идея, что основные “первоэлементы” речи, соответствующие основным “единицам ума”, выражают пространственные отношения. И здесь выступает глубочайший архаизм. Так „язык кламатов (индейцы Северной Америки) стремится выразить прежде всего пространственные отношения, то, что может быть удержано и воспроизведено зрительной и мышечной памятью: это свойство выступает тем ярче, чем дальше мы углубляемся в прошлое кламатского языка“.34![]()
![]()
Не менее показательна хлебниковская теория звукописи:
В другом месте:
Очень характерны и направление “звукописно” интерпретирующего разложения слова ‘лебедь’ в сторону мнимой реставрации описательной синтетичности, “картинности” его значения, и стремление к звуковому воспроизведению цветов. Описывающие звуковые образы или жесты — типическая черта стадиально далекого языка. Опять перед нами архаистическая стилизация языка. В языке племени Эвэ „есть такие звуковые картины, которые сопутствуют выражению цветов, степени полноты скорби, благосостояния и т.д. Не может быть никакого сомнения в том, что многие из слов в собственном смысле (существительных, глаголов, прилагательных) произошли от этих звуковых картин. Это — не звукоподражательные слова в буквальном смысле. Это скорее описательные голосовые жесты“.37![]()
И это не случайно, если вспомнить, что принцип “звукописи” гласил, что она является питательной средой для всемирного языка.
Таким образом, в основание системы “всемирного языка” и преобразования языка поэзии Хлебников пытался положить структурно-семантические принципы, больше характеризующие одну из древнейших стадий в развитии звуковой речи, чем “язык будущего”, как бы его себе ни представлять.
Это стремление вовсе не было невольным, неосознанным. Хлебников с сочувственным интересом размышляет о древнейших этапах речи. Певучему дикарю созвучие помогло не растеряться в хаосе слов, делало выбор, боролось с большими числами языка — записывает он. В другом месте, строя этимологические догадки, он утверждает, что в именах числительных сквозят занятия родового быта, что особой родовой единицей вызвано одинокое имя сорок ‹...› и т.п. Хлебников даже записывает фразу, свидетельствующую о том, что в своих фантастических блужданиях вокруг древних “тайн языка” он иногда натыкался на мысли глубокого научного значения: рука — то же сознание.
Он задумывается над вопросом о магической речи, священном языке язычества, его роли и действенности:
Следовательно, новое самовитое слово должно быть сближено с магической речью. Исходя из своего основного положения об исконной значимости мнимых “первоэлементов” речи — отдельных звуков, Хлебников должен был сделать вывод, что мудрость волшебной речи разлагается на истины, заключенные в отдельных звуках: ш, м, в, и т.д. Мы их пока не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди — ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин ‹...›40![]()
Из работ Н.Я. Марра мы знаем о характере древнейшей “магической” стадии звуковой речи и культового жреческого языка. Мы знаем о пережиточных магически-производственных языках, например, охотничьих на Кавказе, у сванов или абхазцев. Слову приписывалась сила непосредственного воздействия на материальный мир, звуковая речь выступала в функции своеобразного орудия производства, а не средства обыденного общения людей. Лишь много позднее звуковая речь спустилась в мир обыденных предметов и представлений, выделившись из первобытного производственного процесса, неразлучного с “магией”, и заменив как средство общения более древнюю ручную кинетическую речь. Звуковая речь постепенно перестала быть исключительным достоянием первобытных “идеологов” — магов или жрецов, которые выделились в привилегированную социальную группу при разделении труда внутри коллектива, поскольку их культовое “производство” представлялось реальным и жизненно-важным.
Пройдя сквозь множество этапов мистифицированных представлений о таинственной силе слова, древнейший языковой фетишизм преломился у Хлебникова в убеждение, что в недрах волшебной речи заговоров и заклинаний таятся “мировые истины”, неведомые для непосвященных, и что “мудрость” языка шла впереди наук.
Из этого убеждения вытекают хлебниковские идеи о “ночном” и “дневном” разуме слова, о языке “будничного рассудка” — “бытовом” языке, которому противостоит полуиррациональный “звездный”, “заумный”, освобожденный от служения повседневной практике язык “мировых истин”, язык высокой идеологии, или, что то же, язык поэтический. Хлебников предлагал разделить всё человечество на изобретателей и приобретателей («Предложения»). Изобретатели — это, конечно, идеологи, ведающие тайны естества и язык “мировых истин”. Изобретатели — это, в частности, подлинные поэты, ведущие осаду тайн языка и образующие Правительство Земного шара (нечто вроде платоновской утопии — правления философов). Приобретатели — это “все прочие”. Будничный язык житейской практики только компрометирует язык “мировых истин”. Хлебников рекомендовал заменить его языком чисел:
Так мечты о всемирном языке парадоксально сочетались с идеей своеобразной оглядки на палеонтологические языковые отношения; звуковая речь возвращается — конечно, на новой основе и в новом качестве — в лоно жрецов-изобретателей как монопольное орудие их интуитивно-идеалистического “производства”.
Поэт — речетворец. “Произведение искусства — искусство слова”, причем „слова как такового“. Задача поэта — словесное изобретательство в широком смысле, потому что гносеологические убеждения Хлебникова отождествляли слово с логосом-разумом, а внутренние отношения, законы языка — с законами сущего. Познание — чистый акт освобожденного словотворчества. Не только посредством языка познается мир, — познание дано в языке как таковом. Собственная “логика” языка есть “логика” действительности. Раскрытие тайн языка — в процессе словотворчества — и есть раскрытие тайн действительности в системе полумистических отношений и сопричастий. Науки движутся за языком. Язык наделяется собственным содержанием, и это содержание объявляется реальной действительностью, так что изменение действительности рассматривается как изменение слова.
Хлебниковский пафос называния был пафосом иллюзорного овладения действительностью, пафос словотворчества — пафосом иллюзорного изменения действительности. Таково основание хлебниковской “магии слова”.
Отсюда тезис, что
Или:
Это явствует для Хлебникова из слов: лямка, лопасть, лист дерева, лыжа, лодка, лук и пр.
Или:
Отсюда — и такая мотивировка хлебниковского “закона” первенствующего “основного” значения первого звука слова:
Отсюда — чрезвычайно характерное осмысление, например, социальной революции прежде всего как изменения слова-имени (в поэме «Ладомир»):
Или:
Для Хлебникова здесь не метафорическое выражение и не каламбур, но раскрытие тока судьбы, воли истории через словотворчество, через откровение в языке:
В своего рода лингвистической натурфилософской “мифологии”, “чарах слова”, раскрываются для Хлебникова тайные “законы” мистических связей и сопричастой, прозреваемых и в “роковой” смене первого согласного звука слова, и в том, что слова-родичи должны иметь далекие значения, и в “звукописной” образной интерпретации словесного значения, указывающей путь к новому словообразованию. Совершаемые по определенным правилам комбинации “мудрых” лингвистических элементов, данных в языке, рождают новый смысл, движут мышление.
Поэтому не только ‘дворянам’ противостоят соотносительно далекие творяне, но и, например, именам рек Днепр и Днестр — поток с порогами и быстрый поток — можем построить Мнепр и Мнестр, быстро струящийся дух личного сознания и струящийся через преграды пр, красивое слово Гнестр — быстрая гибель ‹...›,46![]()
И мы уже нисколько не удивляемся, когда узнаем от Хлебникова о познавательной ценности опечатки: Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества, и поэтому может быть приветствуема, как желанная помощь художнику. Слово ‘цветы’ позволяет построить мветы, сильное неожиданностью ‹...› и т.д.47![]()
И, читая программные хлебниковские стихи:
мы прежде всего должны отрешиться от мысли о “звуковой инструментовке стиха” и традиционной “звукоподражательности”, так как Б означает ярко-красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми — синий, и потому глаза синие, пиээо — черное. Неудивительно, что Топорков недоуменно смеялся ‹...› и смотрел на стихи, как дикий кавказский осел на паровоз, не понимая его смысла и значения.
Затем, мы должны вообще учесть, что поэт смотрит на изображаемое лицо “глазами слуховых видений и звуков”, что он живописует его вне протяжения, на холсте каких-то соответствий — звуков речи и сущности вещей, — о чем говорилось выше. Наконец, мы должны помнить, что губы, взоры, брови, облик “поются” самовитым словом, а не “бытовым”, порабощенным “будничному рассудку”, и что звуковые очереди, представшие нашему слуху в таких словах, как бобэоби, образуют ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин.49![]()
Здесь напрашивается вопрос: нет ли близкой связи лингвистических воззрений Хлебникова с лингвистическими принципами символистов, его непосредственных литературных предшественников.
Эта связь была бы несомненной, даже если бы Хлебников сам не указал на нее:
Но нет нужды обращаться к французскому символизму. Достаточно вспомнить теоретические высказывания Бальмонта, Белого, Вяч. Иванова и языковую практику русских символистов.
В общетеоретическом плане связь очевидна: и там и здесь — идеалистическая концепция особого поэтического языка, языка богов, отгороженного от “языка быта”; и там и здесь — признание за словом, как таковым, ведущей суверенной роли в творческом познании мира и его преображении путем философско-поэтической интуиции; и там и здесь — понимание поэта как тайновидца и тайноведа-прорицателя, прежде всего как тайноведа языка; и там и здесь попытки своеобразной натурфилософии языка неразрывны с антиисторическим стремлением к модернизованному реставраторству.
Еще более разительна близость отдельных конкретных положений. Достаточно нескольких цитат, чтобы обнаружить эту близость.
Так, Бальмонт писал, ссылаясь, между прочим, на философскую сказку Эдгара По «Могущество слов», на древнеиндийскую натурфилософию и тому подобные источники, что „стих вообще магичен по существу своему, и каждая буква в нем — магия. Слово есть чудо. Стих — волшебство. Музыка, правящая Миром и нашей душой, есть Стих...“ Утверждая, что „в мире есть чародеи, которые магическою своею волей и напевным словом расширяют и обогащают круг существования“, Бальмонт считал, что язык черного австралийца „богаче своими сочетаниями любого языка белолицых и имеет такие формы, каких не достиг язык гордых римлян...“51![]()
Так, Вяч. Иванов писал:
Так, наконец, А. Белый, решительно восставая против языка “предметных понятий”, „порожденных “материальными условиями жизни”“, и призывая к “оживлению” корнеслова и звуковых образов-жестов, писал:
Возрождение цветущего слова — „преодоление имагинации слова при помощи инспирации слова“ — Белый усматривал в освобождении от „стылого смысла понятий“, запечатленных в „мертвых терминах и корнях“. Путь к „инспирации“ — в метафоре, заключающей „потенцию мифа“. Всё это проясняется обращением Белого к историческим истокам звуковой речи, к изначальной поре “цветения” слова:
Внимательному читателю должно быть ясно, что философия языка символистов — другая, не менее, если не более существенная опора хлебниковских воззрений, чем опора на идеи философского рационализма.
Теория Хлебникова эклектична. Символисты мыслили куда глубже с точки зрения своих мистико-идеалистических позиций. У Хлебникова не было определенной философской перспективы. Так же, как он не дошел до построения системы “реального выражения” по вилькинзовскому методу всеобщей формально-логической классификации понятий, ограничившись беспринципным и хаотическим опытом пространственной азбуки ума, — он не пошел, последовательно и до конца, по пути символистской концепции литературного слова. Из гносеологии символистов он усвоил твердо, во-первых, тезис о словесной природе познания (примат языка); во-вторых, учение о двойственности, “двух стихиях” познания и, следовательно, слова (внутренний и внешний опыт, дневной и ночной разум, будничный и самовитый язык); в-третьих, актиисторическую регрессивную концепцию развития мышления и языка (идеализация примитивных стадий речи).
Но и здесь характерно для Хлебникова равнодушие, заметный холодок по отношению к мистико-религиозным предпосылкам символистов, к их отрицанию действительности вне познания и к иррациональной трактовке познания, к их глубокому недоверию к понятийному мышлению. Интуиции, “раскрываемые” Хлебниковым в языке слов — и в “языке” чисел, математике, — носят всегда рационалистический характер в конечном счете. Хлебников не отвергает “языка понятий”, но всячески стремится его реформировать, “уточнить” и “оживить”. Свою задачу он видит в том, чтобы даже заумное слово сделать “умным”, то есть логически-содержательным. Интуитивизм Хлебникова, вся его метафизика языка носит рационалистический, логизированный характер. Идеалистический отрыв от действительности тут не меньший, но формы его своеобразно иные.
Во-вторых, характерно преобладание у Хлебникова интереса к технике языка — в широком смысле. Символистов техника языка глубоко интересовала, но не сама по себе, а как средство материализации, обнаружения „касаний к мирам иным“, как неизбежно непрямое, приблизительное, символическое выражение „внутреннего глагола“, слова-логоса. Для Хлебникова же языковая техника, способ выражения совпадают с “логикой открытий”, законы грамматики, строя речи так же, как и законы чисел, стоят “впереди наук” и управляют всяким познанием. Здесь — начало своеобразного формализма, характерного для футуристов.
Теперь осталось взглянуть на основные спосооы словотворчества Хлебникова в их практическом применении.
1. Звукопись — в хлебниковском понимании. — Она была использована практически как чистый принцип словотворчества в сравнительно небольших, так сказать, лабораторных масштабах в виде опытов приближения к всемирному языку, хотя именно эти опыты и вызвали критическую бурю; пример звукописи с комментарием на обыденном языке из программной поэмы «Зангези»:
2. Звездный или всемирный язык, покоящийся на знакомой нам азбуке понятий, на практике в чистом виде совсем отсутствует. Но, например, в стихотворении «Царапина по небу», с подзаголовками: «Прорыв в языки. Соединение звездного языка и обыденного», Хлебников дает опыт такого “соединения”:
3. Несравненно шире круг новообразований от наличных основ. Этот способ синонимического “раскрепощения” языка и мышления применяется в известном сочетании, по большей части с принципом звукописи, — например, стихотворение:
Кроме словообразовательных вариаций, путем простого присоединения к основе старых префиксов и суффиксов, встречает нас словопроизводство осложненное, во-первых, переосмыслением, “переразложением” морфологического состава того словесного материала, которым оперирует Хлебников, и, во-вторых, иллюзорным этимологизированьем значений элементов слова, — например:
где фонетические комплексы –айность и –айн (тайность, тайна) осмыслены как словообразующие суффиксы; или же: людел по мнимой аналогии с ‘раздел’, врачесо при ‘колесо’ и т.п.
4. Отсюда нечувствителен переход к кругу новообразований на чистой омонимически-каламбурной основе, по принципу “соединения двух значений” путем замены “командующего” смыслом начального согласного звука слова: заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую ‹...›, слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение зыблется, слово воспринимается как знакомец, с внезапно незнакомым лицом, или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое, — например, не только дворяне–творяне, но и тайна–майна, и князь–мнязь, и полон–молон и т.п.
5. Словотворчество Хлебникова происходило и путем сложения наличных основ:
6. Кроме различных путей создания новых слов, речетворчество Хлебникова шло путями семантических “реформ” в процессе использования старых слов и синтактико-композиционного строя речи. Здесь опять выступает прежде всего метод омонимически-каламбурных сближений понятий и переосмыслений связей и отношений, — например, в поэме «Лесная тоска»:
Разновидность этого метода — организация словосочетаний по мнимому закону внутреннего склонения слов, о котором шла речь выше и который оказывается семантическим принципом организации не только отдельных словосочетаний, но и целой смысловой композиции, — например, стихотворения «Я видел»:
Третий вид того же омонимического метода смысловых “открытий” представлен композиционным принципом строго проведенной обратной или перевернутой омонимии, — таковы многочисленные перевертни Хлебникова, например, даже целая поэма «Разин», написанная в 1920 г. и названная Хлебниковым очень характерно: Разин в обоюдотолкуемом смысле:
Эта поэма, стоившая огромного труда, не оставляет сомнений в том, что Хлебников видел и в перевертне не “литературный фокус” и словесную “забаву”, не фонетическую “игру”, а способ вырвать у языка смысловые тайны. В соответствии со своими принципами, Хлебников полагал, что и перевернутая омонимия, в которой он видел одну из мудрых возможностей языка, способна, если только умело воспользоваться ею как принципом отбора и сочетания слов в контексте, дать поэме непреложный и необходимый смысл. Этот принцип представлялся, так сказать, объективным надежным критерием познавательной силы, достоверности тех таинственных связей и сопричастий, которые возникали из контекста в результате соединения слов по признаку омонимии. Ведь слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны, и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл (Хлебников). А в перевертне двойное значение слова “реализовано” прогрессивным и регрессивным звукорядом, и этого достаточно, чтобы ‘утро’ соединилось в контексте с ‘чортом’, а ‘олени’ с ‘синело’...
7. Для противодействия “книжному омертвлению” языка и для завоевания семантической “свободы” Хлебников вводил в язык литературы на правах неологизмов слова иноязычные, диалектные, арготические, причем, конечно, только такие, которые, по крайней мере в его истолковании, отвечали требованиям его языковой системы, и только тогда, когда эти слова рисовались в той или иной степени представителями “заумного языка в народном слове”. Иначе говоря, заимствуемые слова играли совершенно ту же роль, что и собственные неологизмы Хлебникова. Так, обильные собственные имена — географические названия или фамилии — не только были призваны “обогатить” язык словарем конкретно-единичных понятий, но в то же время своей фонетической экзотичностью и отсутствием заметных связей с морфологическим составом русского литературного языка открывали исключительный простор для самых разнообразных и неожиданных “звукописных” этимологизирований и омонимических сближений, особенно в рифмующем положении:
Так, если в статье «Разложение слова» Хлебников рядом с литературными ‘храм’, ‘хлев’, ‘хоромы’, ‘хижина’ выстраивает диалектные хибарка, хиба, хиза, хануля, храпа, хламина, хут, хорун, хизык и т.п., то это потому, что все они начинаются с X, а так как с X начаты двадцать видов построек человека, — значит X можно определить, как плоскость преграды ‹...› и т.д.54![]()
Так, японское ‘банзай’ или немецкое ‘хох’ чреваты двусмысленностью: ‘вонзай’ и ‘бог’, то есть важны потому, что расширяют круг омонимических сближений.
Так, загадочные онсы (онса — старинная испанскя и южноамериканская монета), вальпарайсы (Вальпарайсо — порт в Чили) и ондуры (ондуры или гондуры — жители Гондураса) в стихах («Ладомир»):
выступают едва ли иначе, как в знакомой нам функции “звукописи”.
8. Всё перечисленные способы “речетворчества” Хлебникова базировались на своеобразном использовании фонетических и морфологических явлений языка, на процессе их своеобразной семантизации.
Однако имеются и более общие принципы речевой композиции, которые можно определить как:
1) открытую метафорическую структуру смысла;
2) обособленность отдельного понятия-образа;
3) отрыв от реальных связей и отношений (подмена реального содержания собственным содержанием языка).
Например, стихотворение:
Метафоричность языка очевидна, — в противном случае стихотворение оказалось бы простым алогическим бредом. Но эта метафоричность — своеобразная. Во-первых, эта метафоричность — сплошная, где каждое слово, кроме местоимения ‘я’, ‘мне’, несет в себе ино-смысл. Во-вторых, отдельные понятия-образы не связаны между собою, а примыкают друг к другу в порядке объективно необусловленной последовательности. В-третьих, связаны они, как предикаты или атрибуты, с ‘я’, как подлежащим: все они — выражение субъективного содержания сознания ‘я’, то есть авторской личности. В-четвертых, и в плане этой единственной связи они дают не замкнутый смысловой ряд, а открытый: нет внутренней подчиненности и анализирующей последовательности в движении понятий-образов; все они обособлены и равноправны и “вольно” движутся, чередуясь, по зигзагообразной линии, как вереница причудливых видений, потенциально нескончаемых.56![]()
Всякая поэтическая метафора есть образование нового понятия-образа. Даже смелая “фантастическая” метафора служит осмыслению, “истолкованию” какого-то реального содержания, его различных сторон, его связей и отношений. Различны методы осмысления; различны и типы метафор. Но если содержание иллюзорно, оторвано от практики, в самом широком смысле этого слова, то оно совпадает, в меру своей иллюзорности, с ходом образования понятия-образа, отождествляется с самим процессом метафоризации. Это и есть метафора со своим собственным содержанием, метафора “как таковая”, самовитая метафора, продукт чисто словесного мышления, за которым непосредственно ничего реального не стоит.
Композиция самовитых образов покоится не на реальных связях, которые в выражении могут быть, конечно, и опущены, а как бы на системе таинственных сопричастий. В этом случае метафора выступает уже стилизуя тождество конкретного с конкретным.
Наконец, очень характерно синтактическое выражение автономии чередующихся образов: строй примыкания и перечисления, подчеркиваемый, в частности, сочинительными союзами ‘и’, ‘а’, ‘еще’.
Самая характерная черта хлебниковского творчества заключается в том, что главным героем его поэзии является язык: не элементом, не материалом, а основным содержанием, нередко единственным, как, например, в стихотворении:
Все особенности поэтической речи, все средства литературного выражения Хлебников фетишизировал, возведя их в некий закон содержания.
Освобождая литературный язык из плена традиций, Хлебников, незаметно для себя, сам попал в плен к языку, сделав его законодателем мысли. К этому парадоксальному тупику Хлебников пришел путем своеобразного сочетания формально подхваченных философско-лингвистических исканий XVII в. и философско-лингвистических принципов символистов. Другими словами, путем сочетания исторически характернейших для буржуазной идеологии в целом философско-лингвистических концепций — на основе рационализма и на основе интуитивизма-мистицизма, из которых первая отражала восхождение, а вторая — закат буржуазной культуры.
Противоречия, в которых метался Хлебников, и тупик, в который он попал, удивительным образом, как в зеркале, отразили концентрированную, сгущенную историю литературно-лингвистических иллюзий целой эпохи.
Он стремился к максимально-точному, адэкватному выражению, а на деле, обособляя язык от общественной практики, расшатывая объективную значимость его элементов, сплошь и рядом затемнял реальное содержание, населяя действительный мир лингвистическими фантомами связей и отношений, “освобожденными” абстракциями языка.
Он добивался максимально-конкретного, образно-индивидуализирующего, ощутительно-наглядного способа выражения, идеального поэтического языка, а на деле, запутавшись в иллюзионизме чувственно-эмпирической конкретности, бесплодно стилизовал язык под способ выражения и мышления давно прошедших стадий общественного развития (синтетическая “картинность” слова, звуковые жесты и пр., и пр.). И, таким образом, всё то, что присуще современному поэтическому языку, но в снятом виде и в роли побочных вспомогательных технических средств, он стремился сделать ведущим, определяющим качество выражения.
Мечтая согласовать строй языка с азбукой ума, рационализировать язык, он иррационализировал его путем “магических” операций с фонетическими элементами. Стремясь по-новому поставить на службу смыслу звуковую организацию стиха, он фетишизировал ее роль, возведя в закон семантического движения.
Таков же тупик, в котором оказался Хлебников с точки зрения языка как средства общения. Он стремился к общепонятному единому всемирному языку, а пришел к индивидуалистической и субъективной “звукописи” и “зауми”, которая могла казаться Хлебникову ценной только вследствие поразительной — даже для крайнего идеалиста — слепоты насчет социальной природы языка.
Индивидуалистический анархизм ярко отразился в хлебниковекой “реформе” литературного языка. Объективная реакционность этой “реформы” ни в чем не проявилась так открыто, как в стремлении уйти от национального по форме языка в собственное “речетворчество”, в стремлении довести обособление литературного языка от языка народных масс до пределов уничтожения языка как социального явления вообще. А бегство от действительности в идеальные сферы языка и фетишизация средств выражения, доведенная до пределов мировоззренческого принципа, заставляют рассматривать языковое новаторство Хлебникова в плане литературного декаданса. В этом новаторстве выступала тенденция к попятному движению литературного языка. Это было восстанием против исторической тенденции развития литературного языка как всеобщего и единого по форме, по строю и словарю и реалистического по содержанию. В лице Хлебникова мистагоги и литературные жрецы “дней новейших” притязали на обладание словом на правах частной собственности...
Но не следует забывать и того, что характерное для Хлебникова стихийное мелкобуржуазное бунтарство, при наличии большого поэтического таланта, позволило ему миров двух между создать несколько очень значительных художественных произведений, преимущественно поэм, в которых лингвистический иллюзионизм был отодвинут реальным содержанием, идейной силой на задний план. И можно только сожалеть, что творческая энергия Хлебникова была скована цепями реформаторских иллюзий, порочного творческого метода.
А влияние Хлебникова на литературу?
Главная причина этого влияния в том, что Хлебников с небывалой остротой выдвинул — если не теоретически, то практически — почти все основные проблемы языка поэзии, необычайно обострил чувство языка и внимание к нему. Он абсолютизировал специфику языка поэзии, метафизически раздувая черты и черточки действительных сторон, реальных тенденций языка. Он фантастически искажал историческую перспективу явлений. Он мистифицировал языковые факты. Но если его интерпретация и выводы были глубоко ошибочными в силу порочности художественных принципов, то всё же факты поэтического языка оставались фактами. Хлебников указывал на них, оперировал ими, и когда он обращался к социально значимому и социально действенному слову “общего языка”, это слово служило ему чрезвычайно искусно.
Поэтическое миросозерцание Хлебникова, нашедшее себе наиболее ясное и полное выражение в замечательной поэме «Ладомир», было расколото, несмотря на видимую цельность и стройность, на две глубоко противоречивые части.
Мотивы пантеизма и панпсихизма сочетались с мотивами научно-технической революции, с культом позитивных знаний, во всеоружии которых рисовался Хлебникову утопический человек будущего. Иллюзионизм :
сочетался с глубоким реализмом — другим лицом корня. Культ «первобытной мудрости» (Гайаваты, шамана и пр.) — с мотивами научного штурма космоса, с идеей практического овладения им:
Поэтическое мироощущение Хлебникова раскрывалось в системе неожиданных и далеких связей, многообразных и несводимых, опирающихся, с одной стороны, на отношения реальной действительности, а с другой — на оживляемую всеми средствами традицию мифа. Отсюда — своеобразная семантическая система хлебниковского языка поэзии — реалистическая и романтико-мифологическая в одно и то же время, — система, в которой, например, почти любое — с реалистической точки зрения — метафорическое словоупотребление выступает в хлебниковском контексте как “точный” термин, лишенный “переносного” смысла. И наоборот: терминологические ‘кувалда’ и ‘киюра’ или “сила рычага” почти лишены реального содержания, присущего им как терминам, потому что:
где созвездья ночи — отнюдь не в метафорическом, а в “буквальном” смысле.
Здесь основа богатейшего метафоризма и семантической “смелости” хлебниковского языка, поражающих читателя в известной степени также — и по тем же причинам — как и язык настоящей мифологии.
Различным образом и с разных позиций другие писатели подхватили поднятые Хлебниковым вопросы поэтического языка. Так, Маяковский широко использовал принцип выделения понятия-образа, вплоть до отдельного слова, и омонимический принцип композиции, например:
Но метафоризм, идущий от Хлебникова, получил у Маяковского более рационалистический, а впоследствии глубоко-реалистичеокий характер.
Так, В. Каменский использовал хлебниковекий принцип “звукописи”, а Пастернак — принцип открытой метафорической структуры стихотворения (примеров сколько угодно).
Так, имажинисты, развивая известные тенденции хлебниковского стиля, провозгласили новизну поэтического образа единственным содержанием стихотворения, а стихотворение — “каталогом образов” (В. Шершеневич, «Дважды два пять» и «Зеленая улица»), предприняв ломку синтаксиса — порядка слов — и грамматики — замена спрягаемых глагольных форм инфинитивом и т.п.
Так, конструктивисты, позаимствовав другие стороны хлебниковского стиля, принцип семантического “обновления” языка путем неологизмов, — объявили о принципе “локальной семантики” («Госплан литературы») и т.д. и т.п.
Советская поэзия в основном пошла по путям далеким от Хлебникова, и его влияния в плане языка и стиля на молодых советских поэтов, поскольку эти влияния имели место, были скорее отрицательным, чем положительным фактом. И это естественно, поскольку Хлебников довел до крайних пределов исторически исчерпанные тенденции развития поэтического языка вплоть до грани его самоотрицания. Хлебников был не началом нового, а скорее концом старого.
Хлебникова нужно знать не для того, чтобы у него учиться языку, а для того, чтобы сознательно избежать идеологически чуждых влияний и чтобы при разрешении проблем организации нашего поэтического языка извлечь урок из исторически назидательных ошибок.
В этом смысле — ошибки Хлебникова для нас интереснее и поучительнее его достижений.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 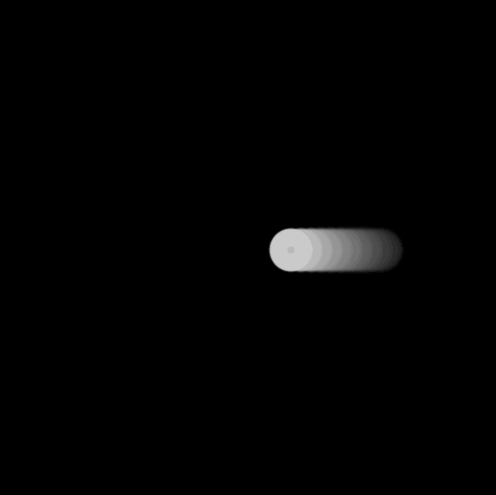 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||