

Подозреваю, что значителен Хлебников
А. Блок
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
В. Хлебников
Лет семь тому назад Николай Чуковский, вспоминая о Н. Заболоцком, рассказал на страницах «Невы», как решительно расходился он с поэтом в оценке хлебниковских стихов. Если до конца своих дней Николай Заболоцкий называл Хлебникова „величайшим поэтом XX века”, то Николай Чуковский с не меньшей категоричностью подчёркивал, что Хлебников для него был и остаётся „унылым бормотальщиком, юродивым на грани идиотизма, зелёной скукой, претенциозным гением без гениальности, усладой глухих к стиху формалистов и снобов”.
Н.А. Заболоцкий и Н.К. Чуковский — писатели тонкого художественного вкуса и широкого литературного кругозора. Тем не менее резко противоположными были оценки Хлебникова.
Самым удивительным во всём этом мне кажется тот максимализм, та страстная запальчивость и безоговорочность, с какой одни превозносят поэта, а другие его отвергают.
Кем же все-таки был Хлебников? — вправе спросить читатель, озадаченный только что приведёнными высказываниями. Почему он неизменно вызывал то преувеличенно резкие, то непомерно восторженные отзывы? В прошлом году исполнилось полвека с тех пор, как он умер. Казалось бы, давно настало время утихнуть спорам, сгладиться контрастам, сблизиться оценкам, чтобы с достаточной отчётливостью выявились и подлинный облик поэта, и место, занятое им в истории русской и советской литературы.
Потребность объективно разобраться в нём я испытываю очень давно. Я был знаком с Хлебниковым в дни моей ранней юности. Не с тем, вокруг которого группировались шумливые футуристы последнего предоктябрьского пятилетия. Того я не знал. Я знал другого, значительно повзрослевшего Хлебникова, жившего одинокой и внутренне сосредоточенной жизнью в тогдашней столице Советской Украины — Харькове.
Председатель земного шара жил в просторной, но поразительно захламленной комнате. Было это во флигеле, расположенном в глубине двора по Чернышевской улице, № 16.
Я впервые увидел его апрельским утром, когда, стремительно ворвавшись в его настежь открытую комнату, пригласил поэта на первое собрание преподавателей студии. Он сидел на незастеленном широком матраце и, скользя по мне непроницаемым взглядом, долго молчал, словно обдумывал услышанное. Наконец молчание прервалось странным, но отчётливым полушёпотом. Он медленно, чуть торжественно произнёс:
Меня нисколько не удивила такая “реакция” на наше клубное приглашение. Я знал, что иду к “футуристу”, и был готов ко всяким чудачествам. К тому же эти чуть напевно проскандированные слова не показались мне ни ироническими, ни неожиданными — ими начиналось его стихотворение, только что опубликованное в харьковском журнале «Пути творчества». Мне оставалось повторить приглашение и попрощаться.
Неделю спустя он пришёл без опоздания в назначенный срок на Московскую улицу № 20, и около трёх часов присутствовал на нашем собрании. Я говорю — присутствовал, потому что трудно было понять, слушает он или не слушает выступления писателей С. Гусева-Оренбургского, Мих. Козырева, Эмиля Кроткого, а также литературоведов А.И. Белецкого, И. Гливенко, Н. Жинкина, Евг. Кагарова, Бор. Лезина. Все они оживленно делились планами намеченных лекций и вечеров. Только Хлебников сидел отрешённо, никаких реплик не подавал и желания выступать не выражал. Наконец после настойчивых просьб поэт привстал, сухо сообщив, что им обдуман и разработан план двух лекционных курсов для студийцев. Один будет посвящён принципам японского стихосложения. Другой — методам строительства железной дороги через Гималаи...
Кратчайшее — не длившееся более минуты — выступление поэта сменилось недоумённой тишиной. Вопросов ему не задавали. Слишком ошарашила всех та будничность и деловитость интонаций, с какой он “сопрягал” Гималаи, железнодорожное строительство и нашу ещё не родившуюся литературную студию.
После собрания на ум приходили знакомые строки Маяковского: „Вошёл к парикмахеру, сказал — спокойный: „Будьте добры, причешите мне уши”. В тот вечер мне всё ещё казалось, что Хлебников то ли повторяет, то ли обновляет приёмы эпатажа, характерные для нашего предреволюционного футуризма. Вскоре, однако, я основательно убедился, насколько неправильно и ошибочно такое представление о нём.
У Гегеля где-то подчёркнуто, что нет большего оскорбления для истины, чем доказывать её анекдотами. Много всяких анекдотов — преимущественно трогательных — рассказывалось о так называемых чудачествах и странностях Хлебникова. В анекдотах этих большей частью не было неправды. Но не было в них и настоящей, большой правды, до которой так хочется доискаться, когда думаешь о нём.
В дальнейшем, встречаясь с Хлебниковым, я ясно чувствовал, что он меньше всего собирается кого-либо удивлять, поражать или поддразнивать. То, что он делал и предлагал, выражало его естественное и всегдашнее душевное состояние. Именно постоянным состоянием это было, а не позой и даже не литературной позицией. Он и не мог быть иным. В любых условиях он испытывал неизменную и органическую потребность мыслить большими протяженностями, жить интересами, далекими от того, что обычно называют литературной “спецификой”.
В годы военного коммунизма нас не удивляли никакие литературные гиперболы, мы к ним привыкли. В тогдашней поэзии, с преизбытком насыщенной фантастическими уподоблениями и космическими образами, гипербола была распространённейшим приёмом. Когда мы читали в «Поэзии рабочего удара» Алексея Гастева о кране, который поднимет Гималаи, поднимет всю землю и поставит её на новую орбиту, для нас и этот кран в эти Гималаи были символом почти столь же абстрактным, как и понятие “новой орбиты”. Но для Хлебникова Гималаи были не абстракцией, не патетической метафорой, а географической реальностью, и собирался он разговаривать со студийцами не о литературе, а излагать им свои соображения о прокладке путей из России в Индию...
Как бы то ни было, Хлебникова не утвердили преподавателем студии: программа его курсов явно не подходила, но по договорённости с правлением клуба мы приглашали его на наши поэтические вечера, так что моя связь с ним не прерывалась. К тому же мне повезло. Я жил на той же Чернышевской улице и, возвращаясь с работы мимо его дома, всё чаще заходил к нему.
Только однажды — дело было в один из первых майских вечеров — я увидел его по-настоящему взволнованным. Как-то, упомянув об особом отношении Льва Толстого к числу 28, я признался, что интересуюсь проблемой совершенных чисел. Поэт сразу же необычайно преобразился, заговорив со мной с такой страстностью и запальчивостью, какой я в нём не мог себе представить. Мысли его шли “наплывами” — беспорядочно и сумбурно, одна сбивала и перебивала другую, но всё же их было так много и показались они мне столь оригинальными, что, вернувшись домой, некоторые из них я поспешил записать.
Начал Хлебников с того, что хотя он тоже (подобно Толстому) родился 28 числа, вопрос о совершенных числах он считает третьестепенным. Мнимые числа — вот что его по-настоящему интересует. В них он видит ключ ко многим сторонам человеческой психологии. И он процитировал Виктора Гюго: „Дух человеческий открывается тремя ключами. Это — цифра, буква, нота. Знания, мысли, мечты — всё здесь”. Поэт признался, что цифры (а следовательно, и изображаемые ими числа) временами возбуждают у него больше эмоций, нежели буквы или ноты. В частности, благодаря такой категории чисел, как мнимые, он с особой силой чувствует, что помимо людей положительного и отрицательного существования есть немало тех, кого следовало бы назвать людьми мнимого существования. Это люди — амфибии, двоякоживущие люди, кто, присутствуя среди нас, живёт и поступает так, словно отсутствует.
Тогда же я впервые услышал от него поразивший меня своей художественно точностью неологизм — нехотяи. Если негодяями называют тех, кто делает дурно то почему бы не обозвать нехотяями тех, кто не хочет делать хорошее там, где им это легко и просто сделать? Разве мало по земле ходит таких нехотяев? — спрашивал своим удивительным полушёпотом Хлебников, словно позабыв, что наш разговор был посвящён не моральным вопросам, а совсем другой, казалось бы абстрактной, проблеме теории чисел...
Некоторые считают, что занятия числами и словотворчество представляли собой разные, не связанные меж собой сферы хлебниковской деятельности. Это абсолютно неверно. Между тем вот уже много лет, как в литературной среде бытует легенда о том, что Хлебников был чуть ли не специалистом по математике и, во всяком случае, автором математических трудов.
Всё это, мягко выражаясь, крайне неточно. Очень нетрудно убедиться, что никаких математических работ В. Хлебников на самом деле не публиковал, да и не писал их. В бытность свою студентом Казанского университета он немало времени уделял орнитологии и напечатал две небольшие заметки о кукушках. Позже занимался всякого рода цифровыми выкладками и сопоставлением исторических дат для своих «Досок судьбы». И если он всё же горячо интересовался математикой (чему я стал свидетелем в тот вечер), то интерес его, как я постепенно всё больше убеждался, был той же природы и имел тот же характер, что и его увлечение “заумью” и словотворчеством.
Числа он не противопоставлял словам. Вряд ли он мог бы сказать строками поэта: „А для низкой жизни были числа, как домашний, подъярёмный скот”. Напротив: слова он называл слышимыми числами нашего бытия.
Но прежде всего был он художником-фантастом. По складу своей души. По строчечной сути всего им написанного. И его словотворчество (эти неустанные поиски слов, ёще не заселённых смыслом) было словотворчеством фантаста. И в упражнениях над числами и в лингвистических экспериментах Хлебникова привлекало одно и то же фантасмагорическое начало.
Мы взяли √–1 и сели в нём за стол. Наш Ходнырлет был глыбой стекла, мысли и железа ‹...› — так начинался один из задуманных им рассказов.
В нём жила неизменная и страстная потребность сочетать несочетаемое, вкладывать смысл в то, что кажется бессмысленным. Не случайно время от времени он употреблял такое выражение, как „прямой двуугольник”, явно нелепое с точки зрения Эвклидовой геометрии. Отсюда и его особое внимание к мнимым числам. Отсюда та настойчивость, с какой он их вставлял там, где их вставлять не полагается, — в лирические стихи, в художественную прозу, в рассуждения на моральные темы.
Мнимые числа были для него эстетическим и интеллектуальным возбудителем. Он гордился тем, что такая безукоризненно точная и строгая наука, как математика, поставила себе на службу столь фантасмагорическое понятие, как квадратный корень из отрицательного числа. (Он видел в этом триумф трезвой реалистической мысли человека и восторженно писал в «Кургане Святогора»: Полюбив выражения вида √–1 , которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.
Много лет спустя, изучая философское наследие Лейбница, я наткнулся на примечательное восклицание немецкого философа, датированное 1702 годом: „Мнимые числа — это поразительный полёт духа божиего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием”, — и мне сразу вспомнился тот странный, голодный и прохладный вечер 1920 года, когда высокий, чуть сутулящийся Хлебников, одетый в два пеньковых мешка, стремительно шагал по своей комнате и с таким необычным волнением рассуждал о мнимых числах и людях-амфибиях.
У этих “вспышек прошлого” были, однако, две важные особенности. Во-первых, они сопровождались только теми мыслями и чувствами, которые пациенты испытывали тогда. Во-вторых, каждая “вспышка прошлого” не связывалась у них с другими воспоминаниями. Она могла существовать только изолированно. Это была своего рода разъятая на части память-репродукция — очень красочная в деталях, но никак не способная дорасти до памяти-обобщения.
Вероятно, почти каждый из нас знавал и знает подобные “вспышки прошлого”. Причем возникают они в нашем сознании естественно, так что в отличие от пациентов Пенфильда у нас есть полная возможность свободно ими распоряжаться, сочетая их более поздними нашими воспоминаниями и более зрелыми, как нам кажется, мыслями. Было бы нелепо этой возможностью пренебречь, особенно когда речь идет о таком сложном и противоречивом человеке, каким был Хлебников. Я не претендую на воспоминания обобщающего характера. Но ориентироваться только на “вспышки прошлого”, ограничиваться памятью репродуцирующей я тоже считал бы неправильным.
Я был очень молод в период моих встреч с поэтом. Многого я не понимал в его тогдашних рассуждениях. Некоторые его высказывания вызывали мой внутренний протест и запальчивые возражения. Но уже тогда я инстинктивно чувствовал, что, при всей его склонности к фантасмагорическому (а может быть, благодаря ей), Хлебников мыслил материалистически. Он, как это ни странно, был непреклонным рационалистом, глубоко убеждённым, что здравая человеческая мысль в конечном счёте овладеет любой иррациональностью, а овладев, подчинит её себе.
Хлебников, к сожалению, не читал «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса (в 1920 году он сам мне говорил об этом), но я думаю, что он несомненно обрадовался бы, прочитав у Энгельса следующие строки:
Смелая и последовательная математическая мысль не отступала перед тем, что поначалу казалось бессмысленным. Хорошо известно, какое глубокое потрясение испытали в древнее время пифагорейцы, столкнувшись с фактом несоизмеримости. Во всём бесконечном ряду натуральных чисел не оказалось такого числа, ни целого, ни дробного, которым можно было бы выразить соотношение между стороной квадрата и его диагональю! Сторона квадрата и его диагональ — это нагляднейшая реальность. Между тем они несоизмеримы и несоизмеримость эта, как правильно отмечал Бертран Рассел, сразу же опровергала мистическую философию Пифагора, обожествлявшего абсолютное число. Таким образом, самый факт несоизмеримости привел математику к понятию иррационального числа.
Все мы теперь понимаем, что прогресс математики требовал непрестанного расширения понятия о числе. Развиваясь от натуральных к абсолютным, от абсолютных к относительным, от относительных к вещественным, понятие о числе про должало расширяться, и вот уже математики нового времени оперируют теми самыми мнимыми числами, которые Лейбниц с такой взволнованной удивленностъю назвал амфибиями.
Я не уверен, что Хлебников знал об этом восклицании немецкого философа. Скорее всего не знал. Но если это совпадение, то достаточно симптоматичное: он испытывал аналогичную потребность прореагировать на абстрактное понятие не-вещественного числа живыми образами и вполне вещественными сравнениями.
С не меньшей взволнованностью, как я позже убедился, размышлял Хлебников о сущности слова. Прямо он об этом не говорил. Но из всего хода его тогдашних рассуждений вытекало, что он стремится расширить понятие о слове если не столь последовательно, как это делалось в математике в отношении понятия о числе, то, во всяком случае, в том же направлении, то есть не отступая перед тем, что казалось бессмысленным.
Он открыл для себя, что между словом-понятием и словом-звуком лежит целая гамма эмоциональных значений, не поддающихся логическому определению. Он утверждал, что наряду со словами, имеющими вполне отчетливый смысл, могут существовать слова иррациональные — такие, как смеярышня, хохочество (смысл которых только смутно брезжит), а также слова явно бессмысленные (например, бобэоби или манчь, манчь), смысл которых, по его мнению, заключался в том, что они все же способны оказывать на сознание определённое эмоциональное воздействие.
К тому времени, когда я познакомился с Хлебниковым, он уже написал статью «Наша основа», в которой изложил свои взгляды на словотворчество и заумный язык. Теоретическое обоснование “зауми”, с которым выступал Хлебников, мне казалось путаным и неверным в дни моей юности. Путаным и неверным оно кажется мне и сейчас. Тем не менее всякий раз, когда я задумываюсь над психологической стороной хлебниковского пристрастия к так называемой “зауми”, я неизменно вспоминаю пушкинские слова:
Не знаю, как обстояло дело с другими его соратниками по будетлянству, но тот Хлебников, какого я помню по Харькову, недостатка чувств и мыслей не испытывал, прячем переполнявшие его мысли и чувства были по преимуществу обращены к завтрашнему дню человечества.
Такими же неудачными, невесёлыми и недописанными оказались и другие его полуавтобиографические поэмы — «Передо мной варился вар...», «Карамора № 2», — где Хлебников пытался описать один из литературных вечеров на “башне” Вячеслава Иванова и одно из заседаний «Академии стиха» при журнале «Аполлон».
Он не любил и не умел спускаться в погреб памяти. Зато его одушевляло то, что поэт Батюшков назвал памятью о будущем. Эту другого рода память хочется сравнить не с погребом, а с вышкой. Сюда надо было не спускаться, а подыматься.
У Льюиса Кэрролла Алиса говорит в Зазеркалье: „Я уверена, что моя память работает только в одном направлении. Я не могу вспомнить то, что ещё не произошло”. На это ей королева возражает: „О, это плохая память, если она работает только назад!”
Часто у меня возникало ощущение, что у Хлебникова память преимущественно работает не назад, а вперёд. О том, что ещё не произошло, он любил говорить детализированно, словно человек, предающийся приятным для него воспоминаниям.
Однажды — это было в конце июля 1920 года — он сказал мне: „Мы у прошлого только в гостях. Будущее — наш дом”. Эта фраза прозвучала неожиданно и вместе с тем столь афористично, что я поспешил записать её в свой дневник.
Сохранилось письмо Хлебникова из Саратова своим родным в Астрахань, датированное 25 декабря 1916 года. Было это за два месяца до Февральской революции. В конце письма поэт обращается к родным со словами: ‹...› ведите себя смирно и спокойно до конца войны. Это только 1½ года, пока внешняя война не перейдёт в мёртвую зыбь внутренней войны.
Хлебников словно предсказал дату начала гражданской войны в нашей стране. Действительно, она фактически началась через полтора года после того, как он отправил своё письмо из Саратова. Никакой мистики, разумеется, здесь нет — у Хлебникова, по-видимому, было обостренное ощущение надвигающихся событий.
Как-то он передал мне номер газеты «Красный воин», выходившей в Астрахани. Здесь — ещё в 1918 году — публиковалась его краткая заметка, в которой он писал: ‹...› может быть, правы те, кто хочет увенчать великую войну завоеванием месяца. В тот же вечер я услышал от него слово небоход. Оно показалось мне настолько необычным, что даже не задело моего сознания.
Сейчас все мы привыкли к таким словам, как ‘лунник’ и ‘луноход’. Но тогда? Представьте себе Харьков середины 1920 года, недавно переживший нашествие деникинцев. Полнейшая разруха. Остановившиеся трамваи. Вместо электрического освещения, вместо керосиновых ламп — тускло мерцающие коптилки. А человек в пеньковом мешке, только что получивший по пайку Поюгзапа немного сахарина да ломоть хлеба со жмыхом, косноязычно, но убеждённо разъясняет вам разницу между облакоходами, предназначенными для управления погодой, и небоходами, реющими над обновленным земным шаром...
За полвека до наступления эры космонавтики он усердно заготавливал для неё слова.
Заготовками необычных слов и необычных словосочетаний он вообще очень охотно занимался.
Собственно говоря, с этого и началась его литературная деятельность. Когда-то, в 1908 году, фанатически убежденный, что можно заселить смыслом любые, казалось бы, бессмысленные словосочетания, он, ещё будучи студентом, напечатал в журнале Н. Шебуева «Весна» свой рассказ «Искушение грешника» и с тех пор с возрастающей настойчивостью принялся за свои лингвистические эксперименты.
С особой остротой он чувствовал то, что сегодня кибернетики назвали бы “избыточностью языка”. Ему не терпелось продемонстрировать неисчерпаемые возможности словообразования до того, как они будут реализованы в конкретной речевой практике.
В те дни, когда я встречался с Хлебниковым в его большой и полутемной комнате на Чернышевской улице, этой его экспериментаторской работе над словом исполнилось двенадцать лет. Наступил другой, значительно более ответственный период его творческой деятельности. Он уже написал такую поэму, как «Ладомир». Но теперь он продолжал экспериментировать в области фонетики и этимологии.
Иногда в моём присутствии он упражнялся в выворачивании слов наизнанку, произносил их с конца, проверяя, что из этого может получиться. Однажды он устроил мне экзамен, на котором я, к моему стыду, провалился. После нескольких лёгких испытаний он предложил мне произнести в обратном порядке слово ‘вольноопределяющийся’. Сколько я ни мучился, ничего не выходило. Впервые я видел, как Хлебников смеётся, слегка прикрыв рот рукой. Посмеявшись, он сразу с изумившей меня виртуозностью правильно произнёс это длинное, странно и непривычно прозвучавшее с конца слово.
Особенно любил он произносить вслух имена собственные, и в первую очередь географические названия, как экзотические, так и не экзотические. Он даже объяснялся в любви с их помощью:
Для Хлебникова звуковая плоть слова была почти осязаемой — так остро он её чувствовал. Звуки, можно сказать, завораживали поэта. Движение его метафор, сравнений, образов зачастую подчинялось законам звуковых притяжений. Случалось, что, в “звуковом поле” его стихотворных строк возникали рифмы одна глубже и звонче другой, придавая стиху необычную мелодичность. У колодца расколоться так хотела бы вода, чтоб в болотце с позолотцей отрезались повода. И всё-таки настоящей силы поэтическая мысль Хлебникова достигала не в этих случаях, а когда, преодолевая версификационные соблазны, она шла “прямо на предмет”.
Глядя вверх, он мог сказать: неженки-беженки в небе плывут. Меня восхищало мягкое, неназойливое звучание этой коротенькой фразы. Однако значительно ближе мне другой облик Хлебникова — того, кто, не думая ни о какой “звукописи”, вложил себя в одно четверостишие: Мне мало надо! Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!
Он мог писать: Плаха плоха только тем, что на ней рубят голову ‹...› Для версификационного дарования Хлебникова характерна эта игра звуков (“плаха — плоха”). И всё же не эта строка его западает в душу, а другие — те, где, освободившись от самодовлеющих звуковых притяжений и фонетических ассоциаций, он с такой неподдельней грустью размышляет:
В этом широком смысле он поистине был “круглосуточным поэтом”. Таким он и остался в моей памяти, человек, думавший большими протяженностями, импровизировавший все дни напролёт.
О чем бы он ни рассуждал — о мнимых числах или корнях славянских слов, о Лобачевском или древнеиндийском правителе Ашоке (Хлебников произносил — Асока), об архитектурных ансамблях будущих городов или горных грядах Южной Америки, — экспериментировал ли он над звуками, вчитывался ли в дневник Марии Башкирцевой, стремясь уловить определённую закономерность в её сновидениях, занимался ли хронологическими изысканиями, исчислял ли свои “предсказания”, он неизменно исполнен был поэтического вдохновения, словно осуществлял известный завет китайских поэтов сунской эпохи: если хочешь заниматься поэзией, усилия твои должны быть вне её...
Мне надолго запомнилось только одно собрание, на которое поэт пришел взволнованный и читал в непривычной для себя манере — отрывисто, чеканно. С подъёмом он начал: Я видел, что черные Веды, Коран и Евангелие и в шелковых досках книги монголов ‹...› сложили костер ‹...› чтобы ускорить приход книги единой Нараспев называя Нил и Обь, Миссисипи и Дунай, Замбези и Волгу, Темзу и Ганг, он постепенно воодушевлялся и резко повысил голос (обращаясь не то к себе, не то к кому-то из аудитории): Да, ты небрежно читаешь. Больше внимания! Слишком рассеян и смотришь лентяем, точно уроки закона божия. Эти горные цепи и большие моря, эту единую книгу скоро ты, скоро прочтёшь!
На этот раз его слушали сосредоточенно. Аудитория была пёстрой. Студийцы, райкомовцы, сотрудники губисполкома, несколько инструкторов Поюгзапа, рабочая молодёжь с паровозостроительного... Даже шумливые подростки, недавние гимназисты младших классов, ставшие учениками “единой трудовой”, прибегавшие в клуб ради величайшего лакомства тех вечеров — бутербродов с повидлом, — даже они притихли.
Закончив выступление, Хлебников неожиданно сник, погрустнел, замкнулся в себе. Видимо, ему было очень трудно выступать перед аудиторией, делиться тем, что он долго вынашивал. Когда ему стали задавать вопросы, он почти не отвечал, ограничиваясь бормотанием про себя.
В этот вечер я вдруг смутно почувствовал кое-что из того, что осознал много лет спустя. Жюль Ренар утверждал, что его книги — это “письма к самому себе”, которые он “позволяет читать другим”. С еще бóльшим основанием мы могли бы в то время сказать о Хлебникове, что его творчество — это очень серьёзный, почти непрерывный диалог с собой, на который редко приглашались читатели...
За все предыдущие годы Хлебников не знал радости общения с так называемыми “рядовыми” читателями. У него были отдельные горячие поклонники в среде литераторов, филологов, художников. Он слышал о себе восхищённые отзывы поэтов Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Сергея Городецкого, Осипа Мандельштама. Что же касается его соратников по “будетлянству”, то они говорили и писали о нём в исключительно дифирамбических тонах — везде и повсюду называя его гением.
До революции произведения Хлебникова, равно как и панегирики, ему посвящённые, публиковались тиражами весьма незначительными. Все это не выходило за пределы узколитературного круга. К тому же те, кто в ту пору бесцеремонно оперировал ответственнейшим словом ‘гений’, весьма бесцеремонно обращались с произведениями того, кого называли гениальным. Характерно, что уже в начале 1914 года в связи с выходом первого тома его «Творений» Хлебников возмущенно протестовал против недопустимых манипуляций с его незаконченными рукописями и черновиками. Манипуляции эти как раз производили его восторженнейшие хвалители.
Вот что писал Хлебников 1 февраля 1914 года в «Открытом письме»:
В заключение поэт налагал запрещение на выход первого тома «Творений».
Может быть, это было проявлением случайной и не характерной для Хлебникова вспышки раздражения? Вряд ли. Бенедикт Лившиц впоследствии в книге «Полутораглазый стрелец» вспомнит, как с не меньшим негодованием и по тем же причинам Хлебников встретил сборник «Требник троих», составленный и отредактированный Бурлюками. Наконец, о таких же настроениях Хлебникова расскажет и сестра поэта Вера Владимировна в письме, написанном вскоре после смерти брата.
Не будем упрощённо представлять себе взаимоотношения Хлебникова с его тогдашними групповыми соратниками. Похвалы он выслушивал охотно. Против панегирических оценок своего творчества он никогда не возражал. Ведь он сам был высокого мнения о своем месте в искусстве. Тем не менее, как настоящий художник, он не хотел доверять тем, кто готов безоговорочно канонизировать любые его черновики.
К сожалению, случилось так, что и в дальнейшем — в течение многих лет — он был заслонен от читателей собственными своими черновиками.
Он „ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс” — правильно определили одну из особенностей хлебниковского творчества его внимательные исследователи Т. Гриц и Н. Харджиев.
Между тем, вместо того чтобы вводить читателей в поэтическую обсерваторию Хлебникова, те, кто его издавал, чаще всего сталкивали нас с его хаотическим литературным хозяйством, с собранием его черновиков...
Эта хаотичность, как известно, в первое время всячески поощрялась некоторыми из его групповых соратников. Вот слова Давида Бурлюка: „Хлебников — хаотичен, ибо он гений”. Хаотичность объявлялась чуть ли не главной приметой гениальности, её привилегией!
О хаотичности и предельной неупорядоченности хлебниковского “литературного хозяйства” впоследствии, уже с сожалительными интонациями, говорилось не раз. „‹...› работа его за период с 1914 по 1922 год является нагромождением черновиков, недоконченных отрывков ‹...›” — писал Н.Н. Асеев. Да и Маяковский называл Хлебникова „неорганизованнейшим человеком”. С этим можно согласиться только в том смысле, что Хлебников был крайне непрактичен и не приспособлен к житейским делам. Но разговоры о творческой неорганизованности Хлебникова мне кажутся и неточными я явно преувеличенными. Что же касается “хаотичности” и явной незавершённости ряда его произведений, то было бы наивным объяснять все это свойствами его характера я неустроенностью его быта. Тот Хлебников, какого я имел возможность наблюдать, был прежде всего человеком неожиданностей. Он мог быть — и бывал — чрезвычайно разным. Он мог быть поэтом, пишущим крайне темно. Он же умел становиться поэтом (и прозаиком), пишущим очень ясно. Он мог выступать перед читателями с бесформенными, не имеющими ни начала, ни конца произведениями. И он же — временами — бывал внутренне собранным, дисциплинированным, целеустремленным. Всё зависело от того, в какой мере пробуждалось в нём то, что можно условно назвать установкой на адресата...
Один и тот же человек писал такие строки:
И такие:
Он мог опубликовать в альманахе «Дохлая луна» прозаический отрывок, выстроив здесь подряд четыреста (400!) придуманных им производных от корня слова ‘любовь’:
Залюбясь влюбляюсь любима люблея в любисвах в любви любенеющях, любки, любкий, любрами олюбрясь нелюбрями залюбить и так далее и так далее...
Он же, охваченный порывом влюблённости, писал, не думая ни о каких лингвистических экспериментах:
Причём шаблонность рифмы “кровь — любовь” в данном случае его не беспокоила.
Говоря об установке на адресата, я не имею в виду склонность некоторых литераторов приспособлять свои мысли и чувства к мыслям и чувствам своих реальных и воображаемых читателей. Подлинное искусство абсолютно несовместимо с такого рода приспособленчеством! Но настоящего искусства не может быть и там, где нет сопричастности переживаниям других людей, где нет чувства, прекрасно сформулированного Уитменом („‹...› у раненых я не пытаю о ране — я сам становлюсь тогда раненым”) и Тычиной „‹...› за всех скажу, за всех переболею”).
Именно такое чувство сопричастности рождает органическую потребность художника доводить свой душевный опыт до сознания многих читателей, заставляет его находить такие слова и обороты, благодаря которым его чувства и образы в конце концов становятся их, читателей, чувствами и образами.
Лев Толстой 3 марта 1910 года записал в своем дневнике:
Хлебников не принадлежал к “другим”. Он прежде всего думал для себя — решал волнующие его самого вопросы. Это вполне естественно. Но оперируя словами и образами, почти лишёнными коммуникативной функции, автор «Заклятия смехом» на первом этапе своего развития не только думал для себя, но и “писал для себя”, что становилось всё более неестественным.
В ту пору Хлебникова ещё мало тревожило то, что его произведения, перенасыщенные “заумными”, им самим придуманными словами, становятся недоступными многим и многим. Сам он эти слова в момент их написания хорошо понимал. Более того. Они волновали его. Он признавался, что когда сочинял такие восклицания, как манчь, манчь!, они у него вызывали почти боль, словно он видел молнию между собою и ими. Вопрос же о том, как подобные слова будут восприняты другими, тогда его мало интересовал. Особой потребности придать вещам композиционную завершённость у него не было — в результате одни незаконченные черновые варианты громоздились над другими, тоже незаконченными и тоже черновыми.
Это не значит, что в 1908–1914 годах проблема адресата для Хлебникова вовсе не существовала. Но в то время она была почти целиком заслонена футуристической проповедью самовитого слова вне быта и жизненных польз. Тем не менее даже в период наибольшего своего увлечения внеконтекстным словотворчеством Хлебников не мог не понимать, что любая работа над словом без ориентации на его коммуникативную функцию оказывается бесплодной.
Не случайно еще в 1913 году он писал А.Е. Кручёных: Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа ‹...›
Позже он осознает это ещё отчётливей. Вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания ‹...› — отметит он в записной книжке и задумается над собственным афоризмом: песенка — лесенка в сердце другое.
Как бы он ни любил звуковую плоть слова, как бы обострённо её ни воспринимал, холодно и одиноко он стал чувствовать себя среди слов, возникающих вне быта и жизненных польз, среди словосочетаний, не способных задеть чье-либо живое сознание.Однажды — было это 19 ноября 1912 года, — охваченный одним из таких приступов одиночества, он отправил по почте открытку, адресованную... собственной тени. Как тут не вспомнить стихотворные строки молодого Симонова: „Бывает одиночество такое, что хочется хоть собственную тень потрогать молча на стене рукою”.
В этих проникнутых страстным антимилитаристским пафосом стихах уже не было ни одного “заумного” слова. “Диалог с собой” заканчивался...
Но в какой мере начинался его диалог с читателем? Мы знаем, что Маяковский, называя его „Колумбом новых поэтических материков” и одним из своих учителей, в то же время подчёркивал: „Хлебников — не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя”.
Сколько бы хвалебных и почтительных слов ни было сказано о писателе, всё же эта фраза: „Его нельзя читать” — звучит достаточно горестно.
Между тем тот Хлебников, какого я помню, хотел быть читаемым, причём читаемым не только “производителями”, но и широкими кругами “потребителей” (если воспользоваться терминологией Маяковского).
Стоит рассказать в связи с этим об одном эпизоде, почему-то ускользнувшем от внимания исследователей Хлебникова. Дело было в середине мая 1920 года, когда А.В. Луначарский, предприняв поездку по Украине, заехал в Харьков и здесь, в клубе «Коммунист», выступил с интереснейшим докладом о первых днях Октябрьской революции.
Узнав о предстоящем докладе, Хлебников загорелся. Он попросил меня помочь ему встретиться хоть на несколько минут с народным комиссаром. У него есть мечта, пояснял он, выделить из поэмы «Ладомир» несколько строф, с тем чтобы они могли стать пролетарским гимном, параллельным «Интернационалу» Потье. Об этом он и хочет посоветоваться с Анатолием Васильевичем.
На следующий день после окончания доклада в клубной библиотеке состоялась встреча наркома с поэтом. Подробностей разговора не знаю. Знаю только, что поэт был вдохновлён этой короткой беседой, и сейчас, перечитывая «Ладомир», я прежде всего вспоминаю воодушевлённое лицо Хлебникова и вся поэма кажется мне убедительным свидетельством его стремления “прорваться” к широким читательским кругам молодой Советской страны.
К сожалению, «Ладомир» был издан в 1920 году литографским способом, тиражом всего-навсего в пятьдесят экземпляров. Поэма не дошла до большинства интересовавшихся поэзией харьковчан, о жителях других городов и говорить не приходится. Тем не менее Хлебников по-детски радовался, когда художник Василий Ермилов принёс ему литографированные экземпляры «Ладомира». Повторяю: он очень хотел быть читаемым.
И всё же не читали его так, как ему хотелось. А хихикающих над ним обывателей было предостаточно. Это сказывалось на его тогдашних настроениях. Он рвался из Харькова. Его мучил, как он выражался, голод по пространству, и в самом начале сентября поэт незаметно уехал на юг.
Потеряв его из виду, я ничего не знал ни о его жизни в Ростове, Баку, Персии, Пятигорске, ни о том, что он начал выступать с агитационными стихами по заказу местных отделений РОСТА. Поэтому такой приятной неожиданностью стал для меня номер «Известий» от 5 марта 1922 года, на второй странице которого наряду с «Прозаседавшимися» Маяковского я прочитал полные боевого задора строки Хлебникова:
Хотелось верить, что, публикуя на страницах центральной газеты темпераментные, преисполненные гражданского пафоса стихи, поэт перестанет быть “невидимкой” для широкого круга читателей. Я не сомневался, что стихи эти открывают новый, плодотворнейший этап творчества Хлебникова, что самое главное в нём и для него только начинается. Надеждам этим, увы, не суждено было осуществиться. Через три с половиной месяца, 28 июня 1922 года, в деревне Санталово Новгородской губернии преждевременно оборвалась жизнь одного из самых фантастичных и своеобразных русских поэтов...
Я, к примеру, никак не могу согласиться с восторженным утверждением Н.Н. Асеева, будто Хлебников знал мир „вдоль и поперёк”. Эрудиция его мне казалась большой, но односторонней. Он при мне цитировал наизусть отдельные выдержки из книг Петра Кропоткина «Речи бунтовщика», «Хлеб и воля», из трактата Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», но, к немалому моему удивлению, он не был знаком с основными произведениями Маркса, Энгельса. Ленина.
Помню, как в один из июльских дней тогдашний редактор «Харьковского пролетария» А. Верхотурский дал ему почитать самую значительную книжную новинку 1920 года — «Детскую болезнь “левизны” в коммунизме» и каким откровением были для поэта замечательные ленинские слова о том, что политика больше похожа на алгебру, чем на арифметику, и ещё больше на высшую математику, чем на низшую. В ту пору, на мой взгляд, Хлебников ещё очень слабо разбирался в этой высшей математике.
Самое главное в нём только начинало раскрываться — такое чувство возникает у меня всякий раз, когда я вспоминаю о харьковском периоде его жизни и творчества.
„‹...› Читая Хлебникова, хотим понять и то, что поэтом написано не было ‹...› Усвоение Хлебникова — это мучительный процесс разгадывания по немногим намёкам того, что могло быть написано поэтом, что он должен был написать”, — справедливо утверждал через два года после его смерти выдающийся советский языковед Г.О. Винокур.
Не следует забывать, что наряду с реальным контекстом уже написанного у некоторых поэтов явственно чувствуется потенциальный контекст недописанного и недосказанного ими.
Этот потенциальный контекст хлебниковских строк, широкий и заманчивый, с особой остротой ощущали все те, кто неизменно восхищался и вдохновлялся его творчеством.
Не случайно Владимир Маяковский в некрологе, посвящённом поэту, настаивал на том, что „у Хлебникова нет законченных произведений”, что его „надо брать в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу”.
Характерно, что и такой столь не похожий на Маяковского поэт, как Осип Мандельштам, восторженно воспринимал хлебниковскую поэзию именно потому, что первую очередь умел чувствовать её потенциальный контекст.
В своей малоизвестной статье «Буря и натиск» Мандельштам разъяснял:
Так постепенно складывалось диаметрально противоположное отношение к Хлебникову. Одно у тех, кто “его брал в отрывках”, наиболее отвечающих их собственным поэтическим запросам. И совсем другое у тех, кто, имея дело только с реальным контекстом неупорядоченного хлебниковского литературного наследия, отступал перед обилием его лингвистических экспериментов и проб.
Даже такой опытный знаток литературы, как Г.О. Винокур (кстати говоря, весьма сочувствовавший Лефу и лефовцам), читая Хлебникова, вынужден был признаться: „Мы недоумеваем — какая же, в самом деле, притягательная сила поддерживает нас в этом героическом переходе через бездонные пропасти и мрачные провалы хлебниковского косноязычия, которым даже сам поэт, по живому его признанию, был отчасти утомлён”.
Я думаю, что эта притягательная сила заключалась и в живом человеческом облике Хлебникова, неоднократно вызывавшем интерес у литераторов самых различных поколений.
Я не берусь не то что разбирать, но даже перечислить все те разнообразнейшие, овеянные романтическими легендами стихи, какие на протяжении полувека посвящались в советской поэзии Хлебникову.
Этими стихами поэты словно стремились продолжить его рано оборвавшуюся жизнь, досказать то, что он не успел досказать, додумать то, что он не успел додумать, дорисовать его нравственные черты.
размышлял о нём Николай Заболоцкий.
писал семидесятидвухлетний Н.Н. Асеев. А двадцатилетний Михаил Кульчицкий накануне Великой Отечественной войны создает трогательную легенду о поэте, бросаю щем в костер свои рукописи, лишь бы согреть замерзающую девочку...
Я попытался хотя бы частично рассказать о Хлебникове таком, каким он был, не совсем похожем на те легенды, какие с самыми благородными намерениями о нём сочинялись. Маяковский не случайно сказал, что биография Хлебникова — укор поэтическим дельцам. Было в его творческом поведении, в его аскетической жизни в его бескорыстии, в его отношении к поэтическому слову, в его напоминавших фантазии Шарля Фурье мечтаниях о завтрашнем дне человечества — было во всем этом нечто такое, что вызывало уважение к нему и давало повод для разнообразных романтических легенд. И всё же тот реальный Хлебников, какого я наблюдал в 1920 году, поэт настойчиво искавший пути к советскому читателю, представляется мне более интересным чем все эти легенды.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 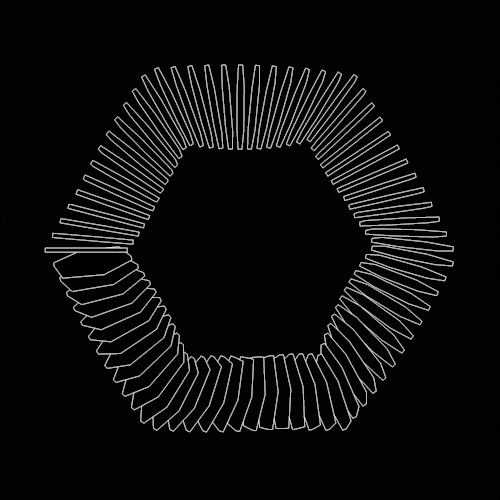 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||