

 ы у Хлебникова сходите?
ы у Хлебникова сходите?Будет так? Я надеюсь, не будет!..
Очень жаль, если меня сочтут за какого-то саботажника: о признании Хлебникова пекутся умные, упрямые и очень одарённые люди, круг которых немногочислен, но устойчив. Сменяются их поколения. В изучении Хлебникова незаметно и исподволь творится нечто насущное, национально необходимое. Как бы то ни было, но издаются стихи поэта и его таинственные трактаты, появляются статьи о нем, диссертации. А я против них, что ли?
Нет, не против! Не менее других готов я споспешествовать изучению Хлебникова и не менее других опечален я тем, что всё здесь движется рывками, от случая к случаю. Что нет сборника научных работ о нём: юбилей поэта застал врасплох. И в то же время я страшно боюсь, что поэта... признáют.
Секрет непризнания или, скажем, недопризнания Хлебникова — в самом Хлебникове. Нет здесь чьей-то злой воли, даже и равнодушия нет. А есть особенный тип поэта. Тип, существовавший в отечественной литературе, разумеется, и до Хлебникова.
Много ли знаем мы о Василии Кирилловиче Тредиаковском, по причудливому стечению обстоятельств астраханце, земляке Велимира Хлебникова? Отбросим прочь анекдоты, и останется — что? Неопределённое сострадание к непонятному и гонимому, смешанное с недоумением. Серьёзным, научно по-своему добросовестным: а как с Тредиаковским быть? Где та ветвь, которая пошла от него? Каково его место в истории русской литературы и, шире, культуры?
Тредиаковский не укладывается ни в какой “классицизм”. Хлебников — в “футуризм”. Хорошо, но тогда... где они? С кем? Как они литературно, поэтически ориентированы? Я ответить на такие вопросы бессилен. А кто в силах на них ответить? Не знаю. Но тогда возможно ли признание? Слава?
Прижизненная и посмертная слава поэта, вообще литератора — феномен, давно уже ждущий филологического осмысления. Сущность признания, славы, видимо, в том, что формируется литературное имя, слагается постоянный эпитет, за прославляемым закрепляемый (нельзя думать, будто постоянные эпитеты типа “красна девица” или “сабля острая” были только в прошлом, в фольклоре; постоянные эпитеты неотъемлемы от сознания человека вообще, и оно всё время их ищет). Постоянный этот эпитет выражается и словом и рядом актов, всегда одинаковых: юбилейное торжественное собрание, выпуск новых изданий и открытие какого-нибудь музея, закладка или открытие памятника, а в конце концов переименование какой-нибудь улицы или дарование имени юбиляра школе, библиотеке и недавно отремонтированному теплоходу. Методология и методика славы удивительно устойчивы, всё здесь стабильно: единый акт, распадающийся на несколько актов частных. И по мере того, как они совершаются, наступает искомая ясность. Наступает успокоение: всё в порядке, поэт потомками понят. Он внесён в какой-то реестр национальных сокровищ, и отныне не знать его уже просто предосудительно, а не понимать неприлично.
Слава жестко детерминирует прославляемого, а прославляющих она неволит, буквально закрепощает духовно: прославляй и не вздумай роптать! Но должны быть люди, для которых Хлебников — terra incognita. Прожить жизнь, не прочитав ни строчки Пушкина, Лермонтова, Маяковского, на Руси невозможно. Быть свободным по отношению к Хлебникову — безусловное право каждого. Право многих, даже, может быть, большинства, считать его непонятным и остановиться на этом; и не надо, по-моему, кипятиться, пытаясь непонимающих вразумить, даже если они агрессивны: только суета получается, а служенье муз её, как известно, не терпит.
Есть Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В.К. Тредиаковский был не менее одарён. Даже, может быть, более. Представимо ли, однако, какое-либо учреждение, носящее его имя? Астраханский педагогический институт им. В.К. Тредиаковского? Школа им. В.К. Тредиаковского? Теплоход с его именем на борту? Нет, такое непредставимо.
Так и с Хлебниковым.
Сопряжённость Хлебникова с традициями европейской классики становится всё более несомненной. Данте, Сервантес, Гёте живут в его поэмах, похожих на неоконченные черновики, иногда вопиюще банальных фабульно, — в поэмах-каприччо, но притом каприччо трагических: с непременными жертвами, казнями, катаклизмами и с очищением, катарсисом.
Можно увидеть и линию: Хлебников и античность. Недаром же в конце концов к сибирскому шаману пожаловала в гости богиня Венера, причём была она какой-то неканоничной, ещё не изваянной в мраморе («Шаман и Венера»). Венера у Хлебникова не статуя, а скорее уж кукла, заговорившая типично кукольной речью. Она весьма полемична по отношению к образам символистов, в ней легко угадать иронически упрощённую фигуру Жены, облечённой в Солнце: а по отношению к античности — это образ-отсылка, образ-напоминание, откровенный индикатор традиции. Но античность у Хлебникова есть и глубже, и многое здесь сокрыто, эзотерично: Хлебникова не понять без Платона, и не только без идей Платона, но и без образа мышления Платона, без заложенного в его философии стремления, выражаясь по-современному, к построению единой методологии, равно приложимой и к истории в целом, и к жизни одного человека, к природе, к искусству.2![]()
А родная литература, российская?
Мир Хлебникова — мир минут роковых. Только их; другие минуты, попроще, не роковые, попасть в поле зрения поэта просто не могут.
Роковые минуты — не значит плохие минуты, тяжёлые. Всё может обойтись хорошо: погостила богиня в пещере анахорета да и отправилась дальше, лебедь её позвал. Внутренне похоже на Лермонтова:
Не было ни разрушений, ни потрясений, ни даже особенно уж горькой печали после разлуки. Но минуты всё равно: ро-ко-вы-е. Роковые в том смысле, что встреча была предначертана ходом, духом истории: попытка взаимного сближения, диалога культур, западной и восточной; попытка каждой из них самоутвердиться в контакте с другой. И это, конечно, — тоже традиция: традиция российского филоориентализма, сиречь ‘востоколюбия’, углублённого интереса к Востоку (об этом есть ряд работ: ташкентского ученого П.И. Тартаковского,3![]()
![]()
![]()
Хлебников осуществлял, претворял в своей жизни многое из того, что наметила предшествующая поэзия. Я сказал бы, что Хлебников — реализатор, осуществитель многих заповедей её. Но с этого, как ни странно, и начинается его неожиданность.
Скажем: Пушкин и Хлебников.
Над поэтом тяготеет эпатирующая фраза о Пушкине, которого футуристы вознамерились сбросить с парохода современности; но никто так, как Хлебников, не чувствовал в творчестве Пушкина нравственной программы, императива, данного ему для реального воплощения.
Мы Пушкина изучаем. Восторженно цитируем Пушкина. Можно, скажем, Пушкина и поносить: был же Писарев. Но в любом варианте, и для восторгающихся и для язвительно поносящих, слова Пушкина остаются... сло-ва-ми. Стихи Пушкина — слово, за которым с нашей стороны вовсе не должно последовать никаких деяний, поступков, непосредственно из него вытекающих. Мы, положим, читаем:
И что же, прочитав, тотчас устремляемся упиваться? Пускаемся в танец, влюбляемся, торопимся повкуснее покушать и разжиться путёвкой в дом отдыха? Наверное, нет. Мы, разумеется, порою не прочь и повеселиться, как можем; но вряд ли кто-нибудь скажет, что определённый, данный поступок он совершил затем, чтобы реализовать, претворить в своей жизни то или иное предуказание Тютчева или Пушкина. Между словом поэта, классика и нашим поступком или линией нашего поведения пролегает тьма опосредующих обстоятельств; и нет человека, который имел бы право сказать о себе, что живет он по Пушкину, так, как Пушкин ему повелел, предписал, завещал. А для Хлебникова между словом другого поэта и его реальною жизнью ни-че-го не стояло!
Частенько говорится о детскости поэта вообще, а за Хлебниковым детскость признана как его постоянное свойство. Очень всё хорошо говорится, но нельзя останавливаться на половине пути; и я продолжу о детскости: Велимир Хлебников — какой-то гениальнейший... сын.
Сын стремится сбросить с себя бремя отчей опеки, и отсюда-то — Пушкин, низвергаемый с парохода. Но сын — это и начало реального послушания, такими, во всяком случае, хотим мы видеть своих сыновей; и хотя они склонны сбрасывать нас со своих пароходов гораздо чаще, нежели слушаться нас, мы продолжаем осыпать их императивами, наивно рассчитанными на немедленное выполнение. Мы хотим, чтобы наше, отчее слово, обращённое к сыну, стало правилом, коему должен он следовать. А быть сыном — значит угадывать это желание, исключив самое возможность существования слов, произнесённых “просто так”, без установки на воплощение их в реальности.
Русский быт и русская литература нашли идеал сыновства: сыновство духовное. Очевиднее всего идеал отразился в типе, в чём-то Хлебникова предсказавшем, — в Алексее Карамазове Достоевского (то, что Хлебников похож на Алёшу, в доказательствах, я думаю, не нуждается). Алексей — духовный сын не только непосредственного учителя своего, старца-монаха Зосимы, кровных детей не имевшего. Алексей — сын многовековой традиции, против которой в романе ведётся и бунт (правда, не Алёшей, а братом его; но Алёша к этому бунту, как известно, хоть на миг да присоединяется всё же). Бунт ведётся, но в целом-то призвание юноши в том, чтобы реализовать двухтысячелетней давности слово, претворить его в жизнь.
Реализация слова — то, что (в идеале!) берут на себя сыновья. Далеко не случайно, что внимание Хлебникова привлекали герои Гоголя, дети Тараса Бульбы, Остап и Андрий.6![]()
Скажем так: мы русскую литературу слушаем, а Хлебников её слушался.
Все читали стихи Пушкина о поэте и о поэзии. Все спешили поведать друг другу о том, что отвергаемая в них чернь не есть трудовой народ, и все восхищались. Хлебников же понял Пушкина буквально, дословно: по-слу-шал-ся Пушкина. Царь? Хлебников нарёк себя Велимиром, то есть, видимо, каким-то главным царём, сверх-царём (горделивое имя поэта полемически ориентировано на уже не раз пародированные многочисленные титулы российского императора; царь в торжественных случаях вынужден один за другим перечислять эти титулы, и как бы в ответ на их перечень поэт лапидарно рекомендует себя: „А я — Велимир, повелитель мира!”). Далее, поскольку фигура царя становилась всё одиознее, он произвёл себя в председатели земного шара.
Пушкин мог сказать о волшебном царстве:
Хлебников вошёл в это царство как в реально существующую среду: например, поэма «Вила и леший».
Вероятно, до Хлебникова так умел только Данте: коли сказано „ад”, то ада не может не быть, и надо отправиться в ад, и познать существующую там иерархию мук, а потом описать этот ад круг за кругом, в подробностях, так наглядно, что не всякая зарисовка с натуры будет выглядеть настолько же достоверно.
Разумеется, Хлебников не только Пушкину следовал. Внедрение в уже существующий, намеченный традицией образ было, видимо, его важнейшим творческим принципом. „Леший бродит” в поэзии Пушкина; бродит он по русской литературе вообще: взятый из мифа образ положен, например, в основу пьесы раннего Чехова «Леший». Тенью, сла-а- абеньким отблеском мифа бродит леший в нашем сознании, на периферии этикета общения („Иди-ка ты к лешему!..”).
Но для Хлебникова периферии не было. „Иди к лешему!” И Хлебников буквально шёл к лешему. Видел лешего:
Ощущая себя женихом русалочьим, Хлебников погружается в царство, которое названо, очерчено одной-единственной строчкою Пушкина и о котором очень абстрактно и достаточно редко вспоминаем мы в обиходной речи. Но и Пушкин и мы смотрим на это царство извне. С нашей точки зрения, было бы крайне глупо задаваться вопросами: а каков же леший собою? Как именно бродит он и куда? Хлебников такими вопросами задается. И леший,
Из добродушно-бранного фразеологизма, из одной строчки Пушкина вырастает поэма — свидетельство о скитаниях лешего.
Вслушаемся в Пушкина ещё раз: „Там леший бродит...”, „Я там был; мед, пиво пил...” ‘Там’ — местоимение, предполагающее изображённый мир отстранённым от наблюдателя, ему внеположным. По мере творческой эволюции поэта изображаемый им чудесный мир как бы открывается перед ним: в 1827 году „там” ещё только изображаемое, но через несколько лет он уже уверяет нас, что он „там был”, пировал, но „усы лишь обмочил”. А что делает Хлебников? Да то же, что начал делать и Пушкин: входить в заповедное царство, оттуда, изнутри, повествуя о том, как оно там и что.
Изучающим творчество Хлебникова хорошо известна статья Вяч.Вс. Иванова о структуре стихотворения «Меня проносят на слоновых...» „Ключом для понимания основного образа этого стихотворения должна служить индийская миниатюра, несомненно, навеявшая Хлебникову этот образ ‹...› Миниатюра изображает пронесение Вишну на слоне, который образован сплетением женских фигур”, — утверждает исследователь. И воспроизводит картинку: Вишну несут на слоне, тело которого составлено из девяти фигурок юных красавиц. Находка пре-крас-на-я! И она лишний раз демонстрирует принцип, о котором я говорю: Хлебников вводит себя в созданный ранее образ (грубо говоря: так ребёнок поселяет себя в нарисованном кем-то доме). Его домом мог стать любой миф, словесный или графический: коль поэт — царь или же предземшара, владения его безграничны. Идущая ещё от Платона гипотеза о гибели Атлантиды? Хлебников воплощает её в трагедийный сюжет. Мелькающий в нашей речи, упомянутый Пушкиным леший? Упоминание Пушкина для Хлебникова — императив, указание, и Хлебников послушно его выполняет, всесторонне обследуя мир русалок и лешего. Индийская миниатюра? Хлебников видит в её сюжете событие, в котором он принимает непосредственнейшее участие.
Призвание сына — распорядиться завещанным, доставшимся по наследству. Реализовать духовный капитал, дарованный ему прошлым. И Хлебников распоряжается унаследованным активно, старательно.
Художественный образ — в идеале — трёхмерен, иначе он не мог быть достоверен, правдив: открытая нам реальность трёхмерна. Отсюда стремление художественного образа к скульптурности, и я имею в виду отнюдь не только скульптуру как род искусства. Первые образы мира, с которым мы знакомим детей, — шарики, разноцветные пирамиды; и это правда, которую мы сообщаем двухмесячному, трёхмесячному человечку. Дети растут, и прежде, чем начать рисовать, их тянет лепить: ходят измазюканные пластилином, ваяют собачек, кошек и фантастических зайчиков. Им нужен трёхмерный мир, причём ещё лучше будет, если в него окажется возможным войти (отсюда — упрямо выпотрошенные игрушки).
Словесный, литературный образ не может избежать общей участи. Он всегда стремился трансформироваться во что-то трёхмерное, и донимающие нас ныне инсценировки произведений литературы не новость: люди вечно что-нибудь инсценировали, а дети, те и вовсе без инсценировок не могут, и слово наше для них — сценарий, толчок к спектаклю, который они всегда готовы сымпровизировать. Мы уже грезим о голографии. Появится она, внедрится в социально-эстетический обиход, и трёхмерность восторжествует, хотя будет это всё же трёхмерность достаточно внешняя.
Хлебников видел в слове присутствие какой-то более глубокой трёхмерности. Он явно продолжал и оспаривал Блока, его цикл 1913 года «О чем поёт ветер»:
Да почему же никто не поймёт? И в 1920 году появились стихи:
Сам я значительности этих строк не заметил бы. На них обратила моё — и не только моё — внимание югославская поэтесса Злата Коцич; и думаю, что только поэт мог понять, как это существенно: меч — мяч.
Меч — плоскость, а мяч — объём. Плоскость, по Хлебникову, снедаема желанием обрести объём, и на такой геометрии построена эстетика Хлебникова.
Идти по скалистому берегу моря для Хлебникова — испытать ощущение: человек превратился в... мяч.
Человек — шар, мяч, которым весело играют прибрежные скалы; и подобное изображение Хлебниковым себя для поэтики его глубоко существенно.
Широко известны, хотя опять-таки сугубо периферийны поделки, своеобразный сюжет которых составляет внедрение, проникновение шара в шар. Виртуозное мастерство китайских резчиков по кости: вырезается шар, внутри него — ещё один шар, а внутри этого, меньшего шара — ещё один. Или русские наши куклы-матрёшки: воплощённая в игрушке мечта о какой-то... двойной беременности и об исчерпывающем познании человека или предмета. Понять другого исчерпывающе, вполне, можно только в него перевоплотившись, влезши, как говорится, в шкуру его. А понять мир? Знанием о мире обладает не первая, самая большая кукла-матрёшка, и не последняя, третья или седьмая, пребывающая в недрах многоступенчатой шарообразной конструкции. Полное знание может явиться только при соединении их точек зрения, при интеграции аспектов, в которых все они видят мир. И Хлебников такой полноты искал.
„‹...› Нет, не будем клеветать разума человеческого, неистощимого в соображениях понятий, как язык неистощим в соображении слов”, — писал Пушкин. И опять-таки: там, где мы восхищаемся мыслями Пушкина, Хлебников действовал. „Соображение” разнородных понятий лежит в основе того, что долгое время будет восприниматься как чудачества или, в лучшем случае, как эксперименты поэта. А это была интеграция точек зрения. Было стремление найти такую позицию, которая позволяла бы видеть мир, каждое явление мира и извне и изнутри.
Есть великая тайна — тайна воззрения на мир становящегося организма, эмбриона, зародыша, проходящего, как мы знаем, все стадии развития жизни, на земле существующие, от клетки до homo sapiens. Все мы прожили этот период, и что сохранилось от него в нашей памяти? Что-то, надо полагать, сохранилось. Почему мы неизменно отождествляем солнце и сердце? Солнце на-по-ми-на-ет нам сердце. Солнце — это второе сердце, а первое мы видели в нашей ещё как бы дочеловеческой жизни, тогда, когда мы глядели на него так же, как ныне глядим на солнце, во-первых, снизу и, во-вторых, изнутри какой-то замкнутой сферы, Взгляд на солнце как на сердце вселенной мог возникнуть только тогда, когда человек, взглянувший на небо, вспомнил о таинственном своём пребывании внутри самого святого для нас объёма, внутри материнского чрева. Войти в шар — воспоминание о жизни в этом созданном самою природой и дарованном нам раю, из которого по прошествии положенных девяти месяцев мы изгоняемся в мир.
За Пушкиным закрепился образ:
Давно замечено, что, описывая устье Волги, Хлебников намеренно Пушкина повторяет:
И надо сказать, что тот же образ у Хлебникова повторяется много раз. „Прорубим на Кубань окно!” — говорится, к примеру, об одном из эпизодов гражданской войны, о наступлении красных на юг от Москвы.9![]()
Прорубить окно — выйти из замкнутой сферы вовне, в следующую, более широкую сферу, соединившись с теми, кто там обитает.
Без проникновения в сущность как бы трёхмерной структуры образов Хлебникова его фратерофильство может быть понято лишь как набор общих слов. Но общих слов у него принципиально не было и быть не могло: слово у Хлебникова всегда удостоверено ситуацией, всегда обоснованно. Всё, что есть на земле, связано братскими отношениями потому, что всё пребывает в одной, для всех общей утробе (уж и не знаю, как бы поэлегантней сказать). “Единоутробный брат” звучит не очень красиво, но что же поделаешь, если полное братство в отличие от неполного, половинного, сводного предполагает поочередное пребывание двоих, троих, а то и тысячи, сотни тысяч в одном, общем чреве? И коль скоро однажды выйдя из материнского чрева, отверзши окно вовне, человек попадает в мир, а мир — это полость нового шара, и он всегда, как мы говорим, чреват чем-то новым, всегда беременен, всегда корчится в родовых схватках, человек просто как бы автоматически становится братом всего, что теплится в чреве мира, братом и звёзд, и гор, и богов.
Вернёмся, однако, к начатому, к линии Пушкин — Хлебников.
В опубликованной недавно замечательной работе Л.В. Пумпянского о художественном мышлении и о стилистике Пушкина обращено внимание на особую форму высказывания, постоянно поэту присущую, на перечисление, перечень, список.
Мысль давно ушедшего из жизни исследователя, заметки которого заботой его посмертных друзей всё же дошли до нас, точна и корректна. Пушкин действительно основополагал литературу нового времени и отчетливо сознавал, что он основополагает её. Оттого-то — и перечни, списки: у Пушкина — тезисы, рассчитанные на то, что очерченные им темы кем-то когда-то будут развёрнуты. Продолжатель, Хлебников, рано или поздно придёт. Дело же основоположника, Пушкина, — дать ему тему, введя эту тему в сферу литературы, включив её в перечень принятых, эстетически перспективных, желанных тем. И пролог к поэме «Руслан и Людмила» — это перечень творящихся в волшебном царстве чудес, а стихи о встречах с Мицкевичем — это перечень того, о чем говорил великий польский поэт.
Не программа ли «Ладомира»? Причём, разумеется, нельзя утверждать, что феерии Хлебникова всегда есть порождение того или иного стихотворения Пушкина. Нет, Хлебников разворачивал в свои причудливые картины вообще всякий тезис, всякую моральную заповедь, которую он склонен был разделять, принимать: в мире не было ни одного выражения, слова, которое воспринималось бы им как плоскость; в слове, даже в отдельном звуке предполагался подлежащий дальнейшему развитию образ. Но поскольку в русской литературе больше всех тезисов выдвинул именно Пушкин, Хлебников к Пушкину чаще всего и восходит.
„Леший бродит”? Значит:
„Народы ‹...› в единую семью соединятся”? Пожалуйста! И на месте достаточно отвлечённой метафоры появляется картина реального соединения двух народов, двух континентов, создание ими семьи:
Если есть два понятия близнеца, — пишет Хлебников, снова обращаясь к излюбленным своим фратерологическим образам, — то это место и время. Но какая разная у них судьба. Одно изучено, и лишь неточность мешает решить, какое оно: греческое, немецкое или русское; о другом неизвестно ни одной истины.11![]()
«Ладомир» — один из иксов творчества Хлебникова. Внешняя форма поэмы — форма экстатической утопии, коих множество слагалось в первые годы революции. Герои её — будто пустившиеся в ритуальную пляску эмблемы, а рисуемые в ней картины не так-то уж богаты фантазией: прямо в озерах кипятится вода, поезда развозят по всему свету сваренные таким образом щи, что-то вроде ухи, и трудно не поддаться соблазну назвать эту озерную уху, как в басне дедушки Крылова, демьяновой: потчуют ухой всех подряд, хочешь не хочешь, а ешь.
Восторженная унификация, составляющая особенность утопического мышления вообще, доводится до предела. Хлебников пишет так, будто не было в литературе пародий на утопическое мышление, его злой и язвительной критики. В своем утопизме безудержен и банален он просто-таки вызывающе.
Но внутренняя форма поэмы... Здесь есть ответ и платоновской социософии, и Пушкину, и, конечно же, Достоевскому, «Легенде о великом инквизиторе», герой которой, как известно, когда-то отверг искушение обратить камни в хлеб и, заменив дух материей, так выразить свое сострадание к людям.
Обратить камни в хлеб... Надо снова и снова увидеть: Хлебников не скользил по словам, а входил в них, видя в слове событие, утверждая, что корень слова даётся свыше, а другие части его достраиваются людьми под влиянием различных социальных движений. Хлебников не мог не считать себя провиденциально связанным с хлебом. Нагромождение образов в «Ладомире» напоминает загадочную картинку: „Найдите Хлебникова!” И поэт непременно должен найтись, отыскаться в толпе причудливых героев его безудержной утопии, ибо такова уж его позиция: воспроизводимый им мир неизменно рисуется с двух точек зрения, извне, а одновременно и изнутри, как бы с точки зрения последней куклы-матрёшки. И отдельное слово и высказывание в целом Хлебников мыслит трёхмерным, как сферу. Как сфера, построена и утопия «Ладомир», а коли так, то и Хлебников должен быть скрыт где-то в её глубине. И он обнаруживается:
Образом умного колоса кончается «Ладомир». Умный колос — метафора; речь идёт о хлебе духовном; и отсюда — мостик к расшифровке и к освоению поэтом унаследованного им от прадедов имени. А имя (фамилию) своё поэт нёс по жизни так же бережно и ответственно, как и титул председателя сферы-земли.
Для Хлебникова слово сюжетно. В слове сходятся в семью звуки, каждый из которых органически содержателен. Звук о чём-то рассказывает; звук содержит в себе запечатленную драму, воспоминание или пророчество. Но что же говорить тогда об имени собственном! Имя — это характеристика человека, указание на то, что значит он для людей и каким ему быть надлежит.
Хлебников — хлеб. А хлеб — это основа многих сюжетов, сплетение проходящих через века сакральных метафор: вкушение хлеба — причастие, приобщение к духу путём поглощения плоти; с хлебом же связан и миф об однажды отвергнутом искушении.
Себя Хлебников мыслит как некое всеоживляющее, всепитающее начало. Попав в его мир, живым становится всё. Даже камень. Образ кормящего камня то и дело мелькает у Хлебникова; и каменная баба в его стихах
Коврига хлеба и капля молока становятся рядом: хлеб для взрослого то же, что для младенца молоко родной матери; хлебом мы навеки привязываемся к земле, ощущая себя её детьми. Хлебников — имя-призвание: утолять ненасытный голод, даровать насыщение. Умный колос — символ духовной пищи; но метафора хлеба духовного жёстко связана и с судьбой реального, насущного хлеба.
Рассуждая о Хлебникове, должно позволить себе хоть крупицу той свободы ума, которой он обладал. Поволжский голод 1921 года — трагедия, о которой нельзя забывать. Она вызвала широкие международные отклики, стала поводом для вспышки политических страстей и, как сие ни печально, интриг. А для Хлебникова голод — личная катастрофа: иссяк, умер хлеб, и это не только смертные муки для тысяч крестьян, их детей, это, видимо, послужило толчком к его собственной гибели. Хлебников жив до тех пор, пока в мире жив хлеб, и есть, я уверен, существенное, актуальное единство между голодом, охватившим родные места поэта, и его собственной смертью: нет хлеба — не может быть и Хлебникова. Я не рискнул бы сказать, что Хлебников умер от голода; но то, что умер он из-за голода, для меня несомненно.12![]()
Но в поэме-утопии «Ладомир» хлеба много; и хлеб — это alter ego поэта, знак присутствия его в мире:
Поэт хочет снять извечную антитезу камня и хлеба. Не обратить камни в хлебы, а самое антитезу их снять: поэтому-то и каменная баба у него молоком истекает и глина оказывается съедобной.
«Ладомир» — воинственная поэма: низвержение угнетателей, классовая борьба. Низлагаются цари, исторгаются в социальную тьму кромешную купцы и дворяне, которых сменяют, как известно, творяне. И в конечном счёте всё как-то мудро улаживается, а казавшиеся извечными противоречия снимаются: нет противоречий ни между духом и плотью, ни между верой и разумом.
Сыновья сплошь и рядом обращают к отцам вопросы, начинающиеся с импровизированных гипотез: „А что, если?..” «Ладомир» — такой вопрос, заданный и всей предшествующей культуре и ближайшей современности Хлебникова, литературе начала XX века.
Парадоксальные образы Хлебникова не могут быть поняты вне контекста литературного движения и литературной борьбы, современной поэту.
В литературе последовательно культивировались идея Жены, облеченной в Солнце, и идея Востока как нераскрытой тайны, как начала, искони присутствующего в России и в то же время пребывающего с нею рядом, возле её рубежей.
Записки поэта неопровержимо свидетельствуют о том, что современную ему литературу он знал превосходно, в деталях, на всех её уровнях так же, как знал классическую. Он видел направление, в котором тёк поток её образов, и лишь в контексте этого потока можно воспринимать его стихи на азиатские темы: тема Востока у него — это тема-ответ; ответ знатока дилетантам и человека реальной жизни создателям умозрительных построений.
«Шаман и Венера» — поэма, соединившая обе темы: Восток и Прекрасную Даму. Искать Прекрасную Даму особенно долго не приходилось: что, кто может быть прекрасней самой богини Венеры?
Чем не Жена, облеченная в Солнце? Тем более что
Да и более того:
Тут уж Жена и Солнце сливаются во что-то одно, в ослепительно-яркое что-то, и всё это великолепие обрушивается на шамана, невозмутимого, флегматичного.
Поэма Хлебникова кажется умозрительной, но для своего времени она была актуальна, как острейший памфлет. Умозрительные патетические посылки реализуются не то в лубочные картинки, не то в кукольный театр; заодно даётся и несомненный намёк на одно из модных течений времени: шаманизм достаточно широко бытовал в петербургских салонах, оккультизм, яко тать в нощи, проникал в сознание. Шаман-провидец становился высшим авторитетом. И Хлебников демонстрирует своего шамана, просто-таки издеваясь над стереотипом восточного мудреца-колдуна. Его шаман старательно делает всё, что и положено делать шаману: он курит трубку, бьёт в бубен и кружится в дикой пляске, уж на то и шаман.
Что же касается Венеры, то мало-мальски добросовестный специалист по русской литературе начала XX века без труда обнаружит в ней весьма ревностно культивируемый в те годы образ облеченной в Солнце Жены, ожившую цитату, скажем, из Бальмонта.
Кто заставил бедняжку Венеру одеть незабудки? Да современники Хлебникова! Цветовая гамма поэмы — сплошь «Золото в лазури»: тут и глаза синего изгиб и синие выси, а незабудки — в инфляционном переизбытке:
И золото тут же: золото и мел, такова Венера — концентрат мотивов и образов Бальмонта и Андрея Белого. Прямо из Бальмонта переселился в поэму неведомо откуда появляющийся здесь умирающий лебедь. А можно сделать такой монтаж:
Блок, как мы видим, очень непринуждённо включается в идиллию Хлебникова: и неизменная „страсть”, без которой Блок уже и не Блок, и сочетание этой страсти — уж разумеется, огненной! — с холодом снега.
Так снова встречаются Блок и Хлебников. Блок Хлебникова не видит, не слышит, удостоив его одной-единственной снисходительной репликой. Хлебников же явно внимательнейше вслушивается в поэзию Блока и... Пародирует её? Варьирует? Нет, про-дол-жа-ет. Так же, как Пушкина продолжал.
Место действия поэмы «Шаман и Венера» не сибирская тайга, а... столица. Венера, повторяющая общие места современной Хлебникову литературы и стенающая о том, какая пошлость царит вокруг, Венера с замашками то ли высокооплачиваемой кокотки, то ли мещаночки с окраины Петербурга, встречается с флегматиком-шаманом в литературном сознании современников Хлебникова. В этом отношении поэма-идиллия совершенно реалистична, хотя реализм её своеобразен: он запечатлевает типичные идейные и художественные увлечения, моды, тенденции, ритмы; и реальностью в поэме является, конечно, не пещера шамана и не голубые цветочки в шестисаженном венке Венеры, а содержание, если можно так выразиться, “черепа” какого-то собирательного поэта 1910-х годов, потому что для Хлебникова не могло существовать абстракций “сознание” или “мысль”. Абстракции у него непременно становились живыми сценами; коль скоро существует сознание, то оно должно как-то выглядеть и где-то иметь обиталище, дом.
Я недавно снимался с черепом и, когда приеду, то покажу вам карточку, — пишет Хлебников матери в Астрахань в 1909 году. Фотография не сохранилась.13![]()
Я в черепе бога, — пишет поэт. Но и: Мой череп — путестан, где сложены слова. Череп — последнее, что остается от человека, и то, с чего человек начинается: в конце концов “я” человека живёт прежде всего в его черепе, а постичь другого можно, лишь войдя в его череп (метафора типа “проникнуть в мысли” для Хлебникова существовать не могла: умозрительно). Возникновение мысли, изречение её — прорыв сферы, прорубание окна, рождение.
В «Шамане и Венере»:
Если Хлебников пишет, что мысль была рождена, то она в его представлении действительно рождена: в чреве черепа, опутанного сетью морщин. Но так же рождена собирательным сознанием современников мысль о вечной женственности и о тайнах Востока, и поэма-идиллия воспроизводит жизнь этой мысли, претворяя её, эту жизнь, в спектакль, в зрелище. И, повторяю, не пародирование это, а какое-то договаривание.
Не поверю тому, кто скажет, что у Хлебникова был миф. Как раз напротив: мифы других поэтов он превращал в реальность. Блок мог написать:
Это миф. Миф о каких-то несуществующих умозрительных азиатах, вопреки этнографии объединённых со скифами, а главное — миф о Блоке. Да какой он скиф, Блок? Какой азиат? Утончённый интеллигент-европеец, рядящийся в кочевника-степняка. И Хлебников перевоплощается в настоящего, подлинного, демифологизированного азиата; ему это нетрудно, потому что уж он-то Азию и знает и любит.
Поэма «Хаджи-Тархан» создана за несколько лет до «Скифов», опубликована в 1913 году, и Блок, вероятно, её не читал, прошёл мимо.
И место и время рождения человека не были для Хлебникова идейно нейтральными актами, по-нынешнему говоря, анкетными данными. Родиться для него значило быть призванным в мир, войти в этническую и социально-психологическую закономерность, попасть под покровительство некоей числовой структуры (дата рождения) и места (где родился). Калмыкия стала для Хлебникова страной-покровительницей, страной-матерью. А Калмыкия — это волею истории форпост Азии на юго-востоке России, доплеснувшийся до юго-восточных границ Европы буддизм, умное миролюбие и слияние неба с землёй, потому что нигде не сливаются они так явно, так зримо, как это происходит в степи. Юрты в степи — будто белеющие среди цветов черепа, но черепа парадоксально живые: старцы, мужи, женщины и детишки, очаг, по-своему изысканное убранство — всё в них деятельно живёт и радостно мыслит.
Поэму «Труба Гуль-муллы» (1921) немыслимо рассматривать вне литературного движения начала XX века, вне фона, на котором в данном случае наиболее заметны должны быть «Скифы». Принцип здесь тот же, всегдашний: внедриться, вторгнуться внутрь живого явления, очерченного чужим словом. Хлебников, закинув за плечи дорожный мешок, отправляется в Азию. И:
Так принимает поэта Азия, так Иран его принимает. В этой стране я! — твёрдо произносит поэт. Звук и буква в штудиях Хлебникова, как известно, содержательны, значимы, событийны. В, — пишет он, — проникновение малым большего. Значит, когда Хлебников говорит, что он в этой стране, в перестает быть только лишь фиксирующим место предлогом; здесь — признание своей обязанности войти в жизнь страны, не столько открывать, сколько вскрывать то, о чём будешь писать.
Традиция истолкования лица человека как модели всего мироздания, воспринятая Хлебниковым из глубин отечественной поэзии, развивается в «Трубе Гуль-муллы». В основе её лежит история путешествия, а формула всякого путешествия, в сущности, определяется фразеологизмом „лицом к лицу”: цель путешествия — увидеть лицо страны, воспроизвести её облик; и страна, которую посещает пришелец, тоже вглядывается в его лицо. У Хлебникова: Круч кремневласых неясные очи | звёзды смотрят в душу с черного неба. И ещё: Дети пекут улыбки... Улыбка — духовный хлеб, тот самый хлеб, который почти непременно обнаруживается в поэмах своеобразного тёзки этого хлеб-а — будетлянина Хлеб-никова.
У Блока — экзотика собирательной Азии, эсхатологические картины, переходящие в призывы поскорее устремиться „на братский пир труда и мира”. У Хлебникова — реальный облик страны:
Есть и мир, есть и пир. Мир запечатлен в зарисовках: духовный хлеб ребячьих улыбок, кротость устрашающих псов. Пир — в сценах угощения русского бродяги-поэта, быстро вросшего в быт и нравы Ирана и принимаемого здесь за своего, за дервиша, за гуль-муллу: учителя цветов или, шире, учителя красоты.
Спор идёт не о том, миролюбива или воинственна Азия. У Хлебникова Иран — вовсе не сплошь миролюбие. Он балансирует меж войною и миром, и среди иранцев есть воины, покрытые роскошью будущих выстрелов. Да спора-то нет вообще: мяч не спорит с мечом. Говорится о том, как целесообразнее познавать и исследовать мир; и познание извне, вербальное познание у Хлебникова претворяется в познание актуальное. По правилу: „Сказано — сделано”. Если сказано слово об Азии, то надо отправиться в Азию. Влезть, так сказать, в её шкуру: войти в сферу её. Разделить с ней трапезу, и пусть этой трапезой окажется не праздничное угощение, а реальный насущный хлеб. С людьми разделить его, а если придется, так и с собакой: разделяет же Хлебников с бродячей собакой скудный морской улов. Ищем. Грызём. Смотрим друг на друга (даже с последней, с никудышной собакой — „лицом к лицу”, будто на дружеской беседе за трапезой: предземшара демократичен!).
Если сказано слово о царстве, по которому скитается, бродит леший, — иди к лешему, вступай в это царство!
Сказано слово о ведунах, о шаманах и о Вечной Женственности — внедрись в это слово, подслушай разговор колдуна с античной богиней!
А уж коли сказано слово об Азии, которая для нас, русских, всегда была где-то рядом, под боком, подле нас и в нас, — отправляйся, не мудрствуя, в Азию. Побывай там, а тогда уж и рассказывай, какая она из себя!
А теперь — о слове в трактовке Хлебникова.
Русская поэзия XVIII и начала XIX столетия развивалась рука об руку с филологией; поэтическое высказывание было теоретически обосновано. Гениальный филолог в Пушкине скрыт последующими его толкованиями, быть может, правомерными, но и односторонними тоже. А между тем слово рассматривалось поэтом как что-то живое, и каждый его элемент обладал самостоятельным смыслом.
Поэт — полководец. Царь. Слова — его подданные, его войско, в котором заметен и выделен каждый воин, а воином может оказаться и слог, то есть даже и отдельный звук, буква: подобно человеку каждый слог в нашей речи обладает своею судьбой, автономным смыслом, сознанием.
Хлебников воспринял традицию очеловечивания, антропологизации слова. Он начинает относиться к слову, как к чему-то, даже к кому-то жи-во-му. Как к свидетелю невидимых нелюбопытному взгляду единств. Можно спорить о конкретных новообразованиях Хлебникова: нравда — то, что нам нравится; нравительство — правительство, которое нравится народу. Однако частности не должны заслонять от нас простоты и оригинальности исходных догадок поэта.
Связь слова, речи со светом, с лучом. Мудростью языка давно уже вскрыта световая природа мира, — пишет Хлебников («Наша основа»). Он, конечно же, знал суждения Фердинанда де Соссюра о случайности связи звука и речи и деятельно с ними спорил: звук в его понимании — всегда какой-то протекающий в пространстве процесс, о котором звук и рассказывает. Стало быть, звук — своего рода притча, новелла. З, например, по Хлебникову, возникает там, где луч падает на отражающую его поверхность. Простейшее: зеркало, зрение, звезда, зарница, заря. Л начинает те имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси: ласты, лыжи, ладонь («Разложение слова».)
Методология не будет устойчивой, прочной, если она по собственной инициативе сама не задаст себе вопросов скептических, колеблющих её утверждения. Например: относятся ли догадки о пространственно-фотоморфной природе слова только к русскому языку и к славянским? Латынь, древнегреческий, коптский, санскрит, живые романские, германские, финно-угорские языки — всё это надо поднять для того, чтобы опровергнуть поэта или найти вариации закономерностей, обнаруженных им. Когда он говорит о том, что Г упорно стоит в начале имён многих немецких мыслителей и начинает их перечень с Гёте и Гейне, любой школьник может злорадно заметить: это в русской транскрипции так, а в немецкой — совершенно различные звуки и буквы, Goethe и Heine. Иногда, — пишет Хлебников, — правящий род и страна начинаются с общего начального звука: Германия, Гогенцоллерны ‹...› Но Германия для её уроженцев — не Германия вовсе. „И вся концепция рушится!” — ликующе вопиют в таких случаях. Но прежде чем с демоническим хохотом рушить причудливые догадки, может быть, следует вернуться к исходной их точке? В данном случае к ситуативному пониманию звуков речи и к гипотезе об их фотоморфности?14![]()
Хлебников проделал интереснейшие анализы сочетания звуков П и М в трагедии Пушкина «Пир во время чумы» и в балладе Лермонтова «Тамара». Что произойдёт, если и дальше пойти, применив фотоморфную лингвоэстетику Хлебникова к анализу общепризнанных вершин самого добротного реализма? Почему бы не отважиться на такое?
| на персональную страницу В.Н. Турбина | ||
| карта сайта | 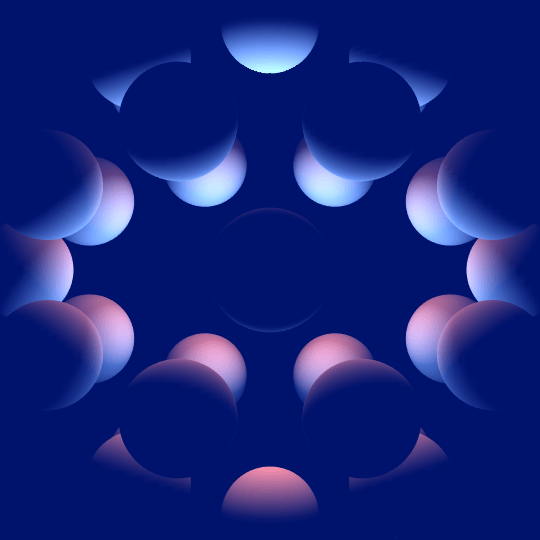 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||