

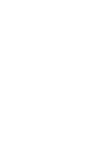 елимир (Виктор) Хлебников занял в русской литературе место, обрести которое он, по-видимому, не порывался и не стремился: ему выпала роль корифея русского авангарда, роль основоположника линии какого-то словесного экстремизма, роль поэта-крайности, поэта-загадки. И ещё Юрий Тынянов, протестуя против того, чтобы в связи с именем и поэзией Хлебникова непременно говорилось о футуризме, о “зауми”, доказывал, что Хлебников понятен, что он уже понят, и что наследие его осваивается и будет осваиваться в дальнейшем. Но прoшло много лет, и другому исследователю, Вяч.Вс. Иванову, снова приходится повторять давно сказанное Тыняновым. Он утверждает, что „по дурной традиции упоминаемая малопонятность Хлебникова при ближайшем рассмотрении оказывается серьёзнейшим заблуждением критиков”.1
елимир (Виктор) Хлебников занял в русской литературе место, обрести которое он, по-видимому, не порывался и не стремился: ему выпала роль корифея русского авангарда, роль основоположника линии какого-то словесного экстремизма, роль поэта-крайности, поэта-загадки. И ещё Юрий Тынянов, протестуя против того, чтобы в связи с именем и поэзией Хлебникова непременно говорилось о футуризме, о “зауми”, доказывал, что Хлебников понятен, что он уже понят, и что наследие его осваивается и будет осваиваться в дальнейшем. Но прoшло много лет, и другому исследователю, Вяч.Вс. Иванову, снова приходится повторять давно сказанное Тыняновым. Он утверждает, что „по дурной традиции упоминаемая малопонятность Хлебникова при ближайшем рассмотрении оказывается серьёзнейшим заблуждением критиков”.1Уверения в понятности Хлебникова, указания на то, что он делал содержательными, значительными решительно все элементы поэтического языка вплоть до отдельных фонем, стали сегодня таким же трюизмом, как и сетования на непонятность. Поэта комментируют, растолковывают; но чем обстоятельнее комментарии к нему, тем больше сомнений вызывают уверения в его понятности и доступности: хороша понятность, если для того, чтобы проникнуть в смысл стихотворения «Меня проносят на слоновых...» или разобраться в потоке метафор Поэта, читателю надлежит отправиться в Тарту или Хельсинки, где филологи высокой квалификации, специалисты-толмачи исчерпывающе объяснят ему смысл прочитанных строк. Нет, ни ссылки на то, что в своё время не очень понятны были Пушкин и Тютчев, ни полемическая защита Хлебникова, ни его построчное комментирование — проблемы Хлебникова не решат. Полемика продолжается, комментарии множатся, но не можешь отделаться от ощущения: нечто главное, решающее о поэте ещё не сказано. И дело, видимо, в том, что, начиная с Тынянова, исследователи Хлебникова шагнули на слишком уж проторенный путь — на путь апологетики, апологии, конечною целью которой закономерно является триумф апологетизируемого: победа с последующим его увенчанием — скажем, с включением триумфатора в ряд классиков; Пушкин – Лермонтов – Тютчев – Некрасов – Блок – Хлебников...
Но что, если Хлебников... не нуждается в апологетике? Что, если все усилия по возведению его на некий литературный Олимп находятся в разительном противоречии со всем его творческим обликом, с его призванием, с его прижизненной и посмертной судьбой? Что, если он всё-таки действительно малопонятен, художественно герметичен? И наконец, что, если по типу своего мышления, творческого поведения, он как раз и должен подвизаться где-то среди полузабытых поэтов-легенд, поэтов-чудаков, имена которых упоминаются от случая к случаю, то с насмешкой, то преувеличенно восторженно, и стихи которых не заучиваются школьниками по заданию строгой учительницы наизусть, хотя отдельные любители поэзии порою и натыкаются на них, пытаясь в них вникнуть, но вскоре оставляя их ради каких-нибудь житейских забот со смутным чувством прикосновения к чему-то необычайному и беззащитному перед недоумением и осмеянием?
Изучая тексты художественных произведений, мы так или иначе деформируем историю литературы. Наше призвание — исследовать творчество как поведение, как поступок. Как часть чьей-то судьбы, выразившейся, разумеется, и в тексте романа, драмы, стихотворения, но выразившейся не только в нём, в тексте. А сýдьбы поэтов, мыслителей, государственных деятелей, полководцев, учёных так же, как и судьбы рядовых людей, простых смертных, имеют, конечно же, свою ещё не выявленную типологию.
Но что знаем мы о типах поэтов вообще и в частности о типах русских поэтов? «Архаисты и новаторы» Тынянова — серьёзный опыт типологии словесного творчества. Но он недостаточен, предварителен. Кто такой — по принятой Тыняновым классификации — тот же Хлебников? Новатор? Однако Тынянов проницательно пишет, что “Хлебников — единственный наш поэт-эпик XX века”,4![]()
Тредиаковский, Бобров, Шишков — чудаки. Их удел, их судьба — навсегда оставаться в тени, в каком-то полузабвении; и именно такими, неканоническими, недочитанными, не прояснёнными до конца они и будут присутствовать в сознании их потомков. А тот, кому они понадобятся, найдёт их, отыщет.
Они были просто талантливы. Хлебников был гениален.
Они жили тогда, когда общественная потребность в людях их типа была приглушена, редуцирована: монархии, империи могут быть понятны её прямые противники, на откровенную вражду она отвечает враждою же; но в чудаках она просто-напросто не нуждается. Тредиаковский, Бобров и Шишков в упорядоченном идеологическом кругозоре Российской империи оказались как-то не ко двору, а от народа, всегда любившего и уважавшего чудака, они уже были отдалены.
А Хлебников складывался между революциями 1905 и 1917 годов. И революция даровала поэту то, в чём, вероятно, более всего нуждается люди его темперамента, его типа, его склада: исторические обстоятельства сложились так, что поэт получил драгоценный простор. И речь идёт не только о географическом пространстве, необходимом поэту-чудаку, поэту-скитальцу: поэт странствовал, кочевал, многократно пересекая границы, разделяющие земли одного народа от исконных земель другого, постоянно оказываясь среди новых национальных культур, нравов, обычаев и традиций. Революция подняла на ноги весь пёстрый люд уходящей с исторической арены Российской империи. Скитаясь по этому многонациональному разноцветью, поэт повсюду ощущал себя как дома, в родной стихии; он вырвался на простор, без которого он мог бы задохнуться, угаснуть. Но поэту был дарован и простор внутренний: простор исканий, проходящих на границах искусства и точных наук, поэзии и математики, игры и серьёзных социологических прогнозов, веры и разума. Он обрёл то, чего не могло быть у его предшественников, у его типологических родичей, скованных ощущением незыблемости их социального окружения, этикета, морали. Чиновник А.С. Шишков — какой-то зародыш, какой-то эмбрион скитальца В.В. Хлебникова. Но и В.К. Тредиаковский, и С.С. Бобров, и он, Шишков, министр Александра I, — те коконы, из невзрачной ткани которых сложилась яркая бабочка: творчество Хлебникова.
Впрочем, в русской литературе был ещё один выдающийся, гениальный оригинал, типологически несколько родственный Хлебникову, хотя в целом и относящийся к какому-то иному, чем он, Хлебников, типу; им был Н.В. Гоголь.
Гоголь академизирован. Гоголь обрёл то, что соответствует его положению в истории славянской культуры, стилю его мышления: он стал классиком ещё при жизни, и борьба В.Г. Белинского за признание Гоголя была разумной и дальновидной: классик — это прежде всего высший авторитет, а именно авторитет Гоголя и укреплял Белинский, сражаясь за то, чтобы Гоголь был признан, а впоследствии яростно споря с ним. Гоголь признан писателем-классиком, он полноправно вошёл в хрестоматии.
И всё же Гоголь не до конца каноничен: множество необъяснимых и необъяснённых привычек, крайний эксцентризм в быту, экстатическая религиозность, мессианизм, но и какое-то упорное желание исчезнуть как личность, духовно не завершиться, — всё это трудно охватить какою бы то ни было единой концепцией, а классик концептуален. И Гоголь оказался посредником между классической, академической историей русской литературы и не состоявшимися, не развившимися ветвями её, которые начинались ещё в XVIII веке, в творениях злосчастного В.К. Тредиаковского. В начале XX века Гоголь изучается особенно увлечённо. О нём пишут Л.Н. Толстой, В.Я. Брюсов, к нему обращаются символисты. Очень возможно, что широко отмеченный в 1909 году юбилей Н.В. Гоголя форсировал внимание к нему и у юноши Хлебникова, начинающего будетлянина. Но суть, конечно, прежде всего в объективно существующей сопоставимости двух деятелей русской культуры; и творчество Гоголя явно коснулось стихотворений, поэм и драматических набросков В. Хлебникова.
Прямые и косвенные, откровенные или слегка завуалированные ссылки на произведения Гоголя, на характерные гоголевские образы у Хлебникова достаточно интенсивны. Гоголь — постоянный гость в произведениях Хлебникова. И в риторической фантазии Хлебникова «Ка» девушка говорила языком Гоголя, а в «Зверинце» смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя. Герои Хлебникова и говорят по-гоголевски, и ведут себя так, что они порою начинают напоминать гоголевских героев.
И украинские, и поздние, так называемые петербургские повести Гоголя то и дело оказываются в поле зрения Хлебникова. „А вареники добрые. Как надо вареники! С вишней, молодуха?” — звучит разудалый бас героя «Малиновой шашки», и ясно, что слова его — стилизация под отрывок из «Сорочинской ярмарки» или «Ночи перед рождеством». Или: „Ты говоришь страшные вещи. И очи твои страшны сегодня...” Опять-таки стилизация: будто «Страшную месть» цитирует Молодой господин в шуточной мистерии «Чортик», носящей опять-таки “гоголевский” подзаголовок: Петербургская шутка на рождение Аполлона (имеется в виду журнал «Аполлон»). Там же — мотив непереносимого смертными взгляда, взора, перед которым, спасая себя, надо потупиться, опустить, спрятать глаза: „Смотрите, он смотрит огненным взглядом... Закройте все глаза. Вы не вынесете — это лучи”. И здесь, конечно, — развитие финального мотива повести «Вий». И опять тот же «Вий»: Точно опущенный палец вдруг указал на кого-то, а голос произнес: „вот он” (рассказывается о том, как коршун во время проезда царя по Москве вдруг опустился над августейшею головой; коршун уподобляется персту злого духа, вия). А в «Малиновой шашке», в вещи, вообще стилизованной под украинские повести Гоголя: ведьмочка-панночка, и этот мотив — прямая отсылка к Гоголю, к образу героини «Вия», погубившей удалого бурсака Хому Брута. В очерке «Перед войной»: „Xppю!” — дико хрюкнуло чудовище, прокалывая тьму холодными белыми клыками, и хрюкающее чудовище Хлебникова — прямой потомок описанной в «Сорочинской ярмарке» свиной рожи, которая вдруг вломилась в оконце тесно набитой хаты: „выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: а что вы тут делаете, добрые люди?”
В равной степени звонко отзываются у Хлебникова и повести Гоголя о Петербурге. Умерший семидесятилетний чиновник, воскреснув и страшась, что его обнаружат, за ним придут, умоляет жену:
„Они... того... я... того...” — это, конечно же, бессмертный Акакий Акакиевич из «Шинели». Что же касается повести «Нос», то сопряжённый с ней, закреплённый за ней мотив исчезнувшего носа варьируется у Хлебникова постоянно.
„Эге! якая ведьма вышла”, — слышится в «Малиновой шашке», и, наконец, в поэме «Берег невольников» — словно плач погребальный по сыновьям России, убиваемым на империалистической войне:
И вдруг — казалось бы, неожиданно:
Но этот взгляд, брошенный в сторону эпопеи Гоголя «Тарас Бульба», эта явная цитата из Гоголя — неожиданность чисто внешняя. В сущности же всё здесь закономерно: к эпопее Гоголя нас отсылают для того, чтобы показать внутреннюю несоизмеримость двух войн: той, освободительной, воспетой когда-то Гоголем, и нынешней, огромной по численности жертв, по географическому и экономическому размаху, но духовно бессодержательной.
Итак, в художественном сознании Хлебникова Гоголь присутствует постоянно, и он то и дело наведывается в произведения своего странного оригинала-наследника. Он может появиться в нравоописательном очерке, в шуточной мистерии, в поэме-памфлете. Иной раз он назван по имени, иной раз не назван, но стилизован настолько естественно, что не узнать его невозможно: Тарас Бульба с его неразлучною трубочкой, ‘люлькой’; панночка-ведьма; косноязычный петербургский чиновник, лепечущий классическое „того”, или другой чиновник, в одночасье лишившийся носа, — все они сделались хрестоматийными персонажами. Они вросли в сознание народа, стали неотторжимы от него. Никаких открытий в творчестве Гоголя его наследник не совершает. Он использует мотивы и образы, которые мог бы использовать в обиходной речи любой мало-мальски начитанный русский человек, интеллигент или рабочий-“мастеровой”; и пока стоило бы отметить лишь непринуждённость, с которой Хлебников ссылается на Гоголя: Гоголь — в нём, в Хлебникове, так же, как и в каждом из нас. Он всегда под рукой, всегда рядом. Однако подобное обращение к классику, к предшественнику, к великому соотечественнику — разумеется, ещё не традиция. Мотивы Гоголя и стилизация в духе Гоголя у Хлебникова факультативны так же, как факультативны они и в нашем речевом обиходе. Но они могут служить индикатором и каких-то более глубоких и основательных связей, связей структурно, художественно необходимых. А у Хлебникова и Гоголя есть, несомненно, и такие, существенные, составляющие традицию связи.
Нет имманентного “текста” художественного произведения. Есть судьба — судьба писателя-идеолога. Исторически детерминированная. Полная драматизма и порою комизма, автономная, но слагающаяся в диалоге, в общении с окружающими: с общественным строем, с производными от него институтами и учреждениями, с друзьями, с врагами, с семьёй. Ни один из нас не произносит и не пишет самодовлеющих “текстов”: наша речь всегда открыто или внутренне полемична, диалогична. Говоря, мы наступаем, оправдываемся, стилизуем свою речь, адаптируемся к собеседнику, кого-то цитируем. Словом, речь наша не плоскостна, а объёмна, и осуществляется она не в условном плоском мире одинокого “я”, а естественном трёхмерном мире, где “я” соседствует с “ты”, “ты” — с “он”. Говоря, мы поминутно создаём, строим свой собственный образ, и в этом отношении самый гениальный поэт ничем не отличается от заурядного счетовода или истопника, а они не отличаются от поэта. Само рассказывание чего бы то ни было — событие, и это становится совершенно очевидным при каких-нибудь радостных неожиданностях нашего быта. Ребёнок сказал: „ма-ма!” Текст его речи примитивен, элементарен. Но событие сие значительно и огромно, и тысячу раз правы родители, воспринимающие бесхитростный текст, изречённый их чадом, событийно, едва ли не космически значимо. И не текст первостепенен для них, а рассказчик. Его судьба, хотя и текст, исторгшийся из уст юного рассказчика, не безразличен для них.
Отлично, что проблема рассказчика встала сейчас перед историками литературы как первостепенная проблема поэтики; но закономерно, что именно в сфере проблемы рассказчика мы будем встречаться и с неточностями, и с неполнотой. Сопоставляя «Повести Белкина» Пушкина с «Шинелью» Гоголя, один из наиболее талантливых современных литературоведов, С.Г. Бочаров, пишет: у Пушкина рассказчиков несколько, много, а в «Шинели», напротив, мы постоянно чувствуем одного рассказчика-автора, хотя и с очень широким диапазоном, от болтливого говора до патетического лиризма.5![]()
Подобное прочтение Гоголя представляется мне несколько упрощённым: Гоголь как-то не услышан исследователем, настаивающим на том, что рассказчик у него — единственный демиург, создатель художественного мира, мирка, в котором, претерпевает хождения по мукам бедный Акакий Акакиевич.
Между тем, можно доказать, что рассказчиков у Гоголя ... два. Гоголь двугласен. Он дифоничен; и если у раннего Гоголя дифония, двугласие ещё не всегда заметны, то уже в «Тарасе Бульбе», в «Шинели» это двугласие становится основополагающим стилевым, композиционным, а в конечном счёте и содержательным принципом.
Остановимся на одном эпизоде из эпопеи Гоголя Тарас Бульба. Кипит бой.
Кто это рассказывает? Рассказывает это, условно говоря, Воин. Некто, не отделяющий себя от сражающихся Козаков, их товарищ. Воин наблюдателен, зорок: он успевает счесть, что Козаков осталось всего лишь семеро; он отчётливо различает один курень от другого и он отчётливо видит, как углубляется, вдавливается в грудь Кукубенка вражеское копьё. Речь его патетична, но патетика её — патетика ратного клича, призыва, дружеского бодрящего слова.
А дальше?
А это кто рассказал? Тот же Воин? Козак? Вознесение юной души, панибратски простой разговор Кукубенко с Христом, — это находится вне кругозора даже самого тёплого и сочувственного, но всё же земного, “посюстороннего” рассказчика предыдущего эпизода. Подобное могло открыться не Воину, а человеку, как говорится, не от мира сего. Праведнику. И скорее всего — слепцу, не видящему боя в подробностях его тактики, его психологии, но зато прозревшему в смерти одного из сражающихся патриотов продолжение мифа о вознесении безгрешной души на небеса и внутренним, каким-то духовным слухом внемлющему беседе божества с простаком Кукубенко. У Воина — глаза, а Праведнику даны очи. Воин слышит гул боя, а Праведник внемлет неслышному. Воин смотрит, а Праведник созерцает и прозревает. И у каждого из двоих — своя, автономная область знаний о мире. И каждый прав. И правда реальности сливается с правдой мифа в общую правду.
Дифференциация рассказчиков-двойников в творчестве Гоголя, их дуэт, гармония их голосов и комические разногласия между ними — проблема, разрешить которую историкам литературы ещё предстоит. Но уже и сейчас ясно видно, что двум рассказчикам открыты разные жанры: одному. Воину, — взволнованный публицистический репортаж о сражении, другому, Праведнику, — ярко выраженный апокриф. У них и стилистика разная. И лексика. И ритм речи. Но они — двоица, и именно они рассказали нам о Тарасе Бульбе и его сподвижниках, и тотчас же рассказали об Акакии Акакиевиче Башмачкине. Один, став писателем-реалистом, не избегающим ни нравоописательного очерка, ни фельетона, рассказал обыкновенную повесть о бедном чиновнике, о его радости и утрате, о попытках искать защиту у генерала, „значительного лица”. А другой вплёл в повествование своего сорассказчика одухотворённую и опять-таки чисто апокрифическую историю о хождении по мукам воплощённой кротости и незлобивости, о человеке, сознающем себя братом всех окружающих; о чудотворце, вернувшемся в мир после смерти, кончины. И лишь своеобразным “творческим содружеством” двух рассказчиков можем мы объяснить и ряд художественных причуд, загадок творчества Гоголя, и обаяние этого творчества, и его генезис, и влекущую мощь заложенной им традиции.
Причудливость художественного мира Хлебникова, его пестрота, нестабильность и ежеминутная изменяемость объясняется прежде всего множественностью аспектов, в которых рассматривается этот мир.
О Сад, Сад! — начинает Хлебников небольшую поэму в прозе «Зверинец». И далее:
«Зверинец», небольшая поэма в прозе Хлебникова, — вещь прежде всего инфантилизированная, созданная словно бы для ребёнка: прогулка в зоопарке (так же, как и посещение цирка) — любимое развлечение, увеселение мальчиков и девочек нашего века, маленьких горожан, оторванных от живой, подлинной, свободной природы. “Ребёнок и животное” — устойчивый сюжетный мотив русской прозы начала XX века (А.М. Горький, А.И. Куприн, Л. Андреев, далее — С.А. Есенин и В.В. Маяковский). И Хлебников развивает этот мотив: мы переходим от клетки к клетке, комментируя поведение наших четвероногих пленников и пленниц, всматриваясь в них, толкуя об их повадках. А рядом с нами всё время шествует какой-то Ребёнок: ‹...› Слоны кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребёнка поесть ‹...›, а орёл жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребёнок. Ребёнок глядит на зверьё, зверьё глядит на ребёнка, а гордый орёл и сам походит на усталого малыша.
Тынянов был совершенно прав, говоря об инфантильности Хлебникова: ребёнок, образ которого столь отчётлив в поэме «Зверинец», — и герой поэта, и один из рассказчиков, постоянно присутствующих в его творчестве. Порою он выделен, назван — так, как назван в «Зверинце». Порою присутствие его лишь подразумевается. Где ребёнок, там и не устоявшаяся, деформированная, ешё не обретшая скучной грамматической правильности речь: междометия, звукоподражания, слова и какие-то полуслова, бытующие только в специфическом детском лексическом обиходе. Ребёнок вносит в мир особенное отношение к животному, к растению, к минералу, к изделию рук людских: всё это для него — нечто живое и, более того, нечто глубоко человечное, мыслящее, одухотворенное и наделённое даром речи. Отсюда — особенное отношение к произнесению и к написанию слова, к фонеме, к букве: с буквы, даже с отдельного её элемента, со штриха начинается для ребёнка приобщение к грамоте, вводящей его в мир взрослых; и буква для него значит не менее, чем для иного взрослого может значить целая книга (кстати, вспомним, как проникновенно относился к букве гоголевский чиновник-чудак Акакий Акакиевич). И отсюда — игра как преобладающее отношение к окружающему. Отсюда же и кукла — полноправный двойник человека.
И мир Хлебникова наполняется куклами.
Герои многих поэм Хлебникова — несомненные персонажи кукольного театра, реконструируемого поэтом в его исконной народной мудрости: в театре кукол родился Фауст, театр кукол — театр философический, творчески смелый и идейно глубокий. И выстраивается у Хлебникова цепь, вереница понятий: современный урбанизированный ребёнок — инфантилизированная речь — игра — кукла, И какими-то звеньями, звенышками эта цепь соприкасается с творческим миром Гоголя, художника, знавшего, помнившего о мудром комизме куклы: образы героев «Повести о том, как поссорился...», к примеру, — сплошь и рядом восходят к кукольным персонажам. Но у Хлебникова мотив куклы ещё более активен, форсирован, ибо Ребёнок у него — один из полноправных рассказчиков. Он повествует нам о представшем перед ним современном, казалось бы, хорошо знакомом нам мире или сбивчиво пересказывает сказки, слышанные им где-то, и продолженные, досочинённые им в меру его свободной фантазии. Это — и ребёнок, едва вступающий в мир, ребёнок первого лепета. И ребёнок, уже повзрослевший, гуляющий по зоосаду, зверинцу. Но это — и отрок, подросток, оказавшийся свидетелем и участником мировой войны, революций, гражданской войны. Ребёнок у Хлебникова явлен в его естественном росте, в его переменчивости: с каждым годом ребёнок поднимается на новую ступень познания мира, и никто не умеет так, как ребёнок, отрицать себя, иронизировать над собою („Когда я был маленький, я думал что...” — часто посмеиваются над самими собою дети).
От грудного малыша до школьника... У Хлебникова — целая толпа детишек, рассматривающих мир, познающих его и повторяющих его в своих играх. Показать мир с их точки зрения — огромная творческая победа, акт гуманный и педагогически современный, ибо нынешняя педагогика справедливо настаивает на том, что ребёнок не есть какой-то недоразвитый взрослый, что он равноправен с нами. Но здесь же — и причина того, что Хлебников действительно мало понятен (всегда ли мы можем понять ребёнка?). И не кто-то посторонний мешает его признанию, а сам он устойчиво сопротивляется канонизации, возведению в классики. Классик — высший авторитет, а мнение ребёнка, его суждение о жизни принципиально не авторитетно; ребёнок не нуждается в обладании властью в любой из её бесчисленных форм, хотя бы и в той, какую имеют над нами Шекспир, Пушкин, Гёте, и навязывать ему власть опрометчиво. А Юрий Тынянов противоречил себе: талантливо выявив инфантильность мироощущения Хлебникова, он по инерции верил в возможность приобщения поэта к пантеону классиков отечественной словесности, узаконенных авторитетов, властителей наших дум.
Но проникновенными, артистически безукоризненными стилизациями под мироощущение ребёнка, под особенности и причуды его мышления образ рассказчика у Хлебникова, разумеется, не ограничивается. И образ Ребёнка в творчестве поэта срастается с образом, я бы сказал, Жреца. С образом пантеиста-язычника — человека преклонных лет, жизненно мудрого, но не очень-то осведомлённого о всех достижениях просвещения. Слияние этих рассказчиков в поэзии Хлебникова органично: недаром же, говоря о языческом, античном искусстве, мы то и дело оперируем понятиями типа “колыбель цивилизации” или “детство человеческого общества”. И никто не умел мыслить так пассеистически, так глубоко вжиться в прошлое, как странный будетлянин, поэт-чудак Хлебников.
Язык Хлебникова — язык язычника.
Там, где Ребёнок видит своего товарища по игре и тянется к добродушнейшему слону, его убелённый сединами сорассказчик прозревает какие-то одному ему открывающиеся тотемы, божества, кумиры, обряды и ритуалы. Ребёнок уверен, что звери играют. Жрец убеждён, что они молятся. Ребенок уподобляет зверьё себе. Жрец — себе:
Для ребёнка зверинец — развлечение. Развлекаясь, он кормит животных, он наблюдает их, узнавая в них что-то родственное себе, близкое, исцеляющее (кстати, миниатюра о слонах словно повторяет в конспективном виде рассказ А.И. Куприна «Слон»). Но существует исконно русское понятие “стар и млад”. Сходство старости и детства замечено давно. И рядом с Ребёнком — Старец. А он — стар вдвойне: он стар не только житейски, биологически, но он ещё и исторически стар. Древние греки — дети, но они же всё-таки ещё и наши прадеды, пращуры. Эти дети старше нас на 3 000 лет. На 1 000 лет старше нас и этнически более близкие нам славяне-язычники — дети славянской культуры, но одновременно и деды её, знакомые, конечно, и с буддизмом, и с первыми шагами ислама. И дитя-дед тоже пришёл в зоопарк. И встал рядом с гуляющим здесь современным ребёнком. И вторя ему, пришелец из прошлого принялся на свой лад растолковывать наблюдаемое. И голоса их слились, интегрировались, хотя в то же время голоса их автономны, и каждый из этих голосов можно выделить, вычленить, ибо для каждого голоса мгновенно находится адекватный ему жанр: лубочная зарисовка, сделанная словно бы рукою ребёнка, уступает место миниатюрной легенде, сказанию. Жанры меняются, как меняются в калейдоскопе цветные стёклышки, камешки: при каждом обороте магической трубки образуется новый орнамент, и один цвет в нём дополняет другой, сохраняя при этом и собственный специфический колорит, свою символику, своё содержание.
В «Зверинце» рассказчик, названный нами Старцем, Жрецом, — только один из рассказчиков. Он — комментатор, истолкователь увиденного. Но сплошь и рядом он выходит на авансцену повествования и становится героем той или иной вещи Хлебникова. В драматической фантазии «Мирсконца» он деградировал: он семидесятилетний суетливый столичный чиновник, неизвестно отчего воскресший из мёртвых и второпях вспоминающий о годах,
Жрец Хлебникова, несомненно, родственен одному из рассказчиков, выступающих в повествовании Гоголя, Праведнику, провидевшему и вознесение Кукубенко на небеси, и святость смиренного Акакия Акакиевича. Однако он как-то анархичнее, неорганизованнее и разбросаннее. Оставаясь при своей возвышающей душу мудрости, он в то же время соприкасается с бытом ещё теснее, чем его предшественник, явленный в творчестве Гоголя: в качестве рассказчика он слоняется по московскому зоопарку, в качестве героя он терпеливо ублажает богиню Венеру, представшую перед ним в обличье не столько классической статуи, сколько какой-то опереточной второстепенной артисточки. Снижен образ Жреца; снижен и образ богини; и в возвышенный миф неожиданно вторгается жестокий романс:
Подобное надо петь, напевать. И напевать меланхолически, томно, под гитару, в компании каких-нибудь мелких чиновников, телеграфистов, военных писарей и хорошеньких горничных, видящих в Венере некое подобие водевильной субретки или непременную для жестокого романса чувственную и неутолимо страстную даму. Такое снижение античного эпоса, античной мифологии и античной истории вполне традиционно, оно отлично знакомо и русской бурлескной поэзии XVIII столетия, отголоски его есть и у Пушкина, и у Гоголя (гоголевские бурсаки, как известно, наделены именами римлянина-республиканца Брута и императора Тиверия, Тиберия: Хома Брут и Тиберий Горобець фигурируют в «Вие»). И когда дело идёт к снижению классической мифологии, Старец, Жрец, участвующий в построении тех или иных произведений поэта, разумеется, не спеша умолкает. Он постепенно уступает место другому рассказчику. И если жестокий романс, неожиданно вклинившийся в круг патетических, лирических образов, у Хлебникова случаен и мимолётен, то строго закономерна у него иная повествовательная установка, иной голос. Принадлежит он некоему современнику поэта. Лицу, не расположенному ни к детским играм с куклами или с животными, ни к языческим молениям и ритуалам. И этот, третий рассказчик стремится выделить в событиях их политический, злободневный аспект. Он — Политик. По-своему прогрессивный. Настроенный радикально, решительно и категорично. Он немного скептичен, но он искренне встревожен тем, что переживает его страна. А сфера его словесного творчества — жанры, связанные с общественной борьбой и полемикой: лёгкий газетный фельетон или серьёзный памфлет, подробный репортаж с места событий или краткий лозунг, грубоватая частушка или рискованный научный прогноз. Он владеет политической эпиграммой, шаржем; он не считает зазорной саркастическую пародию. Ему не до древних преданий и не до раздумий об астральных мирах и исторических судьбах буддизма. Он торопится свергнуть царя, низложить буржуазное Временное правительство, оружием слова сражаться с анархией и с пытающимся пристроиться к революции мещанством. Многократно отмечаемое родство Хлебникова с Маяковским возникает, конечно же, потому, что у обоих поэтов присутствует в чём-то тождественный образ. В их творчестве он возникает одновременно, и трудно сказать, кто на кого мог влиять: влияние Маяковского на Хлебникова возможно так же, как и влияние Хлебникова на Маяковского. Но Маяковский придаст образу рассказчика — политического борца — не свойственную аналогичному образу, созданному его старшим современником законченность воззрений и убеждений и доведёт этот образ до поэмы о Ленине, до «Хорошо!» и до «Стихов о советском паспорте». Рассказчик-политик у Хлебникова менее точен в оценках и характеристиках событий. Суждения его могут быть и расплывчаты, и утопичны. Но сопряжённость его с революцией несомненна, и в отношении к ней он неизменно сердечен и искренен.
Из художественных произведений рассказчики, словесные маски Хлебникова переходили в его биографию, в его жизнь: право же, он был человеком-триптихом, одновременно Ребёнком, Старцем и каким-то прогрессивным Общественником. И летом 1917 года Хлебников звонит в Зимний дворец, объявляет Временное правительство свергнутым и ядовито предлагает ему выселяться. Ребёнок-подросток и беспокойный Общественник сливаются в его мистификации в какой-то единый образ: они действуют сообща, рука об руку. А потом Хлебников исчезает, теряется где-то. Он — скиталец, странник, дервиш, описавший свои приключения в поэме «Труба Гуль-Муллы»; и тогда пантеист-язычник, присутствующий в его облике, выдвигается на первый план, хотя чудак-скиталец остаётся в какой-то степени и ребёнком, и любознательным газетчиком-публицистом.
Поэма «Зверинец» рассказана на три голоса; и голос публициста-фельетониста, Политика, раздаётся в ней сразу же после торжественных возглашений Жреца: О Сад, Сад! И тотчас же раздаётся: Где немцы ходят пить пиво. А красотки продавать тело. Так, в стиле иронического журналистского репортажа, мог увидеть зверинец, конечно, не пришедший сюда погулять Ребёнок и не Жрец, вдохновенно прозревающий, что орлы ‹...› подобны вечности и что взгляд зверя больше значит, чем груды прочтённых книг.
Жрец-старец повествует о том, что открывается его умудрённому взору. Видя, положим, оленя, он возвещает: ‹...› Олень лишь испуг, цветущий широким камнем. Всё сложно. Всё требует проникновенных раздумий. Всё вызывает недоумение: как же может камень... цвести? И лишь подумав, догадываешься: твёрдые, как камень, оленьи рога по форме напоминают разветвлённый цветок. Что ж, красиво и поэтично. Но пока мы размышляем над эйдологическими загадками одного рассказчика, другой... Другой рассказчик пришёл в зверинец с иронической усмешкой фельетониста. И Фельетонист мгновенно пародирует Мудреца, изрекшего что-то не очень понятное об испуге оленя и о цветении камня: А немцы цветут здоровьем, — подхватывает он. А потом он, Фельетонист, умолкает. Но он выскажется в конце поэмы:
«Зверинец» — и простодушное описание зоопарка, сделанное ребёнком; и аллегорическая поэма; и репортаж с примелькавшимися типажами попивающих пиво здоровяков-немцев да девиц лёгкого поведения. Три разных воззрения на одно и то же диференцируются, сосуществуют рядом. Но они и интегрируются, пересекаются: Жрец стремится передать свою мудрость Ребёнку и хочет выразиться попроще, Общественник передразнивает его. Передразнивание, пародирование наполняют «Зверинец» Хлебникова. Звери передразнивают людей, копируют их, кричат, вторя им; люди дразнят зверей. Живая природа передразнивает неживую и слоны кривляются, как горы во время землетрясения, а хвост красавца-павлина походит на географическую карту Сибири. Запертые в клетках пленники повторяют жесты, телодвижения, слова тех, кто разгуливает на свободе:
Характерно, что в «Зверинце» нет ... льва. Гордый царь зверей как-то вовсе забыт. Мир обходится без него. У Маяковского он появится:
Лев демократизировался; из царей он превращён в председателя животного мира. А у Хлебникова его вообще нет; а царственный носорог
Поэма Хлебникова обращена к сердцу современного русского. Современный русский предстаёт в ней как наследник и мелькающих в её строках языческих мифов, и «Слова о полку Игореве», и Иоанна Грозного. Соколы были учителями русских в военном деле, русская культура соприкасалась с буддизмом, с исламом: история отчизны вошла в поэму в компактном и энергическом изложении. Ирония в ней порой перебивает патетику, но тем выше становится цена этой искренней и глубокой патетики.
Позади — тысячелетняя история.
А что впереди?
Три свободных человека разглядывают зарешеченный, отгороженный от них железной оградою мир. Они дискутируют, спорят, вторят друг другу и перебивают друг друга. Каждый из них зеркально отражает двух других своих спутников; мотив зеркала, мотив отражения одного в другом у Хлебникова существенен не менее, чем у Гоголя — художника, мир которого увешан зеркалами, портретами и украшен зеркальными поверхностями (леса, например, глядятся в водную гладь Днепра). Все трое отражены в запертых по клеткам зверях: среди зверей есть и дети, и жрецы, и своего рода политические деятели. А звери видят свои отражения в людях.
«Зверинец» — поэма, продолжающая традиции множества русских поэм о свободе и о неволе. Триединый рассказчик Хлебникова вступает на путь, ведущий к свободе.
Путь к свободе тяжек и труден: будут и поэмы о страшной войне, и сам Хлебников в силу какого-то невольного прорицания своей участи попадёт за колючую проволоку, оградившую от остального мира солдат запасного полка, в который он угодил. Но будет и «Ладомир». И мир «Ладомира» — антитеза миру «Зверинца»; а о светлом этом мире поведают те же трое: Ребёнок, Старец и сопутствующий им трезвый Политик.
А всех их будет сопровождать русская литература, история которой простирается за пределами учебников и хрестоматий. Литература полупризнанная, неканоничная, неклассическая: предшественников Хлебникова надо искать где-то в апокрифической агиографии русского средневековья, в поэтике и риторике XVIII столетия, в творчестве феноменального украинского мыслителя Григория Сковороды, в неуклюжих стихах Семёна Боброва, в народных лубочных картинках. Хлебников вобрал в себя эту многообразную культуру, и он принадлежит ей.
Но и классика, разумеется, будет вести трёх рассказчиков поэм, стихотворений, причудливых новелл и драматических сценок Хлебникова от «Зверинца»далее, к «Ладомиру», и Гоголю здесь должно быть отведено первое место.
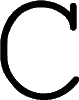 лыхали ль вы про александроведение? Наука, да. Со штатным расписанием, гладиаторскими поединками светочей, подковёрной борьбой гасильников и усидчивой серединкой на половинку. И я не слыхал. А владимироведение вам как? И я без понятия. Осиповедение — та же песня А. Градского на слова М. Булгакова: починяю примуса, никого не трогаю, иду своей дорогою. Дорогою велимироведения.
лыхали ль вы про александроведение? Наука, да. Со штатным расписанием, гладиаторскими поединками светочей, подковёрной борьбой гасильников и усидчивой серединкой на половинку. И я не слыхал. А владимироведение вам как? И я без понятия. Осиповедение — та же песня А. Градского на слова М. Булгакова: починяю примуса, никого не трогаю, иду своей дорогою. Дорогою велимироведения.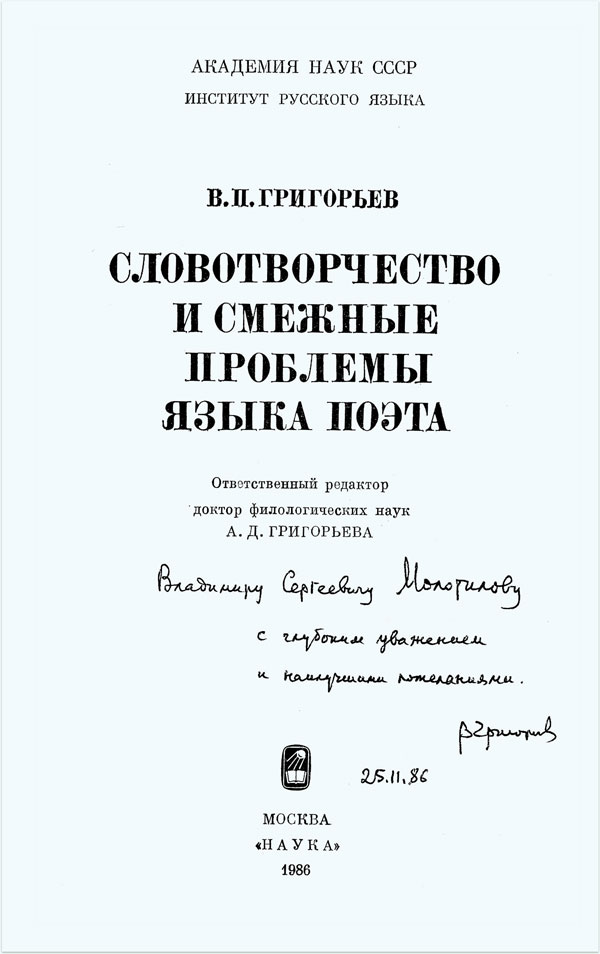 Для понимания всего дальнейшего необходимо подчеркнуть, что дело вовсе не в том, чтобы “влечь” Хлебникова к “якобы предстоящему ему увенчанию и признанию”: так ещё совсем недавно, вопреки очевидности, оценивалась известным критиком позиция Тынянова (Турбин 1981:175). И не одного только Тынянова. Оказывается, начиная с него, велимироведение шагнуло „на слишком уж проторенный путь апологетики, апологии, конечной целью которой закономерно является триумф апологетизируемого: победа с последующим его увенчанием — скажем, с включением триумфатора в ряд классиков: Пушкин – Лермонтов – Тютчев – Некрасов – Блок – Хлебников ‹...›” (там же, с. 174). Между тем „художественно герметичный” поэт и „должен подвизаться где-то среди полузабытых поэтов-легенд ‹...›” (там же). В апологетике ни Хлебников, ни любой другой поэт, конечно, но нуждается. Но если он в самом деле „был гениален” (там же, с. 175), то предстают по меньшей мере два вопроса: (1) что означает этот сильный предикат, если не „приобщение поэта к пантеону классиков отечественной словесности, узаконенных авторитетов, властителей наших дум” (там же, с. 184); (2) если Хлебников принципиально непонятен, „действительно мало понятен” (там же), то каким путем получен тот же самый предикат?
Для понимания всего дальнейшего необходимо подчеркнуть, что дело вовсе не в том, чтобы “влечь” Хлебникова к “якобы предстоящему ему увенчанию и признанию”: так ещё совсем недавно, вопреки очевидности, оценивалась известным критиком позиция Тынянова (Турбин 1981:175). И не одного только Тынянова. Оказывается, начиная с него, велимироведение шагнуло „на слишком уж проторенный путь апологетики, апологии, конечной целью которой закономерно является триумф апологетизируемого: победа с последующим его увенчанием — скажем, с включением триумфатора в ряд классиков: Пушкин – Лермонтов – Тютчев – Некрасов – Блок – Хлебников ‹...›” (там же, с. 174). Между тем „художественно герметичный” поэт и „должен подвизаться где-то среди полузабытых поэтов-легенд ‹...›” (там же). В апологетике ни Хлебников, ни любой другой поэт, конечно, но нуждается. Но если он в самом деле „был гениален” (там же, с. 175), то предстают по меньшей мере два вопроса: (1) что означает этот сильный предикат, если не „приобщение поэта к пантеону классиков отечественной словесности, узаконенных авторитетов, властителей наших дум” (там же, с. 184); (2) если Хлебников принципиально непонятен, „действительно мало понятен” (там же), то каким путем получен тот же самый предикат?| Персональная страница Владимира Николаевича Турбина | ||
| карта сайта | 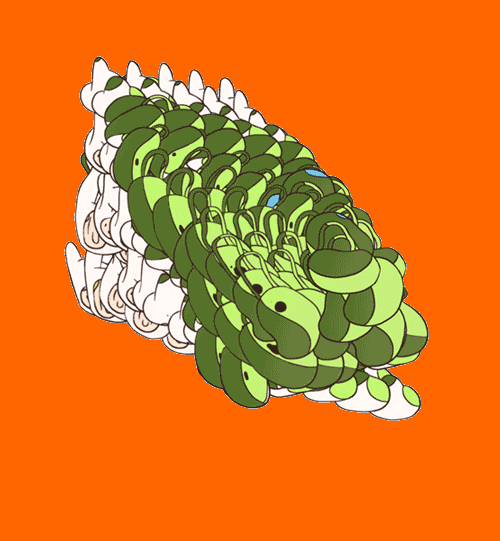 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||