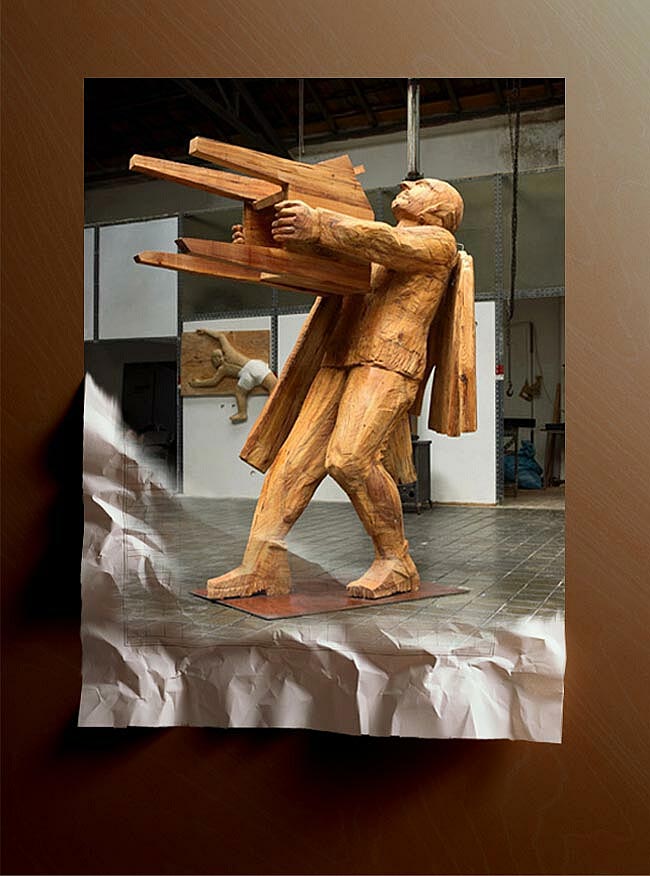
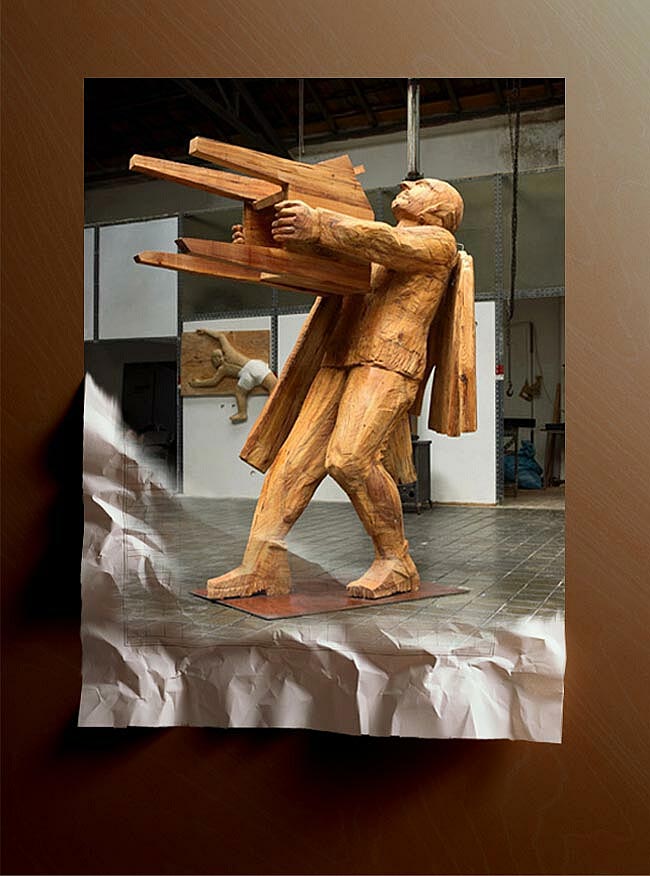
Евг. Богат в статье «Баллада о часах» (Лит. газ., 1982, 15 сент.) уместно напомнил незаурядную мысль о том, что время исчисляют не часами, а ударами сердца. Чего бы стоило, кажется, назвать при этом во всеуслышанье все то же имя? Но нет, мысль приписана местоименному „одному полузабытому поэту”. Где справиться на этот счет заинтригованному читателю? Оправданны ли подобные стилистические недомолвки, когда речь идет о будетлянине? Да и оценка полузабытый — слово несколько неопределенное. По справедливости полузабыт или, может быть, по нашему недомыслию? Кем-то забыт “на все сто”, кто-то помнит “на все двести”, а кому-то, пожалуй, и впрямь хочется, чтобы вспоминали вполголоса и в четверть силы.
А вспоминают все чаще, вспоминают непроизвольно, непринужденно, и поводы к мобилизации хлебниковских идей лишь на самой поверхности оказываются неожиданными. Глубинное же течение нашей культуры закономерно воскрешает и активизирует наследие уникального Поэта-мыслителя, Поэта-филолога, Поэта-фантаста. Так, совершенно естественно одна из любимых мыслей Хлебникова используется в острой беседе писателя на трудную тему о нравственности и смысле жизни: „Один хороший человек сказал когда-то, что человечество делится на изобретателей и приобретателей. В реальности, конечно, посложней, есть масса промежуточных категорий, но главный водораздел проходит, пожалуй, именно здесь: одни стремятся больше создать, другие — больше взять” (Жуховицкий Л. О черном хлебе, о белом хлебе. — Юность, 1983, №1, с. 103).
Впрочем, Хлебников уже давно получал и такие лестные оценки, как „гений”, „Колумб новых поэтических материков”, „великолепнейший и честнейший рыцарь”, один из „учителей”. Не случайно так называл его В.В. Маяковский, один из основоположников социалистического реализма, не отрекшийся от Поэта и этих оценок, вопреки тоже бытующей легенде, до конца своих дней. Памятником Хлебникову стало слово творяне, как назвал он в 1920 г. “новую общность людей”, — слово, которое недавно напомнил “творянин” Андрей Вознесенский в повести «О» и, любовно, “творянски” обдумав, призвал на борьбу с „упырями” атомного века, рекомендовал не только сотням тысяч читателей «Нового мира» (1982, № 11, с. 135–137 и др.), но и всем будетлянам, строящим новый мир. Трудно сомневаться, что Хлебников — одно из „прекрасных имен” (Вопр. лит., 1976, № 9, с. 315), составляющих славу русской поэзии в XX в.
Тем не менее застарелые мифы и легенды о Хлебникове дают о себе знать. Поэтому автор идет на компромисс с заглавием, как раньше пошел на компромисс с эпиграфом: книгу «Поэтика слова» (М.: Наука, 1979) открывает безымянный эпиграф-афоризм Слово — пяльцы; слово — лен; слово — ткань; лишь на с. 142 названо имя творца этого глубокого высказывания. Такой уж статус у Поэта “имянерек”. Понятно, что подобно любому Поэту, по знаменитым словам Пушкина о Ломоносове, Хлебников меньше всего нуждается в „мелочных почестях модного писателя!” Но вот внимания к его опубликованным текстам и как следует даже не обследованному, а не только неизданному рукописному наследию нашего Поэта нашей филологии очень недостает.
Всю свою недолгую жизнь (1885–1922) он до предела отдал творчеству, над которым еще предстоит думать и думать. В предыдущей книге «Грамматика идиостиля» (М.: Наука, 1983) автор стремился представить в виде ряда очерков сложную и неоцененную систему “воображаемой филологии” Хлебникова в ее связях с другими занимавшими его идеями. Словотворчество как целостная область, охватывающая исключительно разнообразное множество специальных опытов и эстетически значимых текстов Поэта, было сознательно оставлено (в основном и в существенных деталях) за пределами той книги.
Ниже предлагаются некоторые идеи о сущности и значении словотворчества Хлебникова в связи с другими актуальными для нашей филологии проблемами. Своими итогами и эта книга не претендует на безусловность выводов, но результатами конкретных анализов и полемикой со стереотипами она дополняет «Грамматику идиостиля». Автору не удалось в сколько-нибудь достаточной мере воспользоваться богатыми материалами недавно опубликованной книги Рональда Вроона (см. ниже в разделе «Литература»); тем интереснее, надо полагать, окажется сопоставление и синтез наших анализов на уже определившемся новом этапе развития велимироведения.
Проблемы, которые обозначены в заглавии как “смежные” со словотворчеством, отобраны не по очерковому “принципу метонимии”: все они обнаруживают глубинную связь или непосредственно со словотворчеством Хлебникова, или со словотворчеством как явлением художественного языка вообще. Этим вызвано, например, обращение в книге к формотворчеству в его связях со словотворчеством. Важную проблему “мифологического” у Хлебникова необходимо было затронуть, в частности, потому, что ей подчинены и “воображаемая филология” в целом, и конкретные факты хлебниковской неологии. Характерно противоречивые оценки осады слова, которая занимала поэта, точно так же соотносятся с противоречиями принципиальных обличений и “апологий” в актуальной истории хлебниковианы.
Следует оговорить и такое обстоятельство. Научному велимироведению как будто неизвестна целостная фигура своеобразного Дюринга, которая олицетворяла бы претенциозность разного рода ниспровержений поэта. Но нельзя недооценивать негативную роль множества разрозненных пассажей о Хлебникове и в публицистике, искажающих его образ. В полемике с ними приходится прибегать и к элементам публицистического стиля, в принципе вполне совместимого со строго научным. Автор надеется, что в следующей его работе (о семантических преобразованиях у Хлебникова) этого уже не придется делать.
Книга готовилась к 100-летию со дня рождения Хлебникова, однако ее выход в свет задержался. Автор почти не имел возможности упомянуть многочисленные отклики на юбилей поэта в общей и специальной печати и другие мероприятия, посвященные памяти будетлянина. Осмысливая по горячим следам эти акты популяризации творчества Хлебникова (как и значимое отсутствие откликов), еще раз убеждаешься в существенной роли, которую уже сыграл, играет и будет играть “Лобачевский слова” в искусстве и филологической науке — во всей передовой культуре XX века.
‹...› немогузнайка, кюхельбекерно,
рукавоспустие, цыцарь, головотяпы,
мордолизация, безголовцы, утреет,
оплечь, бездарь, клененочек, водь,
громадье, крикогубый, Колоколамск,
рывень, боровиково, невставальный,
околокожевники, Лесалки ‹...›
Будешь дахарь — будешь и взяхарь
Почти все слова, вынесенные в первый эпиграф, и поучительный комментарий к ним, к способам их создания, читатель найдет в книге «Рождение слова» (Лопатин 1973) — наиболее полном и популярном пособии по русскому словотворчеству (ср. также: Земская 1973: 217–240 и Александрова 1980).1![]()
Для второго эпиграфа выбрана говорящая сама за себя калужская пословица. В плане выражения она любопытна тем, что слова дахарь и взяхарь напоминают о квазизаумных словах махари и дахари (рядом со знахари) в плоскости XIII сверхповести Хлебникова «Зангези» (III, 341) и о близких к ним словах в других его текстах. Ср. ранние снахарь и мечтахарь (V, 256; 1912), а в 20-е годы золотахари (III, 205; в тексте опечатка), плакахари (IV, 309), вчерахари (66: 6об.).2![]()
Суворовское немогузнайка стало фактом просторечия (в широком смысле понятия), хотя мотивационная формула „Не могу знать” и ушла в прошлое. Пушкинское кюхельбекерно остается на уровне историзма-каламбура как свидетельство словотворческой свободы, сопровождавшей становление норм русского литературного языка в начале XIX в. Рукавоспустие В. Одоевского помнят сейчас лишь немногие, как и лесковское цыцарь (ср. рыцарь).3![]()
Почти не воспринимается как новация и блоковское утреет среди других немногочисленных и гармоничных новообразований поэта. Куда более резко подает своих околокожевников да еще рядом с возлескорняками А. Межиров — поэт, в основном следующий блоковской традиции, но в этом случае использовавший словотворческий контраст. Совсем нехарактерным раритетом выглядит шутливое невставальный у М. Исаковского. Клененочек и водь — примеры из более развитого в словотворческом отношении идиостиля Есенина. А крикогубый и громадье — лишь два из нескольких тысяч окказионализмов Маяковского, которые, благодаря широкой пропаганде его творчества и их относительной изученности, узнаются в существенной части и вне контекста. Печать характерности сохраняют новообразования Л. Мартынова (боровиково, мятичи и др.) и А. Вознесенского (Лесалки и т.п.).4![]()
Пожалуй, только три-четыре слова из нашего перечня — асеевский рывень (ср. ливень), ильфовский Колоколамск, лесковский цыцарь (вспомним его же Волдавию) да недавние Лесалки (ср. русалки) непосредственно напоминают об окказиональных типах словотворчества, принципиальных для творца плакахарей и вчерахарей, „самовитое слово” которого представляет особый лингвистический и эстетический интерес, но остается пока полем жестокого столкновения филологов — историков, теоретиков, методологов, критиков. Разноголосице в определении реального содержания “самовитого слова”, возможно, положит конец новый „психологический климат вокруг “дерзких” по форме произведений”, уже победивший, по предположению А. Бочарова, в 70-е годы попытки „связывать любую “затрудненность” художественного построения, любую усложненность речи с “веяниями” модернизма и элитарности”.5![]()
Вместе с тем критик отмечает, что живое, динамичное развитие литературы обогнало темпы его критического осмысления. Это касается, в частности, таких произведений, „целиком построенных на смещении реального”, как «До третьих петухов» В. Шукшина, а в целом — обнаруживаемой у многих художников слова „тяги к ирреальности” и даже „новой тенденции более свободного обращения с фактами реальности”.6![]()
Но до окончательной победы еще далеко, полемики явно хватит и на 80-е годы. Что же касается Хлебникова, то едва ли страсти улягутся и к 90-м годам. Хотя, с другой стороны, стихотворение «Хлебников и черти» (1964) Л. Мартынов уверенно закончил строчками, как бы идиллически рисующими бесспорное признание поэта (и все же выдержанное в “ирреальном” прошедшем времени, своего рода “прошедшем будущем”):
“Пьедестала”, даже метафорического, нет не в последнюю очередь из-за того, что многие оценки и здесь обгоняют исследовательскую деятельность, ставятся до вживания в реальную “затрудненность” и “усложненность”.
Для понимания всего дальнейшего необходимо подчеркнуть, что дело вовсе не в том, чтобы “влечь” Хлебникова к “якобы предстоящему ему увенчанию и признанию”: так еще совсем недавно, вопреки очевидности, оценивалась известным критиком позиция Тынянова (Турбин 1981:175). И не одного только Тынянова. Оказывается, начиная с него, велимироведение шагнуло „на слишком уж проторенный путь апологетики, апологии, конечной целью которой закономерпо является триумф апологетизируемого: победа с последующим его увенчанием — скажем, с включением триумфатора в ряд классиков: Пушкин — Лермонтов Тютчев — Некрасов — Блок — Хлебников ‹...›” (там же, с. 174). Между тем „художественно герметичный” поэт и „должен подвизаться” где-то среди полузабытых поэтов-легенд ‹...›” (там же). В апологетике ни Хлебников, ни любой другой поэт, конечно, но нуждаются. Но если он в самом деле „был гениален” (там же, с. 175), то предстают по меньшей мере два вопроса: (1) что означает этот сильный предикат, если не „приобщение поэта к пантеону классиков отечественной словесности, узаконенных авторитетов, властителей наших дум” (там же, с. 184); (2) если Хлебников принципиально непонятен, „действительно мало понятен” (там же), то каким путем получен тот же самый предикат?
Одно из трех. Или Хлебников может быть “понят” лишь критиком, но не “любителем поэзии”, объяснить которому поэта нельзя (нецелесообразно или невозможно), — тогда по-своему “герметичным” становится не столько поэт, сколько критик. Или мы вправе говорить всего лишь о задатках “гениальности”, по не о поэте как состоявшейся личности, художнике-творце — и тогда эта личность должна “подвизаться” где-то среди объектов психологии, психиатрии или психоанализа, а филологам останутся сокрушения по поводу неосуществленных возможностей; в этом случае сама тема статьи В.Н. Турбина лишалась бы смысла как филологическая. Или же “гениальность” характеризует и результаты творчества Хлебникова, множество доступных нам его текстов (недостаточно использованных В.Н. Турбиным)8![]()
В такого рода “апологиях”, апологиях понимания, Хлебников и нуждался и все еще нуждается. Именно понять Хлебникова стремились в 20-е годы и Якобсон, и Маяковский, и Мандельштам, а не только Тынянов, при всех различиях их подходов к будетлянину, и многое, пожалуй, даже главное в нем, было уже тогда коллективными усилиями и в полемических заострениях понято. Ниже будет сделана попытка подробнее разобраться в хлебниковиане 20–80-х годов. Пока же, забегая вперед, можно сказать, что “непонятность” Хлебникова — это следствие и нашей непонятливости, непонимания действительно сложной реальности хлебниковского творчества. „Противоречит себе” не Тынянов (там же, с. 184), а именно В.Н. Турбин, взявшей на себя труд понять кое-что у непонятого, по по инерции настаивающий на том, что он „непонятен”. В “критике” Хлебникова современная филология испытывает потребность, конечно, не меньше, чем в его “апологиях”. К сожалению, критика, которую поэт получал до сих пор, сама слишком часто оказывалась неадекватной.
Уникальным полем словотворческих опытов творчество Хлебпикова сделало настойчивое и как будто по меньшей мере парадоксальное стремление поэта стать первым русским, осмелившимся говорить по-русски (НП, 322; 1908), далекое от изоляционизма, хотя на первых порах не свободное от шовинистических ноток (знакомых в те годы и Маяковскому), последовательное желание
Поэт, обнаруживший, что нет путейцев языка, нет науки словотворчества, нет счетоводных книг расходования народного разума (V, 228), хотел взять на учет и то, как в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия (V, 233). Ведь словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка (V, 229). Хлебникова занимают и те слабые значения слов, которые остаются вне поля зрения современной ему филологии. В основание своей “воображаемой филологии” он естественно помещает языководство (V, 234), дополняющее нормативное языковедение.
Хлебниковские будетляне, смехачи, нехотяи и некоторые другие его находки вполне могли бы занять место в ряду образцов словотворчества, вошедших в наш эпиграф, а отчасти пополнивших и литературный язык. Но большинство слов в эпиграфе — это слова юмористические, как бы полусерьезные, привязанные к контекстам сатирико-характерологические оценки (ср. те же невпорушка и жандармия у А.К. Толстого). Хлебников же относился к своей словотворческой деятельности исключительно серьезно, иногда может показаться — слишком серьезно, размышляя о ней не столько применительно к тому или иному контексту, сколько на уровне языка как системы. Это не мешало будетлянину при случае каламбурить, а его остроумие заслуживает специального исследования.9![]()
Сейчас уже смешно оспаривать право поэзии на новые слова: это право — одно из основных прав всей литературы XX в., мало того, неотъемлемое право каждого “нового человека” нашей эпохи как “человека творящего”.10![]()
![]()
Сложнее обстоит дело с “наукой словотворчества”. Не вполне ясно, в какой мере возможна эта наука в строгом смысле слова. Даже формула Маяковского (1922: 25), по которой „Хлебников дает только метод правильного словотворчества”, может быть оспорена как чрезмерно нормативистская. “Правильное словотворчество” — это contradictio in adjecto. Хорошеукой, т.е. “хорошей наукой” (НП, 176),12![]()
Ограничиться этим, однако, тоже, по-видимому нельзя. Словотворчество как творчество должно иметь свою эстетику, свою аксиологию. А значит, те принципы, основания и начала, которые пытался наметить Хлебников, могут обсуждаться и за пределами его собственного идиостиля, без ограничения только его опытом, его практикой, как положения, принимаемые или отвергаемые общей эстетикой словесного творчества, эстетикой социалистического реализма. Для понятия “эстет‹ик›” Хлебников опробовал слово миловед (125: 15). “Науку словотворчества” мы могли бы считать и важным разделом милописи, или милоуки (IV, 310), или *милознания,13![]()
Вопросы, связанные с “наукой словотворчества”, поможет решить дальнейшее обсуждение ее начал, которые выдвинул поэт, не сведя их воедино. Что же касается искусства словотворчества, то знакомство с рукописями Хлебникова не оставляет сомнений, что в его лице мы имеем дело с глаголоведом и словознатцем (60: 1 и 98), стоящим перед филологами в одном ряду с Маяковским. Довести это искусство до широкого читателя — нелегкая, но благодарная и интересная задача нашей филологии, которая до сих пор недостаточно сделала для повышения культуры словотворчества в текущей литературе. Видимо, культурой словотворчества и следовало бы именовать эту комплексную область, где литературный процесс может и должен в порядке обратной связи получить от филологов существенные обобщения, обоснованные оценки и коррективы его собственных поисков.14![]()
Подобрать из хлебниковского творчества точные аналоги по лингвистическим критериям ко всем неологизмам, включенным в эпиграф, едва ли удастся.15![]()
В рукописном «Гроссбухе» Хлебникова находится такое двустишие (64: 58 об.):
Не так легко определить собственно языковые характеристики особого эстетического эффекта, связанного с необычно концентрированным выражением, казалось бы, естественной и простой мысли, но отличающейся образной стереоскопичностью взгляда на ситуацию. Сочетанием отцы сирот Хлебников далекое Цусимское сражение, в котором как бы только что погибло столько русских моряков, неожиданно и мгновенно сближает с их семьями, с их детьми, еще не знающими о постигшей их судьбе.16![]()
Почти не привлекали к себе внимания многочисленные у поэта эпитеты (но см. Харджиев 1970 и Vroon 1983). К образам детей он обращался не только в связи с Цусимой, неоднократно и почти всегда впечатляюще, в последние годы — и к детям страны советованной (77: 55; 1921). Особенно много у Хлебникова сложных прилагательных, которые тоже заслуживают специального исследования на фоне других идиостилей в русской поэзии XX в.: тяжело-гордый путь (60: 76; 1908, — по-видимому, о своем будущем пути), сердито-добрый (НП, 221), мокроогненные очи (П, 294), широкобелые шатры (64: 100 об.), меч коротко-голубой (I, 251) и т.д.17![]()
Объемистая хлебниковская тетрадь 1908 г. изобилует образованиями типа водь, воздушь и дувь (НП, 93 и 272). Это — будь, вель, выль, глаголь, зовь, лють, миль, немь ‘немцы’; родь ‘нация’; свисть, сердь, славь ‘славяне’; хиль, хоть (60: 3об., 12, 13, 16об., 24, 45об., 54, 55об., 58об., 64об., 65).18![]()
![]()
Гораздо мепыне привлекало Хлебникова глагольное словотворчество. Случаи типа страстничать (I, 169), охолопиться (III, 263), оснегурить (V, 93), причастия типа пророгожен (I, 237) остаются на периферии его экспериментов, хотя и заметны в текстах известных стихотворений и поэм. Гнездовой и обратный словари ко всем доступным текстам поэта позволили бы представить в их полноте, единстве, разнообразии и эволюции такие группы слов, как (страна) обессынена (V, 15), сынеет и отцеют (41:4), сыновеет (III, 104), сыновитый (60: 43об.), сыненок (IV, 323), сыновенцы (IV, 311), сынечество (V, 155), сынева (53: 3 и 4; 1922), с одной стороны, и лукавец, небесавец, любавица, дерзавица, смеявица, летавица (II, 19, 56, 69, 103, 265; V, 253) — с другой.
Лишь немногие из субстантивных неологизмов Хлебникова, составляющих основную массу его новообразований, оказываются изолированными явлениями и не входят в более или менее длинные ряды производных лексем, аналогичных по основе и/или по модели. На фоне цельнооформленных слов не следует недооценивать и множество номинаций типа времыши-камыши (II, 275), бары-забавнички (III, 232) и девушка-чудочко (I, 287), а также еще более обширную группу образований типа солнце-ремень (II, 166) или дом-тополь (IV, 283), в которых, нет компонентов-неологизмов.20![]()
В разделе об эволюции словотворчества Хлебникова будет рассмотрен любопытный “этап предлогов-приставок” на пути к звездному языку с его консонантами-морфемами. Обычных же приставочных образований-окказионализмов у Хлебникова сравнительно немного. Они (если отвлечься от «Зангези») представлены такими словами, как предволя (V, 275), продума (V, 71), противо-Разин (III, 305), вдольморские пути (НП, 344).
Сложные и аффиксальные неологизмы часто сближены в экспериментах, грезьбище (60: 87об.) и солнечное лучбище могут оказаться в одном ряду с женским Всеучбищем (II, 73), которое заставляет вспомнить и позднейший сверхуниверситет (!120: 2). Впрочем, некоторые из суффиксальных неологизмов вполне автономны от сложений. Так, грустиночка (НП, 251), золотые глазята подсолнухов (НП, 55), светинка ‘фотон’ (9: 3об., 1920) и другие подобные образуют определенно самостоятельное подмножество; в других подмножествах объединяются числяр (V, 226) и мысляр (41: 4 и 66: 6об.; 1922), времянин и времянка (II, 282; со значением лица!) и т.д.
Самыми “заумными” (в обывательском, но не в строгом хлебниковском смысле слова) представляются исключительно многочисленные неологизмы с особенно редкими, непродуктивными аффиксами и квази(аф)фиксами, а также неологизмы с переразложением. Между тем их меткость впечатляет часто ничуть не менее, чем эстетика более привычных. Понятно вместе с тем, что здесь, в области, которую поэт впоследствии обозначил широким и по-разному понимаемым термином скорнение (см. ниже), особенно много не удовлетворявших самого экспериментатора опытов, но здесь же мы обнаружим и множество несомненно удачных находок, прозрений и перспектив.
В работах ВГ 1976 и 1981 было дано общее представление и о некоторых из подобных неологизмов с преимущественным акцентом на материале имен собственных. Имена нарицательные можно пока проиллюстрировать таким ограниченным — для «Введения» — и только алфавитно упорядоченным перечнем слов-представителей, как правило, целых рядов неологизмов: весничие (27: 9; 1920–1922), звучей (60: 129), летерик ‘туч’ и ‘единства’ (III, 308; IV, 311), мечтежники (60: 133), младуга (III, 74), моляна (I, 287; II, 78),22![]()
![]()
Наконец, надо упомянуть об оставшихся только в самых поздних рукописях неологизмах-пробах спорвер, верлад, летлюди (65: 3) и близких к ним образованиях полусложносокращенного типа людлучи (V, 314), люд-лучи (58: 4) и людволны (88: 5). Хлебников думал и об ословлении чисел (86: 28), а не только об использовании числового языка. Можно сказать, что в последние месяцы жизни его занимали новые способы “ословления” генитивных и атрибутивных словосочетаний. Смерть застигла его в самом начале новой серии экспериментов, которые еще предстоит обнародовать.
Те же факты словотворчества и творчества Хлебникова, с которыми читатели, критика и филология более или менее знакомы, оказались полем для самых полярных суждений. Подчеркнем, что эти суждения слабо связаны друг с другом четкой диалогической формой, тем более — открытой дискуссией. Суровые оценки отдельных неологизмов нередко распространяются на всю деятельность поэта. С другой стороны, общими оценками его творчества как целого почти исчерпывалось изучение собственно словотворческой идеологии будетлянина. Как обличениям, так и “апологиям” Хлебникова заметно недостает настоящей опоры на всю систему его неологических экспериментов. Они никак не осмыслены и в общеэстетической проблематике формотворчества. Не намечены основные вехи в истории понимания того дела, которому посвятил свою жизнь человек, стремившийся стать звонким вестником добра (II, 112), — вехи в истории изучения творчества поэта. Все это необходимо хотя бы кратко обсудить, прежде чем можно будет непредвзято разобраться в идеях, объединяющих многотысячную массу самих неологизмов. Выясняя, как же выглядит словотворец перед судом критики и филологии, попытаемся вносить по ходу дела в предлагаемые нам ориентиры и отдельные поправки, имеющие, на наш взгляд, общеметодологический интерес.24![]()
Хлебников показывал нам в языке такие стороны, о которых мы не подозревали.
Брик 1944–1978: 230
Словотворчество вызывает традиционный интерес у лингвистов. Правда, лишь немногие поэты и прозаики стали объектами пристального внимания исследователей в этом аспекте — Лесков, Щедрин (см., в частности, работы А.И. Ефимова и М.И. Приваловой), А. Белый, Маяковский (см. Винокур 1943 и множество статей), Есенин, Северянин и некоторые другие. Экстенсивный охват неологического материала, однако, много шире этого краткого перечня. Так, например, известна диссертация, автор которой на базе около восьми тысяч окказионализмов из разных стилистических пластов русской речи (в основном XX в.) стремился уяснить „сущность окказиональности” и сделал убедительный вывод, что „значение окказионализмов как изобразительного средства в современной речи растет”.25![]()
В то же время именно Хлебников, который один мог бы удвоить материал такой диссертации (в работе Vroon 1983 использовано лишь около 2250 неологизмов), а разнообразием способов словотворчества особенно любопытен, пока остается где-то на периферии исследований, посвященных специфике языка художественной литературы, а неологизмы этого поэта зачастую трактуются с позиций элементарного нормативизма или квазиэстетической догматики. Это — неизбежные, но неестественные следствия (1) подходов к словотворчеству исключительно с мерками общелитературного языка, не учитывающими закономерностей языка поэтического, или/и (2) не преодоленных противоречий взгляда на поэтический язык (в широком смысле) как на стиль литературного языка (см. ВГ 1979а), или/и (3) утверждения, что „категория окказиональности свою конкретную реализацию находит в пределах лишь литературного, а не общенародного языка”, и вместе с тем размывающего этот тезис признания „окказионализмов как некодифицированных лексических элементов общенародного языка”.26![]()
Ряд такого рода причин невнимания к Хлебникову и более или менее бесспорных следствий из этого ряда нетрудно продолжить и ниже к ним неоднократно придется обращаться по ходу изложения материала. Но это в общем естественная в развитии любой дисциплины полемика вокруг тех или иных теоретических положений и односторонних оценок, устоявшихся недооценок некоторой группы фактов, переоценок отдельных авторитарных высказываний и т.п. К сожалению, в случае с Хлебниковым невозможно не коснуться и таких причин пренебрежения к нему, которые вызывают активный человеческий протест в рамках проблемы “наука и нравственность”.
В письме к Л.Н. Толстому от 12 июля 1891 г. Н.С. Лесков упоминал о солдате Ефиме — „типе”, который, по его собственным словам, был два года „на испытании в умственности и выпущен по безумию”.27![]()
Доверчивый и голодный, полупрочитанный и полудопускаемый в “хорошее общество” Хлебников был при жизни беззащитен перед очередным “испытанием”, которому его подвергли, к примеру, имажинисты в Харькове, после сумасшедшего дома “Сабуровой дачи”, в 1920 г. (см. Райт 1966: 268 и выразительную фотографию в заметке Парнис 1975),28![]()
Как увидим, “тени” и “свет” распределены в хлебниковиане очень неравномерно и часто как бы не замечают друг друга. Признания вроде того, что “безумца” отличала „поразительная языковая интуиция” (Перцов 1966: 58), которая не могла не найти выражения и в словотворчестве Хлебникова, „человека исключительного дарования” (Г.О. Винокур; ЦГАЛИ, ф. 2164, он. 1, ед. хр. 111, л. 1 об.), фантастическим образом уживаются с дискриминацией неологического наследия поэта (порой у тех же самых исследователей). „Великий языкотворец”, в глазах Маяковского (см. Райт 1966: 269), в иных новейших аксиологиях не дотягивает и до уровня плимутрока.29![]()
Поэтому и необходимо “погрузиться” в почти необозримое неологическое наследие поэта, посмотреть на его интуицию и дарование прежде всего с позиций лингвиста, не нормативистских, а таких, которые учитывают и специфику языка художественной литературы. Без этого невозможно понять эстетику реального хлебниковского слова как такового.
При всех различиях в оценках словотворчество Хлебникова отчетливо осознается каждым, кто знаком с публиковавшимися текстами поэта, как одна из самых характерных черт его идиостиля. Три наиболее известных, пожалуй, стихотворения поэта — «Смехачи», т.е. «Заклятие смехом», «Бобэоби...» и «Кузнечик» («Крылышкуя...») изобилуют неологизмами. Однако в этих ранних стихотворениях были, по признанию автора, лишь узлы будущего — малый выход бога огня и его веселый плеск (II, 8). В самом деле, ко времени «Зангези» (1921–1922) отдельные узлы превратились в огромную сеть замысловато связанных друг с другом “языков”, серий неологизмов и авторских комментариев к узлам и к самой сети. Интуиция подсказывает, что несомненному единству всех опытов Хлебникова в области словотворчества отвечает, соответствует, предлежит некоторая последовательная, хотя и очень непростая логика их эволюции.
Даже с учетом всех ограничений, неизбежных для малой серии «Библиотеки поэта», издания «Стихотворений и поэм» Хлебникова в этой серии в 1940 и 1960 гг. дают совершенно несоразмерное реальности представление о словотворческой ипостаси его творчества. Мало того. Наиболее полные собрания сочинений Хлебникова рубежа 20–30-х и рубежа 60–70-х гг.30![]()
Понятно, что в этих условиях попытка охватить неологическое наследие Хлебникова во всем богатстве его проблематики и его деталей, стремление немедленно исчерпать это богатство были бы и в наши дни обречены на неудачу. Не случайно, что неологизмы будетлянина обычно обсуждались филологами как бы попутно: не как таковые с задачей выявить законы, “признанные” здесь “над собою” самим поэтом, а скорее мимоходом, в той или иной связи с другими задачами — изучения ли его творчества в литературоведческих аспектах, оценки ли его фигуры с общеэстетических позиций или анализа на его материале лингвистических, прежде всего словообразовательных проблем. Но если роль многих существенных деталей в рецепте того мыла словотворчества (V, 154), которое занимало Хлебникова, пока и не может быть установлена с достаточной уверенностью, то место самого словотворчества среди языков, характеризующих своеобразие идиостиля этого поэта, в принципе поддается выявлению. Как бы то ни было, но на фоне уже выявленной системы таких языков (см. ВГ 1983 и 1982б) задача описать структуру хлебниковских неологизмов, дать некоторое представление об их эстетике и об эволюции словотворческих опытов и идей поэта сейчас уже не кажется неразрешимой. Не только достижения, но и слабости филологической хлебниковианы укрепляют в мысли о правомерности и своевременности постановки такой задачи.
Неологизмы Хлебникова анализировались исследователями с весьма различными целями, начиная со стремления определить сам статус неологизма в поэзии, а некоторые из неологизмов поэта представить как „беспредметные” (Якобсон 1921: 39 и след.; ср. Гриц 1940: 453)31![]()
![]()
![]()
Какие же задачи решаются с привлечением хлебниковских неологизмов? Прежде всего следует отметить (1) детальную проверку общетеоретических предположений, касающихся законов членимости русского слова на морфемы, путем выявления морфемного строения слов, созданных Хлебниковым (Панов 1971). При этом неологизмы выстраивались и в их типологической соотнесенности, и в собственной эволюции, т.е. в их истории в рамках идиостиля. Работа М.В. Панова — это (до новейшей книги Р. Вроона) наиболее полное по охвату материала и наиболее глубокое по его интерпретации исследование неологизмов поэта. Последующие работы так или иначе, независимо от наличия прямых ссылок, соотносятся с ней.
Это, например, (2) попытка построить в тезисной форме типологию новообразований Хлебникова (Левитина 1971); (3) опыт интерпретации так называемых “релятивных” неологизмов при исследовании текстов “разинского цикла” (Vroon 1975); (4) и (5) анализ нескольких групп собственных имен и связанных с ними апеллятивов в словотворчестве поэта (ВГ 1976 и 1981); (6) обсуждение языковых экспериментов Хлебникова под углом зрения мотивированной связи между звучанием и значением (Weststeijn 1978); (7) осмысление ряда хлебниковских неологизмов как „моделей аддитивного словопроизводства” (Александрова 1980); (8) классификация неологизмов поэта по ступеням “неологичности” и по степени употребительности аффиксов, предпринятая в рамках общей проблемы понимания нестандартного текста (Перцова 1981).
Перечень таких задач и работ не замкнут. Его легко расширить за счет отдельных фрагментов из многих публикаций 70-х (Holthusen 1974, Костецкий 1975, Mirsky 1975, Lönnqvist 1979; а также работы Г. Барана, Р.В. Дуганова, А.Е. Парниса, Е. Фарыно, Н.И. Харджиева и др.) и начала 80-х годов, в частности, ознаменованных за рубежом изданием специального выпуска журнала «Русская литература» (Russian Literature 1981). Особого разбора заслуживала бы работа Vroon 1983, первая монография о словотворчестве Хлебникова, но здесь она может быть лишь упомянута.
Существенно, что хлебниковские неологизмы постепенно находят место и в общих курсах словообразования (Земская 1973), и в научно-популярных работах (Земская 1963, Лопатин 1973). Роль отдельных иллюстраций из Хлебникова, в них, впрочем, еще очень незначительна, и опять-таки это можно лишь отчасти объяснить недостаточной изученностью системы словотворчества у „Лобачевского слова”.34![]()
![]()
![]()
Выше упоминались в основном новейшие лингвистические работы. Самое беглое сопоставление их с отдельными литературоведческими убеждает в том, что “литература вопроса” содержит серьезные противоречия в общих оценках и трактовке хлебниковского словотворчества. Это заставляет расширить угол зрения на проблему как в ее современном состоянии, так и в ее истории.
Но между ищущих огня
Ищите, люди, и меня.
Пожалуй, именно в многочисленных и непрекращающихся “обличениях” Хлебникова ярче всего сказывается „прямолинейно-социологический взгляд на задачи художественного творчества”.37![]()
![]()
![]()
Поверхностное прочтение стихов Николая Глазкова, замечает современный критик, приводит к ложному взгляду на Глазкова как на “поэта для поэтов”. „Последнему отчасти способствовала декларация Глазковым своей внутренней связи с творчеством Велимира Хлебникова:
Известно, что Велимир Хлебников, — продолжает критик, — представлялся современникам “тихим гением”, к тому же чувство юмора вовсе не свойственно его стихам. Думается, Николай Глазков походит на Хлебникова скорее внешними атрибутами: отсутствием погони за легким успехом, частыми публикациями (непреднамеренная двусмысленность — В.Г.), склонностью к словотворчеству”.40![]()
“Поверхностное прочтение” поэта-современника — факт достойный сожаления. Однако следует полностью осознать, что, как писал Н.Я. Берковский в 40-е годы, а мы вправе повторить многие его слова и сейчас, в 80-е, „не прочитан” и Хлебников, „он — богатство, которое еще не израсходовано”. Не прочитан потому, что это — поэт, „тропа к которому загромождена”, ведь он вовсе не “поэт для поэтов”, его поэзия „сильна прежде всего своим содержанием”; его стремления и вкусы „отличались величайшей натуральностью”, „появился человек с лицом простым, ясным, появилось существо естественное и доверчивое, провинциал, волгарь, россиянин”, на фоне декадентствующих „явление странное и малопостижимое”; „он и на самом деле был прост, не притворялся земляком князя Святослава и героев «Слова о полку», поэтом с древней полевой свирелью, но и на самом деле был тот, за кого он себя выдавал. И эта подлинность создавала непонимание, искали маски и актерства, не находили и удивлялись” (1985: 340–341).41![]()
Оценивая итоги почти сорокалетнего изучения поэтического языка Маяковского, В.В. Тимофеева полагала, что „основное месторождение почти еще не затронуто, ценность имеющихся там запасов определена весьма приблизительно” (1962: 31). На поэтический язык Хлебникова этот образ заведомо не распространялся. Казалось, что и „месторождения”-то нет, поскольку „время со всей очевидностью доказало ‹...› бесплодность “языковой инженерии””, что перед нами „искусство, оторванное от жизни народа, замкнутое в самоценных словесных экспериментах” (там же, с. 181), и т.п.
Между тем образ „месторождения” в неменьшей степени применим и к поэтическому языку Хлебникова, а „ценность имеющихся там запасов” сознательно и бессознательно искажена примитивной методикой определения, „запасов” на глазок. Можно было прислушаться к совсем иным оценкам со стороны Мандельштама, Маяковского, Тынянова, раздавались голоса и других оппонентов этой методики. Так, тот же Н.Я. Берковский говорил, что
В своей “апологии” Н.Я. Берковский представил многочисленные соображения о реальных „запасах” хлебниковского творчества, подлежащих филологической разработке. Кое-что из его соображений нуждалось в корректировке, но в целом это была программа дальнейших исследований, естественно, предполагавшая прежде всего тщательное прочтение наследия поэта, овладение его „мечтаемым языком”, как в те же годы, но с иных позиций говорил Г.О. Винокур (см. об этом ниже). Вместе с тем словотворчеству Н.Я. Берковский дал лишь самую общую оценку, не входя в детали и ограничившись указанием на его важную роль для понимания эстетики Хлебникова. Н.Я. Берковского занимали не столько процессы развития самого поэтического языка, сколько то, ради чего включился в эти процессы Хлебников. Но процессы эти существенны для поэтики и эстетики, так как через них мы познаем сходства и различия в представительных идиостилях эпохи.
Не только у Маяковского и Асеева, но и в «Улялаевщине» и «Пушторге» И. Сельвинского, в его каламбурах типа генерал от юбилерии, в «России, кровью умытой» А. Веселого, внимательно изучавшего словотворческий опыт Хлебникова, в прозе и поэзии М. Цветаевой, чье слово почти всегда и во многом “по-хлебниковски” напряжено в своей морфологической структуре и чья паронимия еще ждет исследователя, в стихах О. Мандельштама с их близкими Хлебникову эпитетами типа нечаянно-раздольный, остроласковый, таинственно-раздольный черноречивое или деепричастием большевея, даже в новейших поисках “красного словца” Ю. Нагибиным (опахнутые веем средневековья; в обым; отвоеванный у твердели участок и т.п.42![]()
Мандельштам одним из первых среди наших поэтов и филологов еще в 1922 г. понял, что „представление о реальности слова как такового животворит дух нашего языка”, основывается на „принципе внутренней свободы” (1928: 32).43![]()
![]()
У Хлебникова не было тех „чисто головных экспериментов”, которые В. Марков, как и многие другие любители и ценители поэта, стремился отделить от его „действительно поэтических достижений” (1962: V).45![]()
Контекстом же действительным, ключевым для понимания словотворчества Хлебникова, являются три осады: осада времени, слова и множеств (IV, 82), занимавшие его всю сознательную жизнь.
Идейно-эстетическая сущность творчества Хлебникова требует не только самого внимательного историко-литературного анализа (работа Степанов 1975 еще очень далека от необходимой полноты и глубины осмысления даже известных фактов; ср. рецензию Ваrаn 1978в), но прежде всего — предваряющего лингвопоэтического исследования, без которого то же словотворчество останется “мешающим” грузом, противостоящим “достижениям”. Между тем, как справедливо заметил знакомившийся с рукописями поэта уже в 1911 г. Б. Лившиц, „обречены на неудачу всякие попытки провести грань между поэтическими творениями Хлебникова и его филологическими изысканиями” (1933: 47). “Воображаемая филология” Хлебникова слишком тесно связана с образной тканью его стихотворении и поэм, с вниманием к небесной глаголице (I, 299), с характерными для него преобразованиями различных традиционных мифологем, созданием новых и с эволюцией всего его творчества от первых шагов, когда у русского подъезда он стал, как часовой (НП, 207), до умудренного опытом интернационалиста Зангези.
Человеческий язык, по Хлебникову, трепещет как огонь (НП, 210). Он так же неуловим; чтобы овладеть этой стихией, и приходилось поэту погружаться „в самую гущу русского корнесловия” (Мандельштам 1922–1928: 31). Хлебников ощущает в себе родство с Прометеем (64: 70; «Дети Выдры» и др.), но чтобы сосредоточиться, ему „необходима была для творчества внутренняя тишина. Тема, родившаяся в нем, захватывала его целиком. Ведь он тогда не замечал ничего кругом!..”46![]()
![]()
Одинаково далекий от обоих членов нынешней модной оппозиции “эстрадная/тихая” поэзия, Хлебников понимал, насколько „жестоко же есть противу рожна прати”, но, в отличие от апостола Павла-Савла, уповал не на веру, а на эксперимент. А. Блок писал в «Возмездии»: „Стихийных сил не превозмочь” — будетлянин попытался подчинить себе многие из этих сил. Недаром корню (и квазикорню) бог- в «Зангези» противопоставлен мог-: никакого смирения перед роком он не испытывал. Свой семейный и казанский университетский опыт математика и естествоиспытателя Хлебников помножил на последовавшее затем приобщение в Петербурге к экспериментальной филологии Л.В. Щербы, на идеи Эйнштейна и Минковского, на достижения классического и нового искусства. Результатом явилась беспрецедентная поэтическая модель мира, в которой словотворчество было следствием важнейшего рассчитанного и лишь на первый взгляд “безумного” допущения, бегло зафиксированного в рукописи начала 10-х годов: Я буду думать как бы не существовало других языков кроме русского (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 26, фрагм. 4, л. ‹1›).48![]()
В 1923 г. Мандельштам, как бы оценивая уже результаты этого допущения, писал, что чтение Хлебникова можно сравнить с особо
Можно сказать, что хлебниковское допущение — это антитеза нормативизму и натурализму, это та же самая “реалистическая условность”, которая отличала поэтику и эстетику Маяковского и Мейерхольда, или своеобразная разновидность общих для всех этих художников устремлений.
В роли сеятеля очей выступал, как известно, не один Мандельштам. В упомянутом докладе о Хлебникове Н.Я. Берковский писал, что все его языковые реформы в сущности „сводились к тому, чтобы сделать русские слова еще более русскими, чем они есть, и, следовательно, усвоить их народу, а совместно и все понятия и вещи, стоявшие за этими словами” (1985: 356). Прекрасно были показаны Берковским также народность, историзм и эпичность творчества Хлебникова. Однако любому сеятелю нужны подходящая погода и почва, чтобы своевременно появились всходы и мог быть собран урожай.51![]()
Пусть кажется преувеличенным мнение, что Хлебников — это „самый своеобразный поэт нашего столетия” (Якобсон 1970: 15). Дело не в эпитетах, которыми следовало бы или хотелось бы предварять его имя. Дело в том, в частности, что Хлебников действительно „нашел неисчерпаемые резервы поэтического словообразования” (Урбан 1979: 177). Здесь придется оставить в стороне тему о влиянии Хлебникова на всю литературу XX в. и тем более — только иноязычную (или о “параллелях” в ней к его творчеству), но один факт стоит привести, поскольку „вопрос о творческом развитии хлебниковскнх традиций приобретает международный резонанс”, а в ряду “революционных поэтов-новаторов” имя Хлебникова сближается с именами Элюара и Арагона (Перцов 1966: 67–68).
Не только в структурном отношении и поверхностно-образиом смысле, но и в глубинно-эстетическом и философском планах представляется знаменательным кортасаровское слово закатолов, за которым, конечно, далеко не прямолинейно и все-таки надо, по-видимому, усматривать нечто большее, чем перевод заглавия одного из рассказов латиноамериканского писателя, стремящегося, как и Хлебников, приблизить будущее.52![]()
В разделе об “эстетике словотворчества” оно будет рассмотрено и как своеобразный “минус-прием”, как парадокс: в полуканоническом корпусе произведений, которыми Хлебников представлен в наши дни в сознании широкого читателя, процент словесных новообразований у него много ниже, чем у Маяковского. Но прорицания двадцатилетней давности относительно того, будто бы само время доказало бесплодность “языковой инженерии”, были легковесными. Сейчас показания Времени, и не только на фоне “генной инженерии”,53![]()
“Приближать будущее” — это объединяло Хлебникова с Маяковским прежде всего. Одна из задач углубленного изучения творчества Маяковского — сопоставление “образа будущего” в его произведениях54![]()
![]()
![]()
Или: ЗЕФЕКА Маяковского и тот же Ладомир; мечта героев «Бани» об овладении временем и Хлебников как возможный прототип Чудакова (см. Дуганов 1979б); явное сходство ряда новообразований у обоих поэтов (см. Харджиев 1970);57![]()
„Поэтическая тема Маяковского, несомненно, не могла быть рассказана, если бы не языковое новаторство, к которому она толкала Маяковского” (Винокур 1943: 22). Но это еще более верно для Хлебникова, одной из важных тем которого, хотя отнюдь не „главным героем” (Гофман), был язык как неотъемлемая часть социальной действительности и как ее воплощение, память о ней и орудие ее изменения. За многими высказываниями поэта, за кажущимся „жонглированием словом” открываются значительные социальные и глобальные проблемы. В уста сапожника из поэмы «Горячее поле» вкладывается многозначительный каламбур (III, 249):
Собственные убеждения Хлебников выразил в таком афоризме: Вера в сверхмеру — бога сменится мерой как сверхверой (82: 17 об.).
Эти и многие другие концентраты идей, наблюдении, образов, неожиданных сближений, так часто у Хлебникова получающих выражение в словотворческих опытах, позволяют назвать его таким же “гением неологизма”, каким мы привыкли считать Маяковского.58![]()
Общая устремленность Маяковского и Хлебникова к “третьей действительности” будущего заставляет вспомнить убеждение Горького в том, что „без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма”.59![]()
![]()
Тем более важно разобраться даже в самых “гротескных” словотворческих опытах Хлебникова. Существенно в этой связи, что, по воспоминаниям Горького, В.И. Ленин говорил ему об эксцентризме: „Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно!”61![]()
О лингвистической мифологии Хлебникова необходимо говорить подробнее. Но это станет возможным лишь после того, как на его словотворчество будет брошен свет современных суждений о более широкой проблеме формотворчества и о некоторых других смежных проблемах. Обращение к ним необходимо и для темы настоящего раздела, которая, как увидим, далеко не исчерпана уже сказанным.
Мера научности
Исследование словотворчества Хлебникова не может проводиться вне обращения не только к общей экстралингвистической действительности, но и к разнообразным литературоведческим и литературно-критическим работам. Ясно, однако, насколько противоречивы и отягощены инерцией эстетические и индивидуально-психологические оценки экспериментов поэта. В «Грамматике идиостиля» автор уже затрагивал эту тему, но проблема инерционных противоречий и в критике, и в академической науке остается и требует более подробного обсуждения и более широкого и глубокого осмысления.
В убеждении, что „притягательная сила самовитого слова” непременно должна противостоять и только противостоять „реальному жизненному материалу”, П. Ульяшов, обсуждая недавно творчество Тимура Зульфикарова, выносит в конец своей критической статьи ударную, как кажется критику, цитату из «О, рассмейтесь...» Хлебникова, называет это стихотворение, в назидание поэту-современнику, всего лишь „забавной страницей” в истории литературы, всерьез же видит здесь „ложное, чисто формальное новаторство, самоцельные эксперименты со словом”.62![]()
![]()
Однако за стереотипом восприятия словотворчества Хлебникова как формализма „самоцельных экспериментов со словом” скрывается вовсе не одна только психологическая несовместимость творчества поэта с исповеданием веры того или иного конкретного критика-аксиолога. Корни стереотипа уходят достаточно глубоко в почву или подпочву теоретических и методологических контроверз современной науки об искусстве слова. Стереотип остается стереотипом, но как бездумный трафарет и шаблон он-то и требует осмысления как в свете точных и полных данных о творческом наследии Хлебникова, так и в контексте указанных контроверз. Последние тоже обсуждались автором в «Поэтике слова» и ряде других работ. Но здесь они существенны даже независимо от того, какую именно поэтику — лингвистическую, анти- или полулингвистическую — отстаивают исследователи.
В самом деле. Понятие словотворчества, представляющееся в собственно лингвистическом аспекте более или менее ясным и определенным, оказывается как бы под вопросом, как только задаешься целью осмыслить его с общефилологических и эстетических позиций. Больше того, это понятие начинает выглядеть прямо-таки подозрительным, если принять на веру все то, что в последние годы сказано в нашей литературе о формотворчестве, прежде всего в связи с продолжающейся полемикой по поводу социалистического реализма как “открытой системы”. Поэтому приходится хотя бы кратко затронуть эту смежную с нашим предметом проблему.
Разумеется, соответствующая сложная проблематика оказывается “смежной” лишь для настоящей работы и лишь в рамках непосредственно решаемых в ней задач. В общем плане “проблему формотворчества” мы обязаны признать относящейся к самой сердцевине того круга вопросов, которые составляют суть эстетики социалистического реализма, реализма и эстетики как фундаментальных понятий нашей филологической идеологии. Претензия на новое слово в этой области потребовала бы специальной работы и во всяком случае весьма пространных экскурсов в основную литературу предмета и сам литературный процесс. Здесь, однако, необходимо и достаточно указать лишь на некоторые слабости в отдельных суждениях об “открытой системе” и формотворчестве.
В 1924 г. Ю.Н. Тынянову казалось, что квазиэстетическая аналогия: “форма — содержание = стакан — вино” — в силу ее очевидной вульгарности, механистичности и попросту неадекватности, некорректности уже окончательно преодолена (см. Тынянов 1965: 27). Это была иллюзия. В 1982 г. известный теоретик социалистического реализма предлагает нам без всякого обсуждения истории вопроса принять “четкую” и “образную” формулу: „Бутылка-то всегда найдется, было бы вино — налить в нее”.64![]()
Даже на минуту приняв возрожденную аналогию и метод “образного суждения” о бутылке и вине, чувствуешь, что со следствиями здесь не все в порядке.65![]()
![]()
Обратимся к „изьяну первоочередности”. Можно понять, почему, например, Т. Мотылеву подкупило „положение Д.Ф. Маркова о социалистическом реализме, как открытой, непрерывно обогащающейся системе художественных форм”.67![]()
![]()
Заметим также, что обогащение, развитие художественного мышления вообще требует не просто форм, “адекватных, конгениальных” конкретному „осваиваемому талантливым автором содержанию” (с. 130), но и развития художественного языка как сложной системы изобразительных и выразительных средств, содержательных уже и еще до того, как они поступили во всеобщее распоряжение. Ведь отношения между художественным мышлением и художественным языком отнюдь не идиллические. Талантливый художник может ощущать (чаще всего так и бывает) недостаток в средствах познания, их несовершенство — и этого достаточно, чтобы признать за ним право на эксперимент в эстетическом освоении мира. (А раз так, то словотворчество Хлебникова в принципе не должно рассматриваться как выражение какого-то экстраординарного “экстремизма”; это — опять же в принципе — “высокая норма”, нормальная „высокая болезнь”). Шире: именно “план содержания” в художественном методе, в эстетической системе окажется недоступным или искаженным в нашем восприятии, если мы станем устанавливать его, стремясь отодвинуть во второй эшелон — так или иначе недооценивая “план выражения”.
Поэтому „изьян первоочередности” на практике и выкидывает не учитываемый Ю.А. Андреевым диалектический фортель: невниманием к содержанию оборачивается как раз невнимание к форме — к языку, формотворчеству, словотворчеству и т.д. Поэтому, в частности, методологически (и фактически) неправомерно интерпретировать горькое и максималистское, но честное и глубокое убеждение требовательного к себе неудачника Треплева в «Чайке»: „Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, ничего не нужно” — как „особую готовность “новаторов” эпохи модернизма разрушать”.69![]()
![]()
Преодолеть поверхностную оппозицию “формализм/содержанизм”, невольно заостренную Ю.А. Андреевым, можно и нужно путем систематического анализа конкретной эволюции доступных исследователям “форм”, воплощающих искомые “содержания”, формированных “сущностей”, т.е. идейных прорывов в будущее. Но противоречия, о которых упоминалось выше, не снимаются одними только “правильными” формулировками даже в распространенных справочных изданиях. Так, недостаточным оказался бы и справедливый сам по себе тезис, согласно которому в идейном и художественном наследии Хлебникова культура XX в. имеет дело с „серьезным опытом новаторского формотворчества”, и этот опыт лишь “демагогически” может быть „причислен к формализму”.71![]()
Не секрет, что инерцию рассуждений критика П. Ульяшова (и не одного его) поддерживает еще одна стереотипная оценка, приставшая едва ли не ко всему наследию поэта, — клеймо “ модерниста”. Конечно, можно назвать немало работ, в которых такое клеймо игнорируется или ощущается в незначительной степени. Но с ними сосуществуют другие работы, усилия авторов которых направлены на безусловное сохранение клейма, а то и на его подновление.
Так, степень элементарного внимания к “модернисту” и уровень собственно филологической акрибии при проведении подобных нигилистических, но претендующих на ранг безусловных процедур характеризуют, к примеру, не только самоуверенный тон сенсационных “обличений” поэта как “пророка” и “страдальца” из подполья (!), но и игнорирование замечательной статьи Ю.Н. Тынянова «О Хлебникове».72![]()
![]()
‹...› Слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами, — писал Хлебников в 1914 г. (V, 188). Казалось бы, естественно связать это высказывание о “самовитом слове” с павловской идеей второй сигнальной системы, во всяком случае — трактовать его как вполне реалистическое. Но приводится эта цитата почему-то как иллюстрация хлебниковского модернизма (и модернизма вообще), хотя будетлянина-то уж никак нельзя назвать “разочарованным” в “рационалистических способах” решения вопроса о „месте личности в жизни космоса”.74![]()
![]()
Творчество Хлебникова дает немало доказательств содержательной активности художественных форм, а его словотворчество — это прежде всего (не только!) яркий пример „продуктов саморазвития формы”, которые укрепляют в убеждении, что „граница между модернизмом и реализмом” и в данном случае „оказывается проблематичной”,76![]()
![]()
Лишь безусловное противопоставление мифотворчества и эксперимента реализму, обескровливание эстетической системы путем ампутации выразительных средств, которые вполне могут работать и на реализм, и на социалистический реализм, “позволяют” отдавать Хлебникова “модернизму”, а порой все еще “охранять” от „Лобачевского слова” литературу социалистического реализма.78![]()
![]()
Из сказанного ясно, насколько актуальной и методологически важной была бы специальная работа на тему “Почему Хлебников не модернист?” Это — как раз один из „нерешенных вопросов изучения русской литературы рубежа XIX–XX веков”, которые стали недавно темой статьи В.И. Кулешова,80![]()
С нестандартным заглавием связана гораздо более серьезная проводимая В. Кулешовым аналогия между подходом В.И. Ленина к эмпириокритикам и подходом самого автора статьи к “модернистам”. Она представляется неправомерной. Философские ухищрения Э. Маха стоят, очевидно, не больше, чем соответствующие построения, скажем, Вяч. Иванова. Однако статьи «Маха конус», «Маха принцип» и «Маха число» в БСЭ говорят о том, что подобной же уверенности разграничений, основанной на конкретных анализах “теорий”, филологам все еще недостает. А ссылки на тот факт, что они имеют дело с более сложной реальностью, чем физики, не должны служить бессрочной методологической индульгенцией.
Дело не в “резкости” характеристики „эстетических теорий модернистов” — В. Кулешов просто объявляет их „окрошкой, лишенной убедительной логики и объективно-познавательного значения” (с. 63). Дело в том. что вместо филологического и эстетического анализа этих “теорий” обнаруживается смешение идеологии, методологии и конкретных творческих методов и концепций. Суровая оценка выносится заранее и к спокойному анализу оцениваемой системы во всех ее значимых деталях, противоречиях и возможных действительных ценностях уже не располагает, на него не ориентирует. Вокруг слова изучать в заголовке раздела возникают еще одни — невидимые, но тем не менее хорошо ощутимые кавычки.
Примеров реализации идей о “мере научности” немало.81![]()
![]()
В. Кулешов невольно, казалось бы, но тоже как бы освящает подобный подход. Конечно, общий пафос его статьи как раз в призыве к изучению, к движению вперед. Но тем красноречивее здесь фигура умолчания в отношении Хлебникова. Отдать ли его “модернизму”? (П.В. Палиевский числит его в авангардистах; не пора ли путем изучения и обобщения фактов сделать по-настоящему рабочими понятия “модерна” и “авангарда”, переведя клички на уровень терминов или отказавшись от всеобъемлющих пейоративов?) Почему бы не поискать у будетлянина и некоторые элементы социалистического реализма? Социалистического искусства? “Социалистического романтизма”? Сам он не признавал себя идеалистом (см. Лейтес, 1973, Козлов 1927) — представляют ли его эстетические взгляды ту же самую „окрошку”?83![]()
Без тщательного и очень трудоемкого исследования на подобные вопросы не ответишь. Да филология и не располагает пока здесь всесторонне обоснованными ответами. Но В. Кулешов как будто и не задавался этими вопросами, поэтому неясно, солидарен ли он с оценкой поэтического мира Хлебникова как „философской утопии” материалиста (см. Урбан 1979 и Лейтес 1973: 228), считает ли такую оценку достаточной? Или же, напротив, вслед за С. Небольсиным готов предать Хлебникова декадансу? Так или иначе, он упустил случай выразить свое отношение и к “загадке Хлебникова”, и к проблеме формотворчества. Это, на мой взгляд, существенно снижает уровень необходимой смелости и ограничивает желательную широту в постановке затрагиваемых автором проблем. Обойдя молчанием одну из ключевых филологических “загадок века”, вокруг которой поломано столько “идеологических копий”, В. Кулешов лишил свою статью и той ясности, без которой не может быть достигнут оптимально продуктивный и системный “порядок обсуждения”.
Если вернуться теперь к проблеме формотворчества, как ее представил Ю.А. Андреев и как она выглядит после нашего краткого экскурса в проблемы, смежные с ней, то в качестве промежуточного итога может быть сформулирован такой вывод. Изучение словотворчества Хлебникова исключительно существенно в методологическом плане прежде всего. Обращаясь к эмпирии его словотворчества, мы оказываемся на перекрестке проблем, важных и для теории социалистического реализма, попадаем в область таких “формальных элементов”, за эволюцией которых, как это было ясно Ю.Н. Тынянову уже в 20-е годы (1977: 523), скрывается „эволюция функций”. Она-то и связывает „план выражения” и „план содержания”, языковые формы — с их ненормативной семантикой, что оправдывает формотворчество поисками „приращений” художественного смысла у все новых и новых содержательных форм. Тем самым снимаются и упомянутые выше недоумения А. Урбана (1979: 160–161).
В этой связи может получить реальное объяснение, если не “оправдание”, и хлебниковская “заумь” как крайний случай содержательного формотворчества. Но она оказывается, к сожалению, слишком крепким орешком для литературоведов. Так, в разделе «Ранние формалистические тенденции в теории словесного творчества» из главы «Идеалистические течения в русском литературоведении конца XIX – начала XX в.» в новейшем академическом издании84![]()
![]()
‹...› Колумбом новых поэтических материков ‹...›
Хлебниковиану открывают три “апологии” поэта, в разной мере сохраняющие свое значение в наши дни. Знаменательно, что авторами этих “апологий” выступили молодые деятели культуры начала XX в.: (1) будущий крупнейший лингвист Р.О. Якобсон, (2) виднейший поэт и соратник Хлебникова — Маяковский, (3) выдающийся теоретик и историк литературы и сам замечательный художник слова — Ю.Н. Тынянов. Известно по воспоминаниям, насколько трудно было людям предшествующих поколений, воспитанным на традициях классической поэзии, “проглотить” даже глупую воблу воображения Маяковского.86 ![]()
![]()
Монография Якобсон 1921 вызывает сейчас в основном лишь исторический интерес. Задуманная как вступительная статья к не осуществленному “мафовцами” собранию произведений Хлебникова, она характеризует ранний опоязовский подход к творчеству этого поэта и вместе с тем обозначает общее начало систематических обращений филологии к “загадке Хлебникова” и споров вокруг нее. Поучительным было бы исследование разнообразных оценок Хлебникова в работах разных лет у членов ОПОЯЗа — таких, как Б.М. Эйхенбаум, В.Б. Шкловский, Л.П. Якубинский,88![]()
![]()
Вместе с тем работа Якобсон 1921 содержит множество наблюдений над отдельными особенностями хлебниковского идиостиля. По существу, в ней мы находим набросок некоторой первоначальной программы исследований поэтического мира Хлебникова, которая была предложена начинающим филологом, но пока не осуществлена полностью (ср. Гофман 1936, Markov 1962; Faryno 1967, Слинина, 1970, Holthusen 1974, Mirsky 1975, Костецкий 1975, Александрова 1980, работы Р.В. Дуганова, А.Е. Парниса, Г. Барана, Р. Вроона, М. Грыгара, В. Вестстейна и др.), не превзойдена какой-либо более совершенной, детальной и всесторонней. Многочисленные обращения Р.О. Якобсона к творчеству Хлебникова в разной связи на протяжении 20–70-х годов делают актуальной и обобщающую тему «Якобсон как велимировед» (см., в частности, Якобсон 1973).
Не менее важная и гораздо более актуальная, но редко вспоминаемая “апология” поэта — некролог: Маяковский 1922. Это — огромной силы концентрат аргументов и тезисов, касающихся творчества будетлянина, его роли в искусстве XX в., его исключительной преданности поэзии и слову,90![]()
![]()
Повторения сами по себе, конечно, не продвигают нас вперед по пути реального развития и уточнения отдельных тезисов некролога, в котором как бы независимо от лингвиста Якобсона поэт Маяковский наметил своеобразную и яркую программу исследований творчества Хлебникова. Но филологи не только в 30-е годы (Гофман 1936, Метченко 1936), но и до сих пор далеко не всегда считаются с ней, списывая подчас весь некролог на “грехи” футуристической молодости автора и групповщины в первые послереволюционные годы.92![]()
Кажется парадоксальным, что эта попытка большого поэта-“ученика” оценить по достоинству творчество другого большого поэта-“учителя” все еще не получила (за 60 с лишним лет) полноценного и общепризнанного критического анализа с учетом всех других обращений Маяковского к творчеству будетлянина. Не имеет смысла представлять отношения между Маяковским и Хлебниковым как идиллические. Неправомерен и односторонен тезис Маяковского „Хлебников — поэт для производителя”, подвергались сомнению и некоторые другие из его утверждений об “учителе” как в самом некрологе, так и за его пределами (например, о том, что издание сочинений Хлебникова может его “угробить”, что он „не поэт для потребителей”, что у него нет поэм и т.п.; см. также ВГ 1983 — по указателю).
Тема «Маяковский и Хлебников» (как и тема «Хлебников и Маяковский») слишком значительна в самых разных отношениях — историко-литературном, методологическом и других, — чтобы можно было удовлетвориться простым сосуществованием подчас диаметрально противоположных позиций в ее трактовке. А они пока сосуществуют, чаще всего даже не пересекаясь, если не считать аллюзий, бездоказательных оценок иных взглядов как “субъективных” и т.п. и многозначительных умолчаний или снисходительных касаний и некролога (Маяковский 1922), и автобиографии “ученика”, авторизованной для переиздания в 1928 г. («Я сам», где „тихая гениальность” Хлебникова противопоставлена „бурлящему Давиду” и „футуристическому иезуиту слова”),93![]()
![]()
Если в монографии Н.Л. Степанова (1975) имена Маяковского и Хлебникова последовательно сближаются, хотя это сближение не опирается на специальное исследование и остается далеким от систематичности, то в работе З.С. Паперного «Маяковский и “революция слова”» (1971) противопоставление тех же имен следует тенденции, последовательно заявившей о себе в книге Тимофеева 1962 (а позднее еще усиленной в статье Гончаров 1976). Странно читать сейчас о том, что и во время революции „Хлебников тихо и отрешенно пребывает среди мира земли и неба”, что жизнь для него „не столько злободневна, сколько всевечна” (?), что после революции жизнь, якобы с его точки зрения, „возвращается в свое изначальное благодатное состояние” (Паперный 1971: 112). Эти тезисы произвольны и недоказуемы, им противоречат не только факты биографии поэта и вся система его творчества (Цусима, крикливое воззвание к славянам, понятие метабиоза, звездный язык, словотворчество, основной закон времени, «Ночь в окопе», «Ладомир», Персия, Роста и пр.), но и такие прямые высказывания, как требование перехода от землепашества к судьбопашеству и судьбоделию (86: 47), к судьбознанию, судьбоплаванию и судьбомерию (ДС, 3).
Невозможно согласиться с установкой на столкновение “учителя” и “ученика” — примитивного и эстетически чуждого нам “двоечника” Хлебникова с твердым “хорошистом” Маяковским. Некритически усвоив абсолютно не доказанный, но популярный тезис о том, что направление работы Хлебникова над словом было противоположно линии Маяковского (Тимофеева 1962: 312, 221), естественно — по логике тезиса — подгонять под эту нехитрую антиномию любые факты, произвольно извлекаемые из многозначной поэтики и эстетики будетлянина, не задаваясь вопросом об адекватности такого представления и корректности используемых процедур “анализа”.
Возникает своего рода ослепление схемой. Самого тонкого (в других ситуациях) исследователя оно доводит до произвола в истолковании элементарных стихотворных строк. Так, четверостишию Хлебникова, которым он, постоянно призывавший подчинить веру — мере, т.е числу, расчету, афористически завершает „изумительнейшую”, по словам того же Маяковского, поэму «Ладомир»:
Как будто деловитость и сухость — это исчерпывающие и даже безусловные характеристики коммунистического строительства. Как будто отношение самого Маяковского к будущему сводилось к этим двум атрибутам. И как будто “деловитая” мера,95![]()
![]()
По несправедливости с этой энтимемой-заключением (четверостишие из «Ладомира» не приведено критиком) трудно, кажется, соперничать. Но она выглядит чуть ли не безобидной, ворчливой, а впрочем, добродушной наставницей, если сопоставить ей безапелляционного судью — недавно обнародованный обобщающий тезис, согласно которому поэмы Хлебникова (вдумайтесь!) „можно читать с любого конца, в любом порядке строф и строк, и ничего не изменится”.97![]()
Таким образом, работы о Маяковском и его “поэтическом языке”, о Маяковском и “революции слова”, “концепциях слова” и “поисках нового слова” дают очень мало, если вообще что-либо дают для реального понимания революционизирующей роли нового отношения к слову у Хлебникова.98![]()
![]()
Мы снова обнаруживаем, насколько методологически важным может стать тщательное исследование словотворчества Хлебникова как для объективной оценки “учителя”, так и для прояснения сопоставительных и типологических проблем. Специфика языка Маяковского искажается методикой произвольных и спорадических столкновений его “филологии” и эстетики с неверно интерпретированными и вырванными из неизвестного исследователю или игнорируемого им контекста “языков”, “воображаемой филологии” и эстетики Хлебникова. Такое сравнение “идеализирует” одного поэта за счет другого, на деле принижая обоих.100![]()
Это и делает особенно актуальным давний некролог (Маяковский 1922).
Третью “апологию” — статью Ю.Н. Тынянова «О Хлебникове» (1928), перепечатанную (с некоторыми разночтениями) в сборнике Тынянов 1965, критики, “мимоходом” вспоминающие Хлебникова лишь с целью противопоставления “скверного” — “хорошему”, как правило, просто обходят. Но и сама по себе эта статья тоже не стала предметом специального историко-критического исследования. Ее судьба драматична. Углублявшая отдельные оценки Хлебникова Мандельштамом (1919, 1922, 1923 и 1928), она все еще остается где-то в “запасниках” филологии. Не встречая в последнее десятилетие прямых и серьезных опровержений, ее идеи и выводы не стали и подлинным стимулом для их проверки и углубления. Ее блестящим предикатам: Хлебников был „новым зрением”, „Лобачевским слова” — и призывам изучать методы поэта, его мораль — наша филология без разбирательства предпочла в лице многих своих представителей иные выводы: о том, что Хлебников был „не началом нового, а скорее концом старого” (Гофман 1936: 240), что хотя ему и было свойственно „художественное чувство слова”, его „очень путаные рассуждения” о словотворчестве просто не заслуживают того, чтобы вникать в них (см. Тимофеева 1962: 270–271 и 147).
Показательно, что эта линия конфронтации с Тыняновым обходится без упоминания его точки зрения, его аргументов, его программы исследований творчества Хлебникова как „новой семантической системы”, „нового слова поэзии”, нового „словесного зрения”, „нового строя слов и вещей”, как „поэтической свободы, которая была в каждом данном случае необходимостью” (Тынянов 1965: 288–293).101![]()
![]()
![]()
В отличие от Маяковского Тынянов по существу не касается проблемы хлебниковского словотворчества. Можно даже предположить, что собственно словотворческие эксперименты поэта не вызывали у него такого же интереса, как „новая семантическая система” в ее основных эстетических измерениях. Так или иначе, но тезис Г.О. Винокура о „мучительном мусоре” новообразований Хлебникова он не опровергал. Однако он не поддался и соблазну принять этот тезис на веру, проницательно указав на легковесность обвинений поэта в “зауми” (в расхожем значении слова). Установка на “смысл стихового слова” (1965: 77) помогла Тынянову сначала обнаружить общую „семантическую заостренность” Хлебникова и показать интенсификацию значений суффиксов в «Смехачах» (1965: 125 и 152), затем — осознать смысловую роль „подчеркивания частей слова”, которое может делать их, по выражению Маяковского, „фантастическими” (Тынянов 1965: 166), и, наконец, сформулировать „всю суть” хлебниковской “теории”, которая заключалась в том, что „он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле” (Тынянов 1965: 292). Отсутствие такой “установки на смысл” приводит одних литературоведов и много лет спустя после Тынянова и Маяковского к обвинениям Хлебникова в мифическом “жонглировании” мифическим “слово-звуком”,104![]()
Кратко остановившись на трех “апологиях” Хлебникова, мы опять столкнулись с проблемами теории и методологии, далеко выходящими за рамки собственной проблематики словотворчества, и с проблемами истории нашей филологии, отраженными в ее сегодняшних контроверзах. Едва ли необходимо множить свидетельства особой актуальности хлебниковского словотворчества как предмета исследования. Переходя непосредственно к этому предмету и уже имея некоторый опыт в обобщении данных “воображаемой филологии” Хлебникова (ВГ 1982б и 1983), автор видит необходимость начать анализ с обсуждения общей проблемы “мифологического” в его творчестве.
Поясним такое выдвижение проблемы, далеко выходящей за рамки хлебниковского словотворчества, на первый план. Правомерность и целесообразность ее анализа в непосредственной связи с неологией, как уже отчасти отмечалось в Предисловии, обусловлена особой ролью мифопоэтического элемента в мировосприятии будетлянина. Во-первых, очевидно, что именно “мифологическое” в широком смысле определяло многие из оснований той системы, которую мы называем “воображаемой филологией” Хлебникова, и, в частности, едва ли не большинство его словотворческих “начал”, реконструируемых ниже в специальном разделе. Во-вторых, несомненной мифопоэтической окраской характеризуется существенное множество конкретных неологизмов поэта. В-третьих, словотворчеством глубоко затронута сама система мифологем в разных текстах Хлебникова. Он не просто производил учет богов в различных реальных верах, а, как увидим, применял к ним особую меру не только в плане содержательной идеологии, подчиняя их своим собственным богам и героям, но и в плане выражения, преобразуя для “пантеона” творян уже известный сакральный и профанический именослов и создавая новый.

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 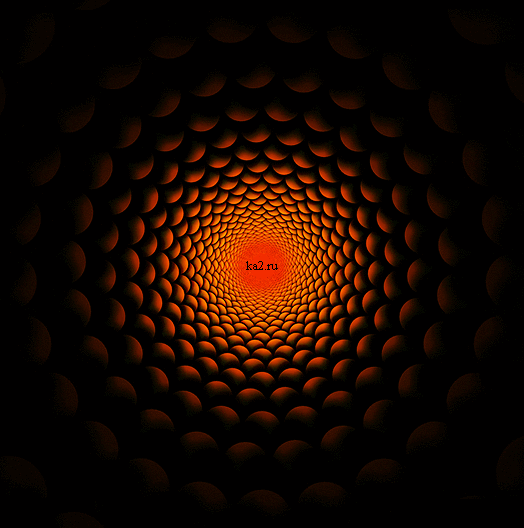 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||