

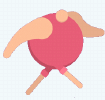
Назовем верояркостью
число последователей данной веры
Из рукописи (72: 16 об.; 1922)
Мифология самого Хлебникова как целостная система “нелинейных” преобразований различных факторов мировой культуры заслуживает подробного специального и комплексного исследования. Это одна из наиболее актуальных тем велимироведения,1![]()
![]()
![]()
По существу, тема мифологии Хлебникова еще не ставилась достаточно широко, поэтому неудивительно, что и в новейшей энциклопедии «Мифы народов мира» имя будетлянина почти не упоминается. Правда, в статье «Литература и мифы» творчество Хлебникова получает краткую характеристику в мифопоэтическом плане. „Своеобразной формой поэтического мышления стала мифология для В. Хлебникова — пишут Ю.М. Лотман, З.Г. Минц и Е.М. Мелетинский (авторы статьи). — Он не только пересоздает мифологические сюжеты многих народов мира («Девий бог», «Гибель Атлантиды», «Ка», «Дети Выдры», «Вила и леший»), но и создает новые мифы, пользуясь моделью мифа, воспроизводя его структуру («Журавль», «Внучка Малуши», «Маркиза Дэзес»)”.4![]()
Легко заметить, что упомянуты здесь лишь ранние вещи Хлебникова (самая поздняя — «Ка», 1915).5![]()
Более или менее полный перечень одних только произведений Хлебникова, которые имеют традиционно-мифологическую основу, был бы весьма пространным, если не огромным, и потребовал бы особого и специального комментария. Задачу, необходимую и достаточную для целей настоящего раздела в рамках проблематики книги, можно сформулировать с ограничениями: продемонстрировать, без претензий на исчерпывающие данные, круг мифологических интересов Хлебникова, направления его мифопоэтического внимания, по возможности в непосредственной связи с фактами словотворчества. При этом важно, чтобы собственно славянский материал, особенно обильный в его текстах 900-х и 10-х годов, не заслонил общий смысл обращений поэта к мифологемам разного происхождения и их функции в иерархии этого своеобразного пантеона под пером атеиста и богоборца.
Филологи давно уже всматриваются в явление “крутой ремифологизации” в литературе XX в. Миф несколько неожиданно оказался „некоей емкой формой или структурой”, способной воплотить „наиболее фундаментальные черты человеческого мышления и социального поведения, а также художественной практики”. Естественно, что при этом обратила на себя внимание и сама поэтика мифологизирования в XX в., правда в основном на материале романа.6![]()
![]()
Следует указать на одну знаменательную перекличку. Анализируя ряд произведений мифологического стиля, М. Эпштейн и Е. Юкина попутно замечают, что в них „жизнь, малая в эмпирическом плане, оказывается великой в плане идей”.8![]()
![]()
Не совсем безболезненно категория мифологического находила себе место среди других категорий, которыми пользуются филологи, рассуждая, в частности, о фантастической литературе. Довесок “научно-” к этой последней явно противоречил попыткам теоретически и практически оправдать возрождение “донаучного” мифологического взгляда на мир. Художественная футурология, “фантастоведение”, “фэнтази”10![]()
Лишь постепенно становится очевидным, что не только научная фантастика „удовлетворяет повышенные потребности современного сознания в нестандартном, оригинальном воображении”.11![]()
![]()
Хлебников был одним из тех художников, кто особенно остро ощущал эту энергию мифа, кто находился у истоков (повторим слова А. Бочарова) „новой тенденции более свободного обращения с фактами реальности”.13![]()
![]()
К архитектурным идеям Хлебникова уже было привлечено внимание сегодняшней аудитории (Жадова 1976), а в собственно словотворческом плане нам придется к ним обращаться ниже. Нелишне напомнить, что предстоит осмысление и экологических идей поэта, в частности выдвинутого им закона для «Лебедии будущего» (IV, 289):
Понятно, что за этим образом обезьяны следует видеть, скажем, и нынешних дельфинов; строчки о липе, которая в «Ладомире» будет посылать своих послов в совет верховный, необходимо соотнести с современными “красными книгами”; от конских свобод и равноправия коров в том же «Ладомире» тянутся нити не только к Свифту и в Индию, но и к Заболоцкому, а также к нашим дням, — в частности, и в том смысле, что здесь содержится призыв ко всем нам услышать, наконец, настойчивый “стук в двери” нашего дома, которые остаются закрытыми для будетлянина.
Таким образом, хлебниковские мифологемы — это мифологемы особого рода. Не только его „своеобразный лингвистический иллюзионизм” (Гофман 1936: 3) должен быть освобожден от заведомо пейоративных оценок, изучен, понят и описан именно как совершенно своеобразная система. Но понять эту систему нельзя в изоляции от всего хлебниковского мифотворчества и от других его осад.
Известно, что Хлебников широко использовал различные инославянские слова, такие, например, как полабское Леуна, а весной 1919 г. в «Свояси» отметил, что В. Брюсов ошибочно увидел в этом словотворчество (II, 7). Однако с мифотворчеством подобные квазинеологизмы поэта несомненно связаны.16![]()
Три постоянные осады, которые вел поэт, нашли выражение и в своеобразных мифологических именах. Одно — Числобог ‘бог времени’ (IV, 82)17![]()
В глазах самого Хлебникова его осады неравноправны по отношению к мифологии. В 1920 г. он специально подчеркивает, что для него существенны числа в рубахах Эйнштейна, сорвавшие с себя притчевые священные оболочки, мифологич‹еские› одежды (9: 10 об.).18![]()
К мифам как явлениям словесности отношение иное. В 1908 г. Хлебников предлагает организовать Общество украшения Крыма мифом (60: 106 об.). Обсуждавшийся несколько позднее язык имен собственных (см. подробнее ВГ 1982а) должен был охватить имена из всех мифов и историй (86: 28). А в конце 10-х годов над этой задачей, которая тоже впечатляет своей масштабностью, надстраивается другая, обращенная уже не к относительно простой каталогизации, а к непосредственному созданию мировых мифов (112: 2 об.), — не частных и региональных, но именно мировых. Судя по всему, имелись в виду мифологические герои, такие, как Орфей или Гайавата, и общая мечта овселенить свой род, свое дедовство (V, 265), т.е. прошлое России.
Сам Хлебников и выступает как исключительно последовательный поэт-мифотворец до конца своих дней. Венцом этой его деятельности оказался образ Зангези, вобравший в себя огромный опыт обращений поэта к мировой истории и мифологии.
Успех начальной проповеди Зангези среди его слушателей вспугивает богов (III, 337), т.е. человечество, освобожденное от старых верований, как бы остается наедине с самим собой, человечеством, верующим в человечество (V, 242). Казалось бы, торжествует второй член изначальной хлобниковской оппозиции вера/мера (60: 96), а в позднейшем противопоставлении — меродатели над веродателями (74: 39). Тем не менее Зангези — это новейший мифологический герой (при всей его близости к автору), а историософия «Зангези» несет на себе явный мифопоэтический отпечаток.
Мифологизируются события древней и новейшей истории и связи между ними, а исторические ситуации получают, с точки зрения современного читателя, явно “гиперсемиотические” оценки.19![]()
Примеры легко умножить за счет самых разных областей научного знания и явлений повседневного быта, но достаточно напомнить о двух оставленных Хлебниковым без последствий для «Досок судьбы» попытках найти закономерности в пространственном положении столиц европейских государств (1912; см. V, 173–174) и в мнимом отношении поверхностей кровяного шарика и земного шара (1915; см. 97: 5 и 2 об.) или о найденном в 1916 г. законе 365-ричности рождений (93: 26).20![]()
Вместе с тем Хлебников упорно отстаивает и эмпирическую достоверность своих законов времени, и всеобщую значимость обнаруженных им соотношений типа 3n — смерть, 2n — жизнь, 3n·2n — гармония, 3m − 2n — борьба (при m>n; 77: 55 об., 1921). Защищая свой новый Коран, Коран чисел, поэт предвидит, что равнодушный разум бросит этим уравнениям презрительную кличку случайности ‹...› (77: 54).21![]()
Одна из особенностей хлебниковского идиостиля — исключительная, может быть, даже беспримерно и, пожалуй, парадоксально высокая частотность корня бог- и соответствующего семантического поля. Это обусловлено противоположными мотивами: 1) явно выраженным настойчивым и устойчивым богоборческим пафосом поэта22![]()
![]()
Уже в 1908 г. начинающий будетлянин, с одной стороны, явно сочувствует мечтежникам о боге, не знающем лика (60: 133), с другой — обдумывает грезоль о сое богов (60: 131).24![]()
Неудивительно что написанная серьезной “заумью” 19 ноября 1921 г. пьеса «Боги» (IV, 259 и след.; ср. 97: 6) мирно и полуиронически соседствует с набросками «Открытого письма Богу», к которому поэт обращался как к своего рода коллеге, сотруднику, предшественнику: Любезный Бог ‹...› вы были любезны взять на себя труд ‹...› (75: 31 об.). Это письмо — один из последних текстов поэта — предназначалось для листа VII «Досок судьбы» с предположительным заглавием «Мера — лик мира».
Среди божеств и мифологических героев у Хлебникова необходимо различать, как это следует и из сказанного выше, богов и героев “реальных”, с одной стороны, и созданных его собственным воображением, с другой.25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Однако для мифологического словотворчества Хлебникова в целом, кроме «Зангези» и ряда специальных текстов, этот вопрос не представляется существенным. Важно лишь, что в таком словотворчестве используются русские по преимуществу корни. Ср.: богевна в обращении к маркизе Дэзес (НП, 82), боженята (ср. диал.)., которые живут в божелесье (125: 43), божичи (II, 163; НП, 324), возможно, впрочем, заимствованные у Афанасьева (см. ниже), божоги (60: 13 об.)30![]()
![]()
В тетради 1908 г. поэт пишет о себе: Людин Богович звался я (60: 50 об.), — но это, так сказать, в высоком стиле пробного стихотворного контекста. А в оголенном словотворческом ряду, перевернув несколько страниц той же тетради, мы находим корень бог- совсем с иными соседями: пегаш, лягаш, богаш, могаш (62: 61)!32![]()
Взаимодействие мифо- и словотворчества широко захватывает у Хлебникова и область словосложения. Сравнительно слабо представлены пограничные образования типа неженки‹-›боженки (64: 57 об.), хотя ср. времыши-камыши, а отчасти и к богу-могу; о подобных фактах в структурном плане еще придется говорить ниже. Зато изобилуют и говорят сами за себя идеологией отбора сочетаемых основ такие слова, как боголом (V, 91) и боголомный (125: 23),33![]()
Полезно здесь же напомнить о группе иронических, полуиронических и даже драматических фразо- и словопреобразований,35![]()
Далеко не исчерпав материалы но корню бог-, а лишь наметив выше некоторые характерные для Хлебникова мифотворческие моменты в их связях с его словотворчеством и идейными устремлениями, приходится еще более бегло остановиться на нескольких примерах из огромного разнообразия, которое предоставляет его наследие для обсуждения указанных проблем в контексте всего литературного процесса в XX в.
Оказывается почти необозримым множество “славянских” и иных “мифонеологизмов” в их весьма непростой эволюции судя по рукописям и печатным произведениям поэта. Иллюстрациями здесь могут служить прежде всего сотни мифологических “проб” из тетради 1908 г. (лишь малая часть их опубликована) и отдельные “образцы” из других рукописей и известных изданий.
Несомненно, что Хлебников был знаком со знаменитым трехтомником А.П. Афанасьева. Поэтому вполне возможно, что, например, слово-образ облакини (НП, 115) не просто возникает у поэта по аналогии с др.-рус. берегиня (берегыня), но и непосредственно восходит к тексту «Поэтических воззрений славян на природу». Во всяком случае указатель имен к первому изданию этого труда (где, кроме берегини, есть, в частности, горыня, Дубыня и Лесиня), включает очевидную перифразу того же самого смысла — облачные жены и девы.36![]()
![]()
![]()
Примерно то же можно сказать о ряде образований на -ич: небич, водич (II, 269), тьмич, облачич, звездич, яснич, сказчич, сказич, деннич, нощич, грезич, былинич (II, 263), снегич (60: 53 об.), ворожич, морочич (60: 131), немотичи и немичи (II, 187) и т.п.39![]()
Круг корней часто повторяется, ср.: Снезини (IV, 153 и след.) и Снежимочка (НП, 64–75); Славяной (II, 264; <Водяной), Славодей (НП, 70)40![]()
На этом фоне относительно монотонных экспериментов оказываются выделенными образования с более редкими корнями типа яркого и актуального злобничий ‘дух войны’ (60: 17) или особенно краткие безаффиксные неологизмы, например, замечательное слово бух ‘одухотворение виновника ‹...› быти’ (60: 97 об.), вошедшее в стихотворение «Зеленый леший — бух лесиный...» (II, 92). Появляется даже воображаемое славянское племя — ‘пожарное семя’ будь (60: 45 об.; ср. чудь).
Производятся опыты с разложением таких имен, как Мокошь, и выделением квази(аф)фиксов типа -ошь, производящих слова вроде верошь41![]()
Что касается людей, будетлян, то имя им не только упомянутые разрушительные боголомы, но и созидающие судьботесы (139: 1 об.; 1917), неборобы и небоделы (60: 14). Это люди, которые молитве противопоставляют волитву (60: 56), готовы бороться с ней даже при помощи болитвы (80: 40; 1919). Особо значим по активности, лишь отчасти объясняемой настойчивостью поэта в борьбе со слепой верой, и по многообразию словотворческих экспериментов квазисуффикс, выделенный Хлебниковым в слове молебен. О такой словотворческой и семантической находке, как равнебен (41: 2 об. и стихотворение «Война — смерть» — II, 190) см. ниже и в другом месте (ВГ 1982б). Другие слова этого ряда представлены группой окказиональных замен театральных иностранных терминов: вождебен, деебен, казебен, княжебен, ряжебен, силебен, созерцебен, хилебен (V, 256, 300)42![]()
В уста упомянутой Всесущини поэт вложил реплику-вопрос, который глубоко его волновал: Можебная страна велика, и кто узнал рубежи? (IV, 163), — вопрос этот в последние годы жизни будетлянин перевел по отношению к себе в императивный план: Хоти невозможного (93: 9 и 78: 18).43![]()
Кое-что из неопубликованных записей также помогает осознать общий смысл хлебниковского завета. Так, в 1920 г. у глашатаев будущего человечества Уитмена и Леонардо поэт выделяет острое ощущение соборного человечества и изобретение летательных снарядов (85: 12). Примерно в это же время появляется в рукописях краткая заметка: Театр невозможного (27: 11 об.). Но уже в 1908 г. поэт следующим образом характеризовал свою деятельность: В долины невозможного я неуставающий бегун (так! 60: 138 об.). Эта самохарактеристика тесно связана у Хлебникова с началами словотворчества (интерпретацию которых читатель найдет в специальном разделе) — с обсуждением собственных неологизмов, снятием нормативных словообразовательных ограничений и последовательным введением все новых и новых словотворческих постулатов (правил, законов, принципов). Однако “воображаемая филология” и непосредственно “лингвистическая мифология” будетлянина развивались лишь как составляющие того синтеза всех трех занимавших его осад, который нашел прерванное смертью предварительное завершение в архитектонике различных плоскостей сверхповести «Зангези» и в ее заглавном образе слововеда, мифотворца, пророка, поэта и судьбопашца. Хлебников стремился решать задачи, казалось бы, вообще не имеющие решений.
Хотя невозможного, поэт называл себя и Верославом, для которого время есть сборник законов (83: 12; 1920–1921). Это выглядит парадоксом, но дело в том, что преодоление различных мифологических и собственно религиозных вер представлено у Хлебникова в двух формах. Разрушая веры простой постановкой задачи ‹:› время свято ‹,› пространство ‹—› зло (14: 8 об.; 1920–1921), поэт фактически выступал богоборцем, атеистом, предлагающим меру как сверхверу в основной закон времени. Вместе с тем Хлебникова живо занимали любые известные в истории попытки объединения вер и церквей, факты веротерпимости и т.п. Можно даже видеть в нем сторонника своеобразного “экуменического” движения, переосмысленного “пантеизма”, исповедника “всебожия”, но особого — такого, где люди и божества вместе, как Хлебников писал в начале 1913 г. А.Е. Крученых, ставя задачу сделать прогулку в Индию (V, 298).
Это, повторим, мир атеиста, который изучает вер спор и видит за ним звук воль (V, 266). Мир, где русалка равноправна с Богоматерью и ищет защиты у поэта (см. поэму «Поэт»), где Перун способен, так сказать, по соседству и по праву славянского первородства толкнуть разгневанно Христа (НП, 17 и II, 31)44![]()
![]()
В «Ладомире», при самой злободневной социальной ориентации автора, вплоть до антирелигиозного пафоса, революции в Венгрии и выступления В.И. Ленина с балкона особняка Кшесинской, именно боги, мифологические герои и исторические деятели, а также персонифицированные реки, созвездия, животные и растения, библейские и иные образы общими усилиями и как бы на равных правах создают с минимальными вкраплениями звездного языка мифологизированную картину будущего, где молния вечно носится слугой и где великие реки от имени своих народов говорят: Люблю весь мир я, т.о. мыслят глобально.
Следуя по тексту этой поэмы, упомянем, в частности, такие имена-образы, как костер, бог, созвездья Водолея, (Гончих) Псов и Девы и созвездье человечье (см. ВГ 1982а), Лобачевский и Разин, Трудомир (ср. Навруз труда и день мирового Байрама — III, 124–125), молния, (земли повторные) пророки, липа, (падшие) боги (в образе сравнения), (с алыми крылами) лебедь, столицы (в образе коня, взвившегося на дыбы), Гайавата, сообщество рек — Волга, Янтцекиянг (т.е. Янцзы), Миссисипи, Дунай и Ганг, Песня Песней, Кремль, Коненков и Шевченко, снова Разин, Гурриэт Эль Айн, сообщество богов — Изанаги (должно быть Идзанами; ошибка поэта; см. ВГ 1976: 196), Перун, Эрот, Шангти (т.е. Шан-ди), Амур, Маа-эма, Тиэн (Тиен, Тянь), Индра, Юнона, Цинтекуатль (т.е., по-видимому, Кецалькоатль), Ункулункулу, Тор и Астарта и параллельный ряд — Моногатори (т.е. Моногатари), Корреджио (Корреджо), Мурильо, Хоккусай (Хокусай), наконец, — конские свободы и равноправие коров, (свобода) Неувяда, злак, молот(ок), грядущего творцы (ср. выше творяне), будетляне, парус, птица звезд, уравненья, Баян, русалка, Печора, Нева, удары сердца, рок и колос ржи.
Не будем повторять здесь то, что попутно говорилось о «Ладомире» в других местах этой работы. Но и в нашем беглом перечне (и в целостном тексте поэмы) мы находим образы славянской, индийской, греческой и римской,46![]()
Можно и нужно подробнейшим образом произвести учет богов и их различных функций в творчестве самого Хлебникова. Однако это задача специального исследования. Нам достаточно указать (1) на то, что интерес поэта к верам — отнюдь не чисто этнографический интерес, (2) на то, что этот интерес вырастал из общеэкологических интересов Хлебникова, и (3) на “синтез вер”, нашедший выражение и в неологизме Зангези.
Уже в «Зверинце» Хлебников высказывает такую идею: Где мы начинаем думать, что веры — затихающие струи волн, разбег которых — виды. / И что на свете потому так много зверей (разных видов. — В.Г.), что они умеют по-разному видеть бога (НП, 286). С течением времени, как мы видели, будетлянин не только поставил конские свободы в прямую зависимость от социальных преобразований, но и предвосхитил современное экологическое мышление, в частности, образом “бабочки Хлебникова-Брэдбери” во «Взломе Вселенной» (см. ВГ 1982б).47![]()
Без комментариев и ссылок на тексты Хлебникова отметим, что такие мифологические имена, как Заратуштра (у будетлянина: Заратустра, Зардешт, Зороастр), Ормазд и Ахриман, Кава (Каве-кузнец), Махди (Мехди),48![]()
![]()
Мало того, сами славянофильские истоки хлебниковского внимания к отечественной мифологии (и ее преобразования) приобретают на этом фоне со временем совсем иное, новое социальное измерение, окрепшее в годы войны и революции. Раннюю «Снежимочку» сменяет «Война в мышеловке» с ее переходами от отчаяния перед ужасами кровавой бойни к утверждению самодержавного народа и от Судьболова в образе нечистого духа (рус. диал. дёдер — II, 254) к уравнениям Минковского, песнезову Маяковского и нетерпению меча стать мячом, к усилиям поэта — все зорче и зорче / Шиповники солнц понимать точно пение (II, 253, 255–256, 258), т.е. “пленить змея” судьбы, войн, глупости возрастов старших и распутать нить человечества (II, 256, 246). Итоговый образ спичек судьбы (III, 180 и 347) — это и стадо ручное богов (III, 179) как результат осады времени .
Несомненно, что синтезирующие поиски Хлебникова в области мифологии были строго направленными. Его внимание привлекли, конечно, не только следующие две черты каждой веры земного шара — интерес определялся и собственно литературными, эстетическими моментами, — но главным образом то, что в них можно обнаружить такие равенства: жизнь, разум, добро = время; смерть, зло ‹...› = пространство (118: 10). Из этого наблюдения поэт делал далеко идущие выводы, касающиеся, в частности, основания Государства Времени. На образном же уровне именно в связи с тремя измерениями пространства и необходимостью четвертого — временнóго измерения для всего существующего следует трактовать такой контекст в стихотворении «Чу! Зашумели вдруг облака...» (III, 176–177), где речь идет о конских верах и белогривом спасителе :
В этом же духе надо понимать текст из белой книги, написанной глаголицей старой, в стихотворении «Святче божий!..» (III, 309):
Несколькими годами ранее в публицистической форме начала «Трубы марсиан» (1916) используется близкий образ: Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахари, этому щенку четвертую ногу, именно — ось времени (V, 151).
И в то же время продолжалась и усиливалась социальная струя богоборчества, нашедшая выражение и в известных строчках «Ладомира» о боге, похожем на цепь, и в голосах «Настоящего»: А где бог бедных? ‹...› Наш бог в кулаке! (III, 276–277), и в лапидарных образах «Прачки» (III, 248):
В дополнение к сказанному о разноязычных мифологиях извлечем несколько примеров из рукописного наследия Хлебникова на фоне его опубликованных произведений. Так, поэта живо занимала фигура индийского религиозного философа и поэта, реформатора индуизма Шанкары (89: 3 об.).50![]()
![]()
![]()
Такого рода сравнения и сопоставления необходимо продолжать, корректировать и осмысливать. Здесь может оказаться существенным и беглое упоминание о Любитине этрусков (86: 22 об.), т.е. о Либитине римлян, и имя Лао-цзы (основателя даосизма), которое представительствует в важнейшем контексте из «Царапины по небу» (III, 84). Избранный литературный ряд имен: Шекспир, Гомер, Литайбо (т.е. Ли бо, китайский поэт VIII в.), Калидаса (V в.) и Пушкин (93: 3 об.) соотносится не только с оценкой Хлебниковым собственного творчества, но и с объединением вер и материков. Даже манихейство не осталось вне поля зрения поэта: “солнечного пророка” Сураика Мани (III в.) он рассматривал в ряду Сократ — Ян Гус — Ванини — Баб (74: 11).53![]()
В 1922 г., работая над «Досками судьбы», Хлебников сформулировал парадоксальное, на первый взгляд, для меродателя понятие верояркости (см. эпиграф). Свое учение он в самом деле противопоставлял верам, но хорошо сознавал, насколько важна и для него растущая среда приверженцев, может быть, еще не понимающих до конца всего круга идей будетлянина и потому еще просто “верующих” в предлагаемую им меру или/и в его утесы из будущего, или/и в подлинные глубины его словотворчества и т.д.
Организму вымысла
нужна среда правды.
Из рукописей (60: 137; 1908)
Подобно тому, как собственно мифологический материал приходится извлекать из самых различных текстов поэта, приводить этот материал в систему и интерпретировать в соответствии с общими принципами хлебниковского творчества (тоже не лежащими на поверхности), так же и принципы, или начала, его словотворчества в достаточно полном виде мы вынуждены реконструировать, исходя не только из всего многообразия самих неологических фактов и их ориентировочной систематизации, но и из различных метавысказываний самого Хлебникова в разные годы. Попытка общей интерпретации всего доступного исследователю корпуса текстов поэта с целью выявить основные начала (законы, принципы) его “науки словотворчества” облегчается тем, что уже сделано в этой области прежде всего благодаря работам Панов 1971 и Vroon 1983, выполненным, однако, на жестко ограниченном материале. Со своей стороны, мы, не накладывая на предпринимаемую здесь попытку каких-либо ограничений, особое внимание будем уделять метавысказываниям будетлянина, многие из которых остаются неизвестными.
Словотворческие замыслы Хлебникова и воплотившее их беспримерное множество неологизмов необходимо исследовать по законам, которые провозгласил сам поэт. Каковы же эти законы?
Сколько-нибудь подробного, а тем более систематического и последовательного изложения своих взглядов на словотворчество Хлебников нам не оставил. Не приходится переоценивать в этом смысле и статью «Наша основа» (1919), которая содержит некоторые общие словотворческие тезисы и иллюстрации, но представленные таким образом, что они переплетены с другими, занимавшими поэта в это время идеями и осадами, отчасти даже заслонены ими, и во всяком случае недостаточно развернуты, не детализированы и не прояснены даже для читателя-филолога.
Тем не менее законы можно выявить, но лишь путем скрупулезного сопоставления отдельных текстов, заметок, формул и экспериментов поэта на протяжении всего известного нам его творческого пути.
Согласно одному месту в рукописи Хлебникова 1922 г. он начал заниматься чистыми вещ‹ами› славянск‹их› яз‹ыков› и словотворчеством за 38 ‹дней› = 18 лет до 1919 г., когда были эксплицированы основы звездного языка, т.е. в 1901 г. (97: 3 об.). В 1908 г., как увидим, начинающий поэт уже располагал некоторой исходной системой словотворческих идей как фундаментом всей своей дальнейшей экспериментальной практики. Исходя из того, что право словотворчества вручает русскому умнечеству, т.е. интеллигенции, сама воля народная (НП, 323), Хлебников рано распространил на свои поиски чистой сущности русского языка (60: 96 об.) общее — позднее выраженное — убеждение в том, что ‹...› вдохновение есть ток от всего ко мне, а творчество есть обратный ток от меня ко всему ‹...› (118: 22 об.; 1921). Этой заинтересованностью во всем, т.е. и в широкой аудитории непредвзятых соотечественников, было продиктовано сильнейшее ограничение, наложенное поэтом на систему своего идиостиля: Я буду думать как бы не существовало других языков кроме русского, — цитированное выше.
Это нежесткое для себя, но последовательное для экспериментов ограничение на греко-латинский корнеслов и на явные заимствования из неславянских и невосточных языков можно рассматривать как одно из основных начал в словотворческой идеологии Хлебникова, которое определило его известное первое отношение к слову, позволившее ему свободно плавить славянские слова (II, 9). По существу он не изменял этому началу до конца своих дней, но значительно обогатил его другими явными и неявными началами. Разобраться в иерархии и эволюции этого и других словотворческих начал Хлебникова — одна из задач настоящего раздела.
Итак, мы отметили I начало54![]()
Отвлечемся на время от хронологии отдельных начал, чтобы подчеркнуть, что сам Хлебников употребляет слова закон, правило, начало (чаще Начало) и даже “западное” слово принцип55![]()
Проблема понимания того, что хотел выразить своим принципом Хлебников, на первый взгляд, связана с интерпретацией слова право. Можно, вообще говоря, подозревать локальную игру на двух значениях этого слова. Тогда идея принципа выглядела бы примерно так: революция (левое без кавычек!) еще не оценила по достоинству необходимости критического отношения к устаревшей (“правой”) поэтике многих из ее певцов; между тем новаторская поэтика несет с собой и содержательные истины (“правоту мысли”), что, однако, не обязательно, поскольку среди ее представителей возможны и реакционеры (“правые”).
Эта заманчивая интерпретация все-таки грешила бы очевидным анахронизмом, рисуя Хлебникова, пожалуй, в излишне мифологизированном образе миловеда, искушенного в эстетических баталиях последующих десятилетий. К тому же она лишала бы Хлебникова тех иллюзий относительно “левого” искусства, которые в 1920 г. были свойственны Маяковскому и ряду других близких Хлебникову людей, выделяла бы его из их среды. Не закрывая пути любым возможным интерпретациям, не хочется принимать связанное с огрублением мысли поэта еще более прямолинейное прочтение тезисов в детерминистском смысле с квантором (все)общности, а слова право в обоих случаях — со значением ‘истинно’.56![]()
При дальнейшем осмыслении “тезисов” будетлянина должно быть принято во внимание и другое его высказывание, относящееся к 1920 г. и существенно подрывающее намеченную выше интерпретацию. Особенность записи, которая имеется в виду, состоит в том, что Хлебников обсуждает в ней, во-первых, совсем иной тезис — идею одинокого сознания, из чего автор заключает, что время — одного измерения (82: 43). Во-вторых, аргументация распространяется со словесного на всякое искусство. В-третьих, сама запись далека от афористической формы и имеет характер беглого наброска, затрудняющий понимание мысли поэта и ее связи с принципом единой левизны. Вот этот набросок:
Как бы то ни было, но принцип единой левизны заслуживает нашего внимания как II начало. С ним явно связаны и еще два высказывания Хлебникова, относящиеся к 1921 г. В черновиках «Трубы Гуль-муллы» есть принципиально важное замечание (1) Слова в узде у мысли (19: 12), а опыты с оривой речью (см. ВГ 1983 — по указателю) и с неологизмами типа тебебен, всегдавли, чаристели, ототы и под. поэт увенчивает призывом (2) Слово, меньшéй, дума, большéй (50: 13). Этот призыв, в свою очередь, очевидно, сопоставим с признанием, обобщающим опыт работы над «Зангези» и тоже сформулированным как некий принцип: Я сказал „стой” крупным времявладениям слов. Я перешел к мелкой колке слов (27: 11). Но характерно, что уже в 1908 г. Хлебников, по-своему оценивая известное явление опрощения как демотивации слова, изложил закон забвения происхождения словесной глыбы и равенства сложной составной словесной глыбы изначальному словесному “наделу” ‹...› (60: 15 об.).
Мы вправе понять позицию Хлебникова как стремление всеми силами сопротивляться опрощению и, наоборот, всячески использовать в своих целях другую общеязыковую закономерность — переразложение, придавая ей при помощи ряда последовательных допущений ведущую роль в собственных опытах словотворчества. В самом деле, из закона забвения поэт легко вывел следствия, в явной или неявной форме изложенные им позднее в статье «Наша основа», но несомненные для него и в том же 1908 г., когда он, еще раз говоря о законе забвения прошлого ‹у› слова, фиксировал для себя задачу семасиологического порядка — о совпадении значений и совпадении объемов (60: 21 об.). Рядом с неологизмом голубонь Хлебников записывает сентенцию: Слова, а мысл‹и› нет (60: 133), — подчеркивая от противного нацеленность своих экспериментов именно на семантику, на план содержания.57![]()
Уже здесь, выводя закон забвения, обдумывая борьбу с опрощением и право на переразложеиие, а все это можно обозначить как III начало, Хлебников сталкивается с проблемой снятия запретов и нарушения норм литературного (обыденного) языка — проблемой более ответственной и сложной, чем система принятых ограничений на корнеслов. Перед ним возникает задача построения своего рода лингвистической мифологии, и, обсуждая первые итоги собственных словотворческих экспериментов, Хлебников находит подлинно афористическую форму еще для одного — IV начала:
Произвол в словотворчестве бессмыслен. Необходимы поиски элемента мнимости в языке (60: 57 об.) — в самом языке, а не вне его и такой мнимости, которая была бы сопоставима с “воображаемой геометрией” Лобачевского и позволила бы построить что-то вроде “воображаемой филологии” (см. ВГ 1982б).
Этот элемент было нетрудно обнаружить. По существу Хлебников с самых первых шагов более или менее интуитивно следовал языковой аналогии, снимая словообразовательные запреты частеречевого характера (Vroon 1983: 69) и свободно переразлагая и “переплавляя” любые образцы слов, избираемые для опытов, так что со временем почти каждое “исконно русское” слово нормированного языка могло для него стать словотворческим прообразом. Поэтому неудивительно, что среди многих сотен неологизмов в тетради 1908 г. обнаруживается и предельно сжатое обозначение V начала — аналогия (60: 91 об.).
IV и V начала заставляют еще раз вспомнить о завете, который цитировался в предыдущем разделе. Слово вымысел для Хлебникова означало нечто близкое к призыву Хоти невозможного и к долинам невозможного. Аналогию поэт представлял, словотворчески преобразовывая, в частности, омут птиц (свиязь → Днестрязь, Днепрязь, милязь, восходязь, пламязь и др.),58![]()
Нет необходимости говорить о том, что понимание Хлебниковым аналогии было весьма широким и далеко отстояло от современных взглядов на механизм и результаты ее действия. Так, согласно концепции, представленной в одной из недавних работ, „аналогия выступает в языке не как фактор регулярности, а, напротив, как фактор, способствующий введению в речь, а потенциально в язык таких образований, которые нарушают структурно-семантическую целостность и определенность той словообразовательной модели, на которую они опираются и наслаиваются”.59![]()
![]()
![]()
Хлебникова, очевидно, не занимали сами по себе категории регулярности и экспрессивности в литературном языке. Аналогию же он рассматривал как инструмент словотворчества. Уже на первых страницах тетради 1908 г. он записывает задачу, которую преследуют его опыты, — восстановление утраченных слов (60: 3 об.), а далее находит для этой задачи “историческое” обоснование, говоря о полноте языка: с его точки зрения, каждый корень изна‹чально› все формы обр‹азовывал› (60: 35 об.). «Смехачи» и возникли как некоторый побочный продукт VI начала — восстановления утраченных слов и полноты языка.
Аналогия была для Хлебникова не только средством достижения определенной экспрессивности, как в нормированном языке, а также специфической экспрессивности художественной речи в рамках собственного идиостиля (ср. заглавия типа «Заклятие смехом» и любой из рядов создаваемых им неологизмов), но и излюбленным инструментом восстановления в ранний период творчества “изначальной” регулярности и полноты языка, способом построения звездного языка и множества “аграмматических” образований (по терминологии Р. Вроона в его работе 1983 г.) — в те же и последующие годы.
VI начало оказалось одним из наиболее важных в “воображаемой филологии”. С ним связано и оригинальное понятие скорнения, зафиксированное поэтом, по-видимому, лишь в 1920 г., когда осмыслялись в системе и почти все другие начала и языки (см. ВГ 1983), но отнесенное прежде всего именно к «Смехачам», где, по словам поэта, берется в отличие от спряжения и склонения по падежам чистый корень, и корень делает все движения, доступные для него (9: 5 об.).62![]()
Идея языководства проходит через все творчество Хлебникова. Естественно, что в статье «Наша основа» он не отказывается от идеи “восстановления”, но дает несколько иную формулировку этого VI начала, говоря о задаче населить ‹...› вымершими или несуществующими словами оскудевшие волны языка. Верим, — добавляет поэт, — они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения (V, 234). Однако принцип аналогии требовал конкретизации, а III и VI начала — определения процедур, с помощью которых осуществляется право словотворчества. Эти конкретные процедуры получили у Хлебникова название позднее. Он обозначил их в «Гроссбухе» как разложение слова (I, 60 = 64: 52). Не случайно в обоих известных перечнях языков (см. еще III, 387) эта номинация приводится поэтом сразу же вслед за таким “языком”, как словотворчество. Хотя оба перечня относятся к последним годам жизни Хлебникова, когда на первый план вышел звездный язык, принцип разложения слова — VII начало — практически использовался в широких масштабах и в опытах 1908 г., так что по существу VII начало должно быть отнесено уже к этому раннему периоду.
Сейчас, когда важнее всего ввести в научный оборот возможно более широкий круг хлебниковских текстов, тезисов и отдельных фрагментов, не лишним будет отметить в связи с VII началом еще одно высказывание поэта, касающееся дискретности/непрерывности. Речь идет о дробном отношении к познаваемому миру (86: 46)63![]()
На первых же страницах тетради 1908 г. появляются неологизмы, построенные на фонемных противопоставлениях начальному согласному образца-прообраза. Так, на основе прилагательного мудрый возникает словосочетание будрое дитя (60: 2). Преобладают, впрочем, “грамматические” и “неграмматические” (по Р. Вроону) неологизмы типа (гордыня →) острыня, высыня (60 : 3), будепись (60: 7), былята и быльняк (60: 8), неборобы и небоделы (60: 14) и т.п. Но постепенно накапливаются случаи, подобные (радуга →) младуга и сладуга (60: 11 и 20), (дощатый →) нощатый (60: 36), (по-божески →) можески (60: 40) и (‹пре›возмогла →) возбогла (60: 39 об.). Заметно, что к некоторым из подобных опытов восходят далеко отстоящие во времени отдельные факты из проповеди Зангези (III, 337–339).
Разложение слова иллюстрируется непосредственными примерами членений: гол.одъ, вол.одъ, гор.одъ (60: 33) — и развивается указанием на красоту смены двух подобнозвучных слов, из коих первое ‹—› название, второе ‹—› образ (т.е. неологизм, 60: 41 об.).64![]()
VIII начало обнаруживает у Хлебникова важнейшую естественно-научную и общенаучную параллель. Через два года, в 1910 г., в органе Русской академической корпорации Петербургского университета65![]()
![]()
Стихи живут по закону Дарвина (ср. V, 270), — много позднее запишет поэт (9: 13 об; ср. 9: 8 об.), размышляя о законах времени как смены событий и о связях событий в природе и обществе. VII и VIII начала непосредственно вели Хлебникова и к идеям звездного языка, прорастающего в словах родного языка, и к гамме будетлянина. В собственно же словотворческом плане закон аналогии находил применение в сотнях непривычных неологизмов, которые прорастали в “нечленимых” основах. При этом не только снимались и частеречевые ограничения, но и нейтрализовалась оппозиция продуктивность/непродуктивность, поскольку для окказионального словообразования „в принципе все средства продуктивны” (Лопатин 1973: 114), а также нарабатывалась, выражаясь современным языком общенаучных представлений, „семантика впрок” (см. Мейен 1978: 47–48).
Хлебников стремился всюду, где только возможно, снимать лексические (морфемные) и мотивационные ограничения на регулярность словотворческих процессов. Естественно, что к его неологизмам неприменимы понятия унирадиксоида и унификса. С позиций литературного языка мы должны, очевидно, говорить о квазиосновах и квазиаффиксах (квазификсах), которые будетлянин использует в более или менее пространных словотворческих рядах, но приставка уни- в любом случае была бы неправомерна, так как даже за некоторым „образованием по конкретному образцу” (Земская 1973: 236),67![]()
В известном споре А.И. Смирницкого с Г.О. Винокуром Хлебников, надо думать, был бы на стороне первого. „Конечно, между корнем и аффиксом есть существенное различие, и соответствующее различие имеется между рядами, определяемыми общностью корня, и рядами, определяемыми общностью аффикса, — мог бы сказать он, хотя и по-своему, вместе с А.И. Смирницким, — но эти различия не имеют принципиального значения для самого членения основ или целых слов. Такое членение само по себе есть вообще деление сложной единицы языка на более простые единицы, в частности — на элементарные значащие звуковые отрезки, т.е. на единицы-морфемы”.68![]()
![]()
![]()
![]()
С VIII началом может быть сопоставлен один из фрагментов недатированной рукописи Хлебникова (в школьной тетради, видимо, самого начала 10-х годов или даже конца 900-х), озаглавленной «Значковый язык». Среди набросков, развивающих идею немого языка, т.е. письменного языка, с помощью которого жалкий означающий72![]()
![]()
Первая и третья строчки в этой записи охватывают отношение симбиоз/метабиоз (по Хлебникову). Вторая и четвертая строчки характеризуют такие признаки хлебниковского “хронотопа”, которые учитываются, казалось бы, лишь для полноты. Тем не менее сразу же можно высказать догадку о том, что четвертая строчка допускает и собственно словотворческую интерпретацию: в неологизмах, непосредственно отвечающих VIII началу, например (если ограничиться материалами 1908 г.), в словах типа волитва, Делес, мирожки, небедь, бух, звучей, чайны, нежчина (60: 56, 66, 88, 96 об., 97 об., 129, 135 об., 136), налицо не просто и не только “смена” одного слова (прообраза) другим (неологизмом) , но и сосуществование их “в одном месте и в одно время”. В таких неологизмах в той или иной мере присутствует семантика образца, ср.: молитва, Велес, пирожки, лебедь, дух, ручей, тайны, мужчина. Смысл неологизма может подкрепляться семантикой образца, как в случае мечтежники ← мятежники, усиливаться ею или избираемыми коннотациями исходного слова (мятежники для Хлебникова — отнюдь не пейоратив; ср. определение в Словаре Ушакова), но может и противостоять ей, антонимически отталкиваться от нее, как в случае мечтожество ← ничтожество (60: 132 об., 133; ср. чтожества — 66: 5)
Вторую строчку обсуждаемой матрицы, по-видимому, тоже удастся интерпретировать в словотворческом смысле, но для этого необходимо обратиться к следующему IX началу, не менее, чем предыдущее, принципиальному для поэта.
Метабиотическое VIII начало подчеркивало смену, преобразование, динамику, активное творческое действие и его эстетическую оценку (“красоту”). Метабиоз как бы не просто противопоставлялся симбиозу, а возвышался над ним, приобретал некий приоритет. Впрочем, “смена” могла рассматриваться и как стихийный, а не сознательно направляемый процесс,74![]()
![]()
Равенство — понятие, разнообразно представленное в текстах Хлебникова, начиная от таких неологизмов, как равнец (II, 293), равночество и равнечество, равнак, равнядь и уравнядь (63: 7), и кончая афоризмом из начал, посвященных законам времени: Научные уравнения ‹=› есть единственная дорога к бытовому уравнению в гражданском общежитии (78: 18; 1922), — или остраненным парадоксом относительно “равноправия равенства и неравенства”: Неравенство: И я! и я! и мне дайте равенство (91: 4, 1921). Хлебникова постоянно волновала мирового равнебна волна (41: 2об.),76![]()
![]()
Соответственно в мире слов при всем их разнообразии, приняв упомянутое выше ограничение на греко-латинский корнеслов, Хлебников стремился обнаружить и использовать выразительные возможности любых разрядов лексики — высокой и сниженной, нормативной и окказиональной, литературной и диалектной, неологической и архаичной, славянской и восточной. Это нашло отражение и в тех общих задачах, которые он в явной форме ставил перед собой:
В его глазах слова, как бабочки, машут равенства крылами (там же), а в черновиках этому отвечают другие образы: слов жениховство, горелки слов и песен прятки (64: 100 об.). Мало того, даже
Обращаясь к лексике текстов Хлебникова в целом (см. ВГ 1983), легко признать, что укр. чи, легини и дорози для него в некотором смысле равноправны с тюрк. саул или чох, а слова ночь или заря — со словами Всеучбище (слово университет, однако если не запрещено: ср. Идеальный пролетарский университет — 125: 37, то все же менее желательно как западное),78![]()
После сказанного, возвращаясь к второй строчке оставленной на время матрицы, мы понимаем, что признак быть в разных местах и в разное время не является препятствием для осуществления принципа равенства слов и деятельности Преломляющего Я. Наоборот, этот признак вполне отвечает как принципу полноты (см. VI начало), так и ряду нижеследующих начал.
В первую очередь в этой связи следует назвать Х начало, которое отлито Хлебниковым в чеканной форме афоризма, имеющего, как было показано раньше (ВГ 1979: 142), общелингвистическое значение: Слово — пяльцы, слово — лен, слово — ткань (60: 40 об ). В качестве иллюстраций (или в развитие) принципа поэт рассматривает двухконсонантные конструкции (“пяльцы”, или “станки”) б-р и м-л, из которых возникает “ткань” вроде (б)е(р), (б)о(р), (м)о(л), (м)е(л) и (м)-(л)и (там же; кавычки Хлебникова). К этим рядам совсем не сводится смысл формулы X начала, но сейчас важно подчеркнуть, во-первых, известное равенство всех двухконсонантных слов или основ (см. IX начало) и, во-вторых, связь X начала с XI началом, которое сам поэт назвал учением о наималах языка, или нахождением простов языка (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 25, л. 1 и 1 об.), а в нашем перечне можно обозначить как поиск наималов.
Уже упоминавшийся выше словарь частиц отражает ранний этап такого поиска — этап предлогов-приставок. Согласно статье «Учитель и ученик» (1912) простейшие слова сохранились в предлогах (V, 172), в другой статье Хлебников пишет, что предлоги ко, до, во, по, со суть имена движений (НП, 331), в одном из стихотворений этого же периода есть неологизм начери (род. п.), по-видимому, восходящий к форме дочери (II, 95) и в таком случае сталкивающий предлоги до и на. «Словарь частиц» включает, как легко заметить, некоторые из будущих элементов звездного языка: му ‘малый’, ба, пра, па ‘якобы’, го, су, же (же-сть, же-ле-зо), бо ‘причина’, бы, ко, бу, про, пре, при, че ‘оболочка’, пру, пры, во, то ‘следствие’, ту, ку, до, со, но, по, не, на, от, из, вы, шу, жа, ше, ла, ле, лю и т.п. Иллюстрациями служат опыты вроде мулюди ‘карлики’, муум, гоум, воум, праум (ср. «Зангези»), сольза ‘выгоды общения’, нельза ‘запрет, невозможность’, тольза (ср. V, 60), куземцы, куумцы, изец (ср. отец), боюз, тоюз (ср. союз), выщек ‘скула’, сулоб ‘нависающая часть лба’, проус ‘впадина между усами’ и т.п. (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 26, 23; РО ИМЛИ, ф. 139, оп. 1, ед. хр. 20, л. 1 об.).79![]()
Характерен “фонологический” вывод, сделанный Хлебниковым в итоге сопоставления слов колоть и молоть: Ясно, что разница значения должна быть приписана различию К и М (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 23, фрагмент 9). Вывод, который непосредственно подводил к идее “фонем-морфем” в звездном языке, быстро показавшей в глазах поэта свое преимущество перед идеей предлогов-приставок и частиц.
Примерно в это же время, в самом начале 10-х годов (до 1913 г.), у Хлебникова обнаруживается попытка приписать некоторые значения двухконсонантным начальным сочетаниям: кр ‘быть острым’: край, гл ‘лишенный обычного’: глаз ‘без кожи’, голый, голод ‘без пищи’ (63: 9 об., 11 об.),80 ![]()
![]()
Последующие начала связаны прежде всего со звездным языком разных редакций и разными этапами углубления в его структуру.
Так, XII начало провозглашает особую роль в слове начального консонанта. Не только в статье «Наша основа» (1919), но уже в статье «Учитель и ученик» (1912) утверждается мысль о том, что первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным, а слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием ‹...›, так что в языке каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя (V, 235–236).82![]()
Вслед за этим или почти одновременно делается новое допущение. Теперь уже не только начальная согласная слова, а каждая из согласных корня в некоторых контекстах анализируется по азбуке ума. Имя Пушкин на этом этапе рассматривается как символ отрицания войны (“пушек”), так как Эн в звездном языке имеет значение отрицания. Хотя отличие от XII начала может показаться не таким уж принципиальным, но по сравнению с общей идеей 1912 г. текст «Царапины по небу» дает много существенно нового в разложении слова, почему имеет смысл отметить соответствующий переход к особо мелкой колке слов на консонанты независимо от их позиций как XIII начало (см. еще ВГ 1976, 1982в, 1983).
Еще на этапе предлогов-приставок Хлебников совершенно в духе будущего XIII начала рассматривал такие слова, как дед, дело, дети, деять и дева, в качестве сложных слов (РО ГПБ, ф. 1087, ед. хр. 23, фрагмент 7). На новом этапе по смыслу XIII начала каждая неодноконсонантная словоформа потенциально напрягается как сложение, композит из “звездных” корней.83![]()
XIV начало связано с предельным разложением слова и вместе с тем предполагает, что осуществляемый поэтом анализ адекватен некогда имевшему место процессу словообразования — сложения самых обычных словоформ обыденного языка из единиц звездного языка (пан — пар — пал и т.п.).84![]()
Во-первых, внимательное чтение плоскости мысли IX в «Зангези» обнаруживает определенный синтез этапа предлогов-приставок и этапа фонем-морфем. Производя смотр всех родов разума (III, 334 и след.), Хлебников-Зангези предлагает слушателям-читателям перечень слов со второй частью -ум. В качестве первых компонентов здесь на равных правах выступают морфемы обыденного языка — предлоги-приставки и другие элементы словаря частиц: вы-, но-, о-, из-, да-, ну-, бы-, пра-, во- и др. — и “единицы азбуки”: го-, ла-, вэ-, хо-, зо- и т.д. Так, ноум ‘спорящий ум, говорящий первому „но”’, стоит в одном ряду с зоум ‘отраженный ум’ и вэум ‘ум ученичества и верного подданства, набожного духа’. В соум ‘разум-сотрудник’ значения префикса и воина азбуки совпадают, сливаются. Это промежуточное XV начало отметим как сочетание, объединение словаря частиц и азбуки ума.
Во-вторых, среди тех же неологизмов один обращает на себя особое внимание. Это глаум ‘ум, который с вершины сходит в толпы ко всем. Он расскажет полям, что видно с горы’ (II, 336).85![]()
![]()
Другой известный, но сомнительный случай реализации этого начала — слово виель (см. ВГ 1983 — по указателю). В нем можно подозревать не обычное для поэта производное от свирель (ср. хотель, зовель и др.), не структуру типа ви(ться) + ель, а объединение Вэ и Эль как “единиц азбуки”. Но только подозревать, потому что безусловных доказательств такого синтеза нет.
Глаум любопытен и в сопоставлении с некоторыми наималами из XI начала. Не кажется простой случайностью, что в начале 10-х годов Хлебников уже анализировал смысл сочетания гл (как ‘лишенный обычного’) и начального г (как ‘подневольное паденье’), отступив перед не удовлетворившими его результатами. Теперь, оставляя в стороне эмпирию слов голь, гиль, глаз и голод, поэт находит средство словотворчества, уже независимое от массы слов, не укладывающихся в систему азбуки ума. Как писал О.М. Брик (1978: 231), Хлебников создавал „смысловые созвездия слов” (на М, В, С, К и т.д.), но при этом ему были безразличны слова, которые не входят в созвездие (для К Брик упоминает, например, кисель, курица, колбаса).87![]()
Утвердившись в системе наималов, Хлебников оказался перед необходимостью по-новому осмыслить VI начало. «Смехачи» уже были известным преобразованием классического понятия “словообразовательное гнездо”, направленным на восстановление утраченных слов. Но “корень” в соответствующем понятии “скорнение1” оставался нормальным корнем обыденного языка и лишь вхождение «Смехачей» в область поэтического языка превращало нормативное словообразовательное гнездо в гнездо словотворческое. В 1920 г. поэт писал в связи со скорнением1 о точке отсчета от письм‹енной› револ‹юции› Смехунчиков (так! 9: 5 об.). Как ни существенно было для Хлебникова скорнение1 и стоящее за ним действительно революционное понятие словотворческого гнезда, но мысленное возвращение к VI началу и к 1908 г. с позиций звездного языка и послеоктябрьской действительности наглядно показывало поэту, как один пласт жизни сменяется другим. В громадных полях будущего, которые предстоит пройти искусству, будетлянин убежденно видел и отдаленную гибель язык‹ов› через скорнение (9: 8 об.), т.е. торжество своей идеи заумного (= звездного) языка — грядущего мирового языка в зародыше. Хлебников-интернационалист верил, что только такой язык может соединить людей, поскольку национальные умные языки уже разъединяют (V, 236).
По существу в процессе разработки звездного языка подвергалось преобразованию и понятие “скорнение1”. Ведь и вновь найденные “корни” должны были в духе VI начала “все формы образовывать” и “делать все движения”, между тем практика разложения слова показала, что эти “формы” обнаруживаются уже в реальном множестве словоформ обыденного языка. Словотворческие гнёзда оказывались для звездного языка если не избыточными (ср. глаум), то дополнительными по отношению к некоторым принципиально иным гнездам слов, объединяемым единицами азбуки ума.
Так возникает в той же рукописи переосмысление только что введенного понятия “скорнение1”, отнесенного к «Смехачам». Термин-неологизм сохраняется, но смысл его далеко отстоит от первоначального: “скорнение2” разъясняется как принципиально иное XVII начало, как лучи согласн‹ых›, соеди‹няющие› все слова (9: 8 об.).88![]()
Казалось бы, “скорнение2” подводит итог словотворческим началам. Ясно, что XVII начало объединяет в особые, так сказать, паронимические гнезда и реальные, и потенциальные слова обыденного языка, и любые мыслимые неологизмы. Благодаря консонантным связям между словами сближается в той или иной мере их семантика. Консонантные противопоставления так или иначе вносят диссонансы, раззвучия (см. ВГ 1983) в обнаруженную поэтом гармонию мира слов. Вся лексика “поэтического языка” — русского языка во всех его социальных стратах, функциональных разновидностях, исторических закономерностях и деталях, в выразительных потенциях и т.д. — предстает как напряженное консонантами безграничное, но единое “гнездо”, отражающее единство внутри- и внеязыкового мира. Хлебников в самом деле „приводил слова в родство с чужими словами” (Тынянов 1929: 560).
Однако “итог” XVII начала более чем относителен. Дело не только в том, что, несмотря на значительные усилия, Хлебникову так и не удалось решить проблему скорнения гласных (V, 237), вывести из идеи внутреннего склонения слов (V, 171) семантические парадигмы в “чередованиях” бог — бег, лес — лыс, бык — бок, бобр — бабр, вол — вал, вес — высь, еду — иду, сой ро‘д’ — сый ‘особь’, бо — бы, пых — пешка, мышь — мешкать, ведро — выдра, время — вера, бремя — беру, серый — сырой (ср. еще НП, 328–329). Набросок 1913 г.: и соединяет, а против, о увеличивает рост, е упадок, упадать, у покорность (V, 189) — ни в какой мере не удовлетворил поэта, поиски семантики у гласных фонем-морфем продолжались,89![]()
![]()
Вводить в наш перечень особое начало, связанное со скорнением гласных как неосуществленной задачей, едва ли необходимо. Идея “скорнения2” как XVII начало охватывает и эту задачу.
Гораздо важнее обратить внимание на то, что своеобразие оппозитивного метода мышления Хлебникова проявилось в его особом подходе к установленному единству внутриязыкового мира как всеобъемлющему гнезду слов, скрепленному “скорнением2” — скорнением согласных. Для внеязыкового мира такие важные в мировоззрении Хлебникова категории, как национальное и интернациональное, Восток и Запад, метабиоз и симбиоз, время и пространство, мера и вера (ср. также понятие и образ, непрерывность и дискретность, изобретатели и приобретатели, заумцы и доумцы, правда и вымысел, горе и смех, Ньютон и Кеплер как имена, олицетворяющие разные направления в истории науки, и др.), четко осознаются им в заостренно диалектическом плане. Об этом уже приходилось писать (см. ВГ 1983).91![]()
Здесь необходимо более подробно остановиться на диалектике самого “скорнения2”. Единство всеобъемлющего (“консонантного”) гнезда, как сказано, обладает и гармонией, и определенными диссонансами. Это — единство противоположностей. Раздел «Царапины по небу» Хлебников озаглавливает «Паны и холопы в азбуке»: холоп здесь сопоставляется с холей пана, а не только “нейтрально” членится на Хл + П; пан в соответствии с социальной семантикой слова определяется как уход Пэ, т.е. исчезнование (Ни) двигающего начала и силы, иначе: у пана нет пара и т.д.
Среди черновых записей к «Зангези» сохранилась запись о поединке слов (65: 2). На первый взгляд, ее надо отнести к плоскости X, где Эм ворвалось в‹о› владения Бэ (III, 338) и где на фоне основы бог- выступает множество неологизмов из области сильного слова могу (III, 337). “Поединок” соответствующих основ и слов, при такой интерпретации, — это развитие и реализация давно выдвинутого поэтом принципа словотворчества. Объединение морфем в неологизме (по-видимому, независимо от их корневой или аффиксальной природы) поэт уже в 1908 г. рассматривал как сопряж‹ение› в борьбе (60: 6). Помету же сопряжение корней получает ранний текст, озаглавленный «Времири смеющиеся» (II, 302; с опечаткой), где используется не основосложение, а исключительно аффиксация (как и в «Смехачах»).
Между тем лист, следующий за листом с записью о поединке слов, заполнен беспрецедентными экспериментами со сложными словами — неологизмами особого рода, в которых, можно думать, испытываются оппозиции слово/словосочетание, звездный язык/внутреннее склонение слов, сложение/сращение, аббревиация/основосложение, соположение/контраст. Материала для прояснения задачи, которую преследовал этими опытами Хлебников, недостаточно (см. Введение). Оставляя сводку и посильную интерпретацию материала до следующего раздела, заметим только, что слова здесь действительно порой вступают в поединки: слову ворвер явно противостоят мормер, спорвер, верлад и вермор, — но и внутри некоторых из этих и других неологизмов слова-основы контрастны в том или ином отношении. И все же — лишь порой. В одном случае к слову стыкзори Хлебников дает неразвернутый комментарий: твердое и нежн‹ое› (65: 3), однако большинство образований с тем же компонентом -зори как будто лишено контрастов такого рода: тенезори (V, 86), ночезори (IV, 309), сонзори (65: 3), негзори (58: 3 об.), морезори (41: 2 ), „Времязори” (66: 5; ср. булыгзори — 66: 6 об.). Последовательности в проведении поединка (или контрастности), безусловной логики в реализации оппозиций уловить не удается.
Таким образом, с уверенностью интерпретировать поединок слов, связывать это высказывание поэта с четко очерченным кругом неологических фактов пока преждевременно.93![]()
Примеров реализации этого начала можно было бы привести немало. Подавляющее большинство поздних так называемых релятивных неологизмов Хлебникова построены именно таким способом. Корни эт- и тот-, например, соотнесены в ряде образований, рассмотренных вслед за Р. Врооном в работе ВГ 1981. Но по существу XVIII начало действовало как одно из основных с самых первых словотворческих шагов будетлянина. Глухонемые пласты языка, языковое молчание — так называет Хлебников почву, на которой работает словотворец, подобно взрывнику преодолевая это молчание (V, 229). Творяне ‘творцы жизни’ именно так “молчали”, подавляемые словом дворяне вплоть до поэмы «Ладомир». Не обязательно, чтобы отношения между “противниками” были антагонистическими. Слово противник здесь, очевидно, следует понимать и в прямом, и в переносном или расширительном смысле. Радуга не смогла, а пожалуй, и не собиралась заставить “замолчать” ни младугу, ни сладугу; за словом снегирь не так уж подавленно “молчали” видирь, времири, горирь, жарири, зорирь, инири, лелирь, любири, негири, песнири, смерт‹н›ири, сонири... А в 1908 г. зеленичка (60: 74) получила голос не столько вопреки, сколько благодаря словам синичка или весничка (ср. пеночка-весничка) и зеленушка как единицам орнитологической номенклатуры.
Как видим, хлебниковская диалектика далеко не ригористична. В «Письме двум японцам» (1916) Хлебников как бы сам примиряет, хотя и не нейтрализует собственную давнюю оппозицию, заостряемую XVIII началом: Ведь если есть понятие отечества, то есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих (V, 155). И все-таки принцип взрыва в самом деле противостоит “принципу молчания”, активно или пассивно исповедуемому противниками словотворчества, узкими нормативистами, отийцами (III, 282) экспериментов, владыками как оппонентами младык-будетлян. Рассматривая XVIII начало в аспекте современной действительности, мы вправе связать его как принцип стилистики словотворчества, за которым стоят метод познания и стиль мышления, с активной жизненной позицией прогрессивных художников иных стилистических устремлений, но столь же смело нарушающих различные “зоны тишины”, и, подобно уругвайскому писателю-борцу Марио Бенедетти, убежденных в том, что „будущее принадлежит Слову, а не молчанию”.94![]()
“Скорнение2” в отличие от “скорнения1” не провозглашало принцип словотворчества как способ построения новой парадигмы (ср. склонение и спряжение), т.е. словотворческого гнезда, а констатировало результат семантизации согласных фонем (без противопоставления твердых и мягких), превращения их в особого рода морфемы. Если термин скорнение1 представляет собою имя действия по гипотетическому глаголу *скорнять (ср. склонять и спрягать), то термин скорнение2 мы должны прежде всего рассматривать как имя состояния, терминатив, антидуратив, поскольку процесс обнаружения лучей согласных, соединяющих все слова, оказывается метаязыковой процедурой, а сами эти квазиморфемные лучи признаются в “воображаемой филологии” некоторой изначальной характеристикой русского языка (и допускается, что языка вообще). Это обстоятельство делает термины скорнение1 и скорнение2 полноправными омонимами. По сути дела, неологизм скорнение и появляется сразу в двух омонимичных значениях, относимых к разным предметным областям, к разным этапам “воображаемой филологии”, так что едва ли правильнее здесь было бы говорить о “переносе” значения или “многозначности” термина.95![]()
Идея скорнения этим, однако, не исчерпывается. Здание “воображаемой филологии” не было достроено и в том смысле, что, размышляя в 1920 г. о своих неологизмах класса смехачей как о скорнении1, а о фонемах-морфемах как о скорнении2, Хлебников оставил без особого обозначения свои ранние и более поздние опыты класса, который неоднократно упоминался выше и который объединяет некоторые из аграмматических (в отличие от грамматических и неграмматических) неологизмов, по терминологии Р. Вроона в его книге о словотворчестве Хлебникова.96![]()
У большинства этих слов, как и у приведенных ранее неологизмов будрое, младуга, нощатый, можески, возбогла, времыши, волитва, Делес, мирожки, небедь, бух, звучей, чайны, нежчины, обращают на себя внимание особенности семантики. B крайних случаях их образует условное “перемножение” смыслов. Так, в слове петер материально представлен один корень (петь), но его значение “умножено” на значение прообраза ‘ветер’. Слово поец не контаминирует звуки и смыслы слов поэт и певец, как полагал Н.Л. Степанов (III, 374: поэт + певец), а включает в себя непереносный смысл слова боец, осложняет его значением основы пой- и рождается как словотворческая метафора (см. Лопатин 1975 и Александрова 1980). Слово железавут (← елавут ‘булава’, по Н.И. Харджиеву) для Хлебникова — “простое” метафорическое олицетворение войны 1914 г., но Маяковский вправе был увидеть, а точнее — услышать в нем и „какофонию войны” — „лязг железа”, и чей-то „зов”, и основу лез- (см. Харджиев и Тренин 1970: 97 и 318); ср. равнебен. Нравительство — это ‘правительство, которое хотело бы опереться только на то, что оно нравится’ (V, 232–233). Нравда — это что-то вроде ‘приятной правды’ или ‘нравной правды’, звучей — ‘звенящий, или звучащий, ручей’, чайны — ‘тайны, которых чают’, нежчины — ‘мужчины, которым присуща нежность’, хорон — ‘ворон, вещающий о похоронах’, мремена — ‘времена мора (или мрака)’, как мророки (по Хлебникову) — ‘каркающие черное писатели’, будеса — ‘чудеса (или/и небеса?) будущего’ и т.д.
Примечательно, что на строгости этих семантических интерпретаций настаивать невозможно. Это, очевидно, следствие того, что словотворчество Хлебникова тесно связано и переплетено с его искусством приводить и обычные слова в метафорическое (шире — тропеическое) состояние.97![]()
Поэтому было бы недостаточно рассматривать их только с позиций VIII начала — метабиотической “смены” и т.д. Семантика таких неологизмов заставляет попробовать применить к ним особый принцип, выдвинутый Хлебниковым, — двусмыслие как начало двупротяжения слова (63: 15), который, однако, не будем спешить включать в наш перечень в качестве еще одного — XIX начала. Дело в том, что этот принцип, как ни соблазнительно связать его с обсуждаемыми неологизмами, возможно, относится к ранним хлебниковским опытам с перевертнями. На такое понимание, в частности, наводит тот факт, что словам о двусмыслии предшествует замечание: два смысла — плоскость (63: 14 об.), а ведь близкое, но более позднее обозначение: язык двух измерений‹,› двоякоумный — следует в «Гроссбухе» за набросками перевертня «Разин» (64: 73).98![]()
С другой стороны, однако, полного совпадения в обозначениях здесь нет (двусмыслие, двупротяжение, два смысла — и два измерения, двоякоумный). К тому же перевертень в другом месте характеризуется как заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь (I, 318). Существенно также, что явно иная группа фактов, не имеющих отношения к словотворчеству (III, 211), получает у Хлебникова такие номинации, как двуумный слог (64: 62 об.) и речь дважды разумная, двоякоумная = двуумная (72: 1).
Очевидно, что слова двусмыслие, два и дважды, компоненты дву- и двояко- в перечисленных номинациях как бы сами приобретают многозначность. Двусмыслие как начало двупротяжения слова если и следует все же отнести к искомому XIX началу, то с оговорками. Ограничить XIX начало недостаточно надежной формулировкой было бы неосмотрительно и опасно.
Из этого положения можно найти такой выход. Обозначим способ, которым создаются слова типа нравда, тем же термином скорнение, принадлежащим самому Хлебникову, но с индексом “три”. “Скорнение3” фактически и имел в виду поэт, выдвигая свое VIII начало, но там был заострен фактор смены одного слова другим. “Скорнение3” подчеркивает иное — особое объединение смыслов корней в одном слове: смыслов “названия” и “образа”, т.е. прообраза и неологизма. Тем самым реконструкция XIX начала и завершается формулой “скорнение3”, которая, подчеркнем, принадлежит не поэту, а лишь интерпретатору.
Скорнение3 — это, как и скорнение1, имя действия, но гипотетическому глаголу *скорнять здесь приписывается принципиально иное значение: ‘объединять корни двух разных слов в одном слове особым способом’, а не ‘подвергать корень воздействию разных аффиксов’, не ‘склонять и спрягать его по аффиксам’, а ‘изменять по корням’. “Скорнение3” — это “корнеизменение”, “корнеумножение”, “нелинейное словосложение”, дающее на выходе “двумерные” неологизмы.
Наше обозрение словотворческих принципов поэта будет неполным, если не отметить четко изложенное самим Хлебниковым еще одно — XX начало. Оно гласит: Новое слово не только должно быть названо, но и быть направлено к называемой вещи (V, 233–234). С ним связано убеждение, что слова были подобием мира (125: 25 об.), и желание иметь слова с самоочевидным значением (125: 35 об.), искать углы миров, вонзенные в слова, / Куски пространства с новым именем (41: 6) и даже узнавать углы событий / В мгновенной пене слов (III, 211), поскольку в речениях есть опись хода дел (125: 20 об.).99![]()
Понятно, что XX начало здесь может быть лишь кратко прокомментировано: оно требует подробного исследования всей хлебниковской тропики, образной системы, поэтической семантики. Этому началу соответствуют в той или иной мере тексты на звездном языке. Вне словотворческого плана его поддерживают несколько опытов интерпретации — таких, как анализ тройки Гоголя (72: 1; см. ВГ 1983) или словесной информации о победе Буденного над Мамонтовым и Шкуро (III, 211; 64: 62 об.), а также размышления о тайных словах (I, 60) и о словах как живых глазах для тайны, когда через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл ‹...› (V, 269). Вместе с тем не будет произвольным предположение, что уже самые ранние опыты словотворчества по VIII/XIX началам и особенно такие, как будьба или будеса, а также многие замены “западных” слов типа взорваль вместо бомба и т.п. отвечали, в глазах поэта, принципу направления к называемой вещи. Если это предположение справедливо, XX начало распространяется на весь творческий путь Хлебникова, хотя изложено было оно лишь в 1919 г. Связанные же с XX началом идеи послужили основой некоторых текстов, проливающих свет на другие особенности хлебниковской эстетики и поэтики, связанные или не связанные со словотворчеством.
Выше было отмечено, что хлебниковские обозначения двуумный слог и речь дважды разумная, двоякоумная = двуумная имеют в виду факты, далекие от словотворчества. Один из относящихся сюда отрывков гласит: Когда будила заря, / Стая ворон кружилась над шкурой мамонта. / 5 сент‹ября› 1919 ‹года› Буденный разбил Мамонтов‹а› и Шкуро (64: 62 об.). Здесь нет неологизмов — сопоставляются: будила — Буденный — сбудется — разбудится, вороны — Воронеж100![]()
В другом отрывке тайный смысл знаменитой тройки Гоголя Хлебников связывает стройкой дней, которая катила Россию к Мукдену, т.е. со своей идеей, касающейся бяки-числа 3n как соединяющего противособытия (в данном случае Искер и Мукден — Ермака и Куропаткина). Это, по мысли поэта, уже было открыто сердцу Гоголя и звучало в образе его тройки художественным шорохом слов так сильно, однако не было еще ясно разуму (72: 1). Такие сельские окошки на бревнах человеческой речи, — добавляет Хлебников, — бывают нередко. Слово нередко имеет у него в этом контексте свою историю. В 1912 г. будетлянин выражался категорично, заявляя, что язык мудр потому, что сам был частью природы (V, 172). В 1919-м он повторил это утверждение с известной модальностью: По-видимому, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его (V, 231). Теперь, в 1922 г., вводится и приблизительная количественная мера — нередко.
Однако мера — мерой, но здесь, конечно, не только сравнительному языкознанию есть отчего прийти в ярость (V, 189), но и современному литературоведению (ср. в этой связи критику хлебниковской “мистики”: Гофман 1936). Между тем и “мистика” поэта художественно конструктивна как одно из проявлений его лингвистической и нелингвистической мифологии. По существу “воображаемая филология” Хлебникова опирается на одну из самых древних традиций. Просто она очень уж непривычна, а “мистику” повседневных тропов мы давно уже не замечаем: разнообразные олицетворения и смелые метафоры, любые метаморфозы типа „Обернется парусом бумага, / Укрепится мачтою перо...” (Багрицкий, Возвращение) и т.д. — такая же мистика по своим истокам и буквальному восприятию. Хлебников не “играл”, не “актерствовал”, а в самом деле был глубоко убежден в истинности законов времени, азбуки ума, обнаруженных им связей между числовыми соотношениями на большом небе (т.е. в астрономии) и на других небесах, куда он вторгался, — в химии, фонетике, музыке, истории. Мы вправе полностью отвергать хлебниковские историософию и “историю языка” как научно несостоятельные (как “теории”, которые все же сначала надо изучить), но обязаны считаться с его поэтическим убеждением: ‹...› то, что позже сбудется, / Им прошлое разбудится (III, 211). Это убеждение — результат давних размышлений будетлянина. Еще в 1912 г. он писал, что думает о действии будущего на прошлое (V, 174).
Не исключено, что поэт решительно возражал бы против публикации его набросков о гоголевской тройке, оставшихся в рукописи, недостаточно отработанной автором и уже поэтому способной вызвать кривотолки. Сознавая это, все же следует вводить в научный оборот и эти наброски как функциональные конструкции недостроенного и не до конца понятого нами здания, как существенные детали целостной архитектоники реконструируемого замысла. Ведь поэт обнаружил — во всяком случае с помощью двуумного слога — новое и впечатляющее образное средство, о котором писал в присущей ему полемической манере так (III, 211):
Примеры реализации этого средства, проявления этого приема, который можно было бы назвать “будетлянизмом”, читатель найдет в других работах автора (ВГ 1982б, 1983) и ниже — в разделе об эстетике словотворчества, где о связке дворяне — творяне будет сказано подробнее. Поскольку же творяне — несомненный неологизм, возникает прямая необходимость учесть среди словотворческих начал и двуумный слог как семантическую основу или поддержку некоторых новообразований Хлебникова.
Итак, XXI начало — двуумный слог — завершает наш обзор принципов словотворчества, которыми руководствовался поэт. В ряде случаев формулировки начал имеют область приложения, значительно более широкую, чем собственно создание новых слов, затрагивая общие проблемы истории языка, процессы опрощения и переразложения, рациональное и иррациональное в языке, вопросы языковой мифологии и диалектики языка, проблему звук и смысл, общий статус слова как языковой единицы, единство анализа и синтеза как творческих процедур, общие проблемы номинации, семантики и эстетики слова и т.д. Вместе с тем при более дробном отношении к миру хлебниковского словотворчества правомерным было бы разбиение отдельных начал на два-три самостоятельных начала, равно как “аэрофотосъемочный” подход позволил бы свести перечень, скажем, к 10 “метаначалам” и т.д.
Однако, по-видимому, сам Хлебников своей рефлексией по поводу словотворчества предлагает более или менее оптимальную меру сочетания логического и исторического в их единстве при оценке эволюции собственной эмпирии, а также рассчитанных экспериментов, оправдываемых в его глазах рационально или “заумно” (в противопоставлении “доумному”, а не в бытовом смысле “зауми”). Поэтому попытки “разбиения” или “укрупнения” начал можно оставить на будущее, если общая лингвистическая теория даст для пересмотра новые ориентиры. Возможно, конечно, что и в рамках хлебниковианы обнаружатся не учтенные выше стимулы к более адекватному описанию существа и эволюции словотворческих идей поэта.
Предваряя общее заключение об эволюции словотворческих начал и роли словотворчества у раннего и позднего Хлебникова, полезно представить эти начала в виде сводного перечня. В соответствии с принятыми выше формулировками и нумерацией перечень включает 21 начало:
I. Ограничение на заимствования и право словотворчества.
II. Принцип единой левизны.
III. Закон забвения прошлого у слова. Сопротивление опрощению, право на переразложение.
IV. Организму вымысла нужна среда правды.
V. Аналогия. Хоти невозможного. Тяга в неизвестное.
VI. Восстановление утраченных слов и Полнота языка. Скорнение1.
VII. Разложение слова.
VIII. Смена двух подобнозвучных слов. Метабиоз.
IX. Равенство слов перед Преломляющим Я.
X. Слово — пяльцы, слово — лен, слово — ткань.
XI. Поиск наималов.
XII. Начальный согласный в слове — фонема-морфема.
XIII. Каждый согласный в слове — фонема-морфема.
XIV. Единицесложение. Анализ.
XV. Соединение словаря частиц и азбуки ума.
XVI. Единицесложение. Синтез.
XVII. Лучи согласных соединяют все слова. Скорнение2.
XVIII. Каждое слово опирается на молчание своего противника.
XIX. Два смысла — плоскость. Скорнение3.
XX. Новое слово должно быть направлено к называемой вещи.
XXI. Двуумный слог. Углубление прообраза в завтра.
Несомненно полезно также (а для нашей темы — необходимо) представить словотворческие начала в строгой временнóй последовательности их появления в поэтическом мире (точнее — в отдельных рукописях) Хлебникова. С оговоркой о возможных ошибках в хронологий из-за текстологических сложностей наш перечень примет тогда примерно такой вид:101![]()
1. Ограничение на заимствования и право словотворчества (до 1908 г.).
2. Восстановление утраченных слов (1908). Ср. 20.
3. Сопряжение в борьбе (1908). Ср. 25 и 26.
4. Закон забвения прошлого у слова. Переразложение против опрощения (1908). Ср. 18 и 19.
5. Полнота языка (1908).
6. Слово — пяльцы, слово — лен, слово — ткань (1908).
7. Красота смены двух подобнозвучных слов ‹...› (1908) Ср. 11 и 20.
8. Аналогия (1908).
9. Слова, а мысли нет (1908). Ср. 28 и 29.
10. Организму вымысла нужна среда правды (1908).
11. Метабиоз (1910). Ср. 7.
12. Равенство слов перед Преломляющим Я (нач. 10-х гг.)
13. Два смысла — плоскость (нач. 10-х гг.).
14. Поиск наималов (1912). Ср. 18.
15. Словарь частиц (1912). Ср. 24.
16. Начальный согласный приказывает остальным (1912).
17. Каждый согласный в слове — фонема-морфема (1912).
18. Единицесложение. Анализ (1912). Ср. 4, 14 и 23.
19. Разложение слова (1913). Ср. 4.
20. “Скорнение1,2,3” (1920). Ср. 2, 7, 11 и 23.
21. Новое слово должно быть направлено к называемой вещи (1920 по пятитомнику; на самом деле — 1919).
22. Принцип единой левизны (1921). Творчество должно быть левым и по мысли, и по слову.
23. Единицесложение. Синтез (1921). Ср. 18.
24. Соединение словаря частиц и азбуки ума (1921). Ср.15.
25. Поединок слов (1921). Ср. 3.
26. Каждое слово опирается на молчание своего противника (1921). Ср. 3.
27. Двуумный слог. Углубление прообраза в завтра (1921).
28. Слово, меньшéй, дума, большéй (1921). Ср. 9.
29. Слова в узде у мысли (1921).
При некоторых из начал сделаны отсылки к другим началам по признаку близости выражаемых в них идей. Понятно, что таких связей между началами может быть указано значительно больше, в частности, на отсылки явно напрашиваются многие из соседствующих начал. Но и в таком виде нашего перечня перед читателем впервые предстает система словотворческой идеологии поэта в ее удивительной цельности, последовательности и внутреннем единстве.
Оба представления богатства словотворческих принципов Хлебникова, имея свои достоинства и недостатки, дополняют друг друга. Поступаясь анализом понятий-образов поэта, мы теряем в осмыслении ряда существенных для него обобщающих идей, в частности, идеи скорнения. Сосредоточиваясь на анализе существа концептов, мы отчасти затушевываем наглядную последовательность их вхождения в общую систему “воображаемой филологии”. И т.д. Вместе взятые, эти представления позволяют критически оценить распространенные взгляды на эволюцию хлебниковского творчества и, особенно, словотворчества.
Почему-то принято, так сказать, почти извиняться за словотворчество Хлебникова, выделяя ранний период как „экспериментально-словотворческий” (Н. Харджиев и Т. Гриц; НП, 8) или „идеалистический” (Перцов 1966: 67), от которого „словотворец-будетлянин” ушел к „романтическому интернационализму” (там же), или „утопически-словотворческий” (там же, с. 59), будто бы преодоленный при вступлении в новый период — „революционно-романтический” (там же).
Эти авторы не перечеркивают словотворчество Хлебникова, поскольку отчетливо понимают, что „Хлебников немыслим без словотворчества” (там же). Однако не опротестован и вывод о том, что, например, с выходом «Неизданных произведений» поэта в 1940 г. не только опровергнуто распространенное мнение о неизменности поэтической системы Хлебникова, но и якобы показано, что так называемый словотворческий период относится лишь к 1908–1909 гг. (Вольпе 1941: 26). С другой стороны, именно эволюция словотворческих принципов почти полностью скрыта от читателей в новейшей монографии Р. Вроона.
Наш материал показывает, во-первых, что Хлебников немыслим без словотворчества на протяжении всех лет своей активной деятельности. Даже тогда, когда поэт почти полностью сосредоточился на осадах времени и числа, т.е. во второй половине 1920-го — первых месяцах 1921 г.,102![]()
Эволюционное представление начал показывает, во-вторых, что словотворческая рефлексия Хлебникова прошла, условно говоря, три этапа. Первый охватывает искания поэта примерно до самого начала 10-х годов (№ 1–13 в нашем перечне). На этом этапе были сформулированы принципы словотворчества, которым поэт остался верен до конца своих дней. Отсчет второго этапа может быть связан с поиском наималов, т.е. с работой над звездным языком, а завершается этот этап перед мировой войной (№ 14–19 в нашем перечне), хотя шлифовка звездного языка продолжалась Хлебниковым даже в 1922 г. Любопытно, что, если здесь не упущено что-либо значительное, время с 1914 до 1919 гг. не принесло поэту никаких новых словотворческих принципов (ср. временнóй разрыв между № 19 и № 20 в перечне).
В эти годы будетлянин осваивал ранее сформулированные начала и работал над звездным языком и законами времени; главное же заключается в том, что война и революция как темы актуального поэтического осмысления и факты непосредственной практики и биографии Велимира Хлебникова не оставляли времени для развития новых словотворческих начал, для “теории”, сверх того что поэт урывал для звездного языка.
Наконец, третий этап открывается понятием скорнения (или скорнений ) и остается без систематического или особо значимого завершения (№ 20–29), но по богатству и силе словотворческих идей он демонстрирует новый взлет “воображаемой филологии”, овладевшей результатами двух первых этапов и свободно развивающей принципы диалектики словесного творчества.
Соотнося с идеологией словотворчества у Хлебникова его неологическую практику, нетрудно заметить, что уже в 1908 г. поэт активно использовал самые различные типы неологизмов. Конечно, аббревиация и слова типа спорвер или даже гознамя, упоминавшиеся выше, — появляются у него позже других моделей. Больше того, каждый из способов словообразования обладает в творчестве Хлебникова собственной, иногда довольно сложной внутренней эволюцией. Однако и аффиксация, и словосложение в равной мере занимали его уже в 1908 г. И невозможно утверждать, что, скажем, интерес к словосложению был у Хлебникова слабее, чем к аффиксации (ср. Vroon 1983: 74).
Способы словотворчества были описаны Р. Врооном в основном на материале лирики будетлянина. В свете выявленных начал и этот материал и множество фактов, вообще не привлекавших внимания исследователей, могут быть рассмотрены с позиций, которые определяются прежде всего идеями “воображаемой филологии”, а не одной только призмой нормированного литературного языка.
Важно было бы выявить и весь “неологический фон”, по выражению М.Л. Гаспарова, у непосредственных и далеких предшественников будетлянина и у его современников. Отдельные работы уже помещают Хлебникова в “неологический контекст” эпохи (см. Александрова 1980), но для последовательного соотнесения всей массы неологизмов у такого поэта со словотворчеством в поэзии и прозе XIX – начала XX в. понадобится еще много специальных усилий. Пока же “приписки” будетлянину и того, на чем его личное клеймо может отсутствовать, к сожалению, неизбежны. Это касается, например, и слов с суф. -ость, и сложного разграничения неологизмов и диалектизмов (даже в пределах словаря Даля; см. ВГ 1983: 99–100).
Чтобы подчеркнуть, что даже отдельные элементы звездного языка могут обладать некоторым фоном в отечественной традиции словотворчества, напомним о форме го-человек в характеристике, которую дает предполагаемому воспитателю княжеских сыновей Мефодию Миронычу Червеву другой персонаж «Захудалого рода» Н.С. Лескова “Дон-Кихот” Рогожин.102![]()

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 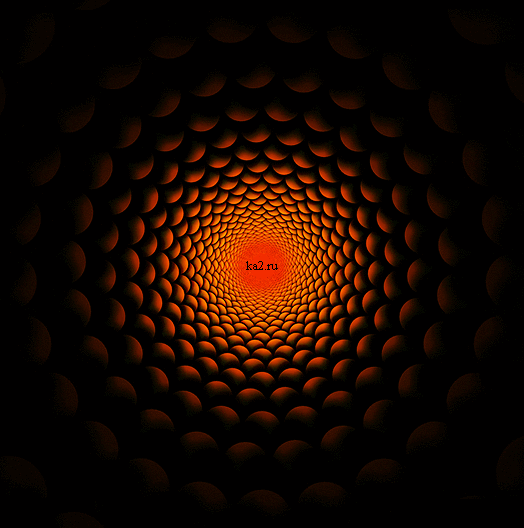 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||