

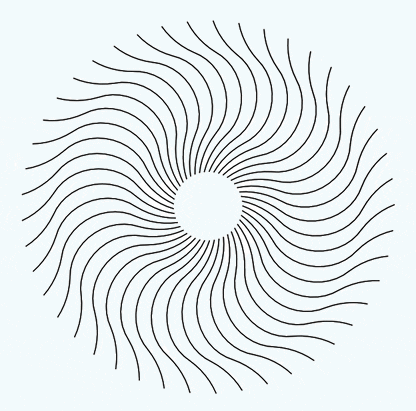 дна из проблем, с которыми сталкивается изучающий творчество Хлебникова, может быть названа проблемой текста. Точнее, это проблема демаркации — определения, где заканчивается один текст и начинается другой. При первом же знакомстве с рукописями Хлебникова становится очевидным, что установить канонический текст того или иного стихотворения или прозаического отрывка — задача исключительной сложности. Один текст переходит в другой, а произведение, представлявшееся ранее полностью законченным, может оказаться фрагментом другого.1
дна из проблем, с которыми сталкивается изучающий творчество Хлебникова, может быть названа проблемой текста. Точнее, это проблема демаркации — определения, где заканчивается один текст и начинается другой. При первом же знакомстве с рукописями Хлебникова становится очевидным, что установить канонический текст того или иного стихотворения или прозаического отрывка — задача исключительной сложности. Один текст переходит в другой, а произведение, представлявшееся ранее полностью законченным, может оказаться фрагментом другого.1Поскольку первое серьезное издание работ Хлебникова было осуществлено лишь после его смерти и притом основывалось на беспорядочном собрании рукописей, то последовательность печатания текстов целиком и полностью определялась публикаторами. Вообще говоря, позволительно усомниться в пригодности хронологии и жанровой принадлежности как критериев для группировки произведений Хлебникова. Его образная система, часто зашифрованная, на удивление постоянна, и жанровые отличия весьма размыты. Нередко разные жанры можно обнаружить в рамках одной работы: лирическая проза перемежается научным языком, классический стих прерывается театрализованным диалогом или языковыми экспериментами. Эта разнородность, стилистическая пестрота проявляется также и на уровне семантики: работы Хлебникова похожи на лоскутное одеяло, в котором каждый лоскут рассказывает свою историю и расцвечен по-своему, но в то же время составляет часть нового единого узора. В предисловии к «Зангези» сам Хлебников сходным образом описывает свой поэтический метод:
(Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, курсив мой. — Б.Л.).
Итак, в творчестве Хлебникова мы сталкиваемся с конгломератом, представляющим собой обширное многообразие фрагментов, каждый с своим особым богом, объединенных в многоцветное целое. Для того, чтобы понять принцип сборки, необходимо знать веру каждого фрагмента. Это означает, что каждый фрагмент должен читаться согласно некоему своему коду. Лишь обнаружив правильный код (источник и более ранний контекст фрагмента), читатель будет в состоянии связать различные отрывки воедино. Подобная структура текста требует активного читателя, способного переключаться с одного кода на другой. Дешифровка дополнительно осложнена из-за многообразия и разнородности кодов — от мира чисел до сибирской мифологии — и их непривычности в поэтическом контексте. Во многих стихотворениях Хлебникова автобиографические отрывки (для которых какой-либо контекст вообще отсутствует) перемежаются фрагментами с упоминанием исторических лиц и событий (то есть, контекст внелитературен). К этому добавляются фрагменты, контекст которых может быть найден в других работах Хлебникова, например “звездный язык” в его «Досках судьбы». Более того, налицо внезапные переходы между языком и метаязыком: будучи в одном отрывке средством описания, в следующем отрывке язык становится объектом описания. То, что эти переходы, как правило, графически не обозначены, лишь усугубляет загадочность, если не сказать головоломность текста.
Одно из объяснений подобной структуры может заключаться в том, что поэзия Хлебникова по своей природе в значительной степени автокоммуникативна.2![]()
Впрочем, “ребусность” многих стихотворении Хлебникова отнюдь не является лишь непреднамеренным следствием их автокоммуникативного характера. Это свойство вытекает из сознательного, эстетически мотивированного желания сложности: искусство должно быть искусным. Для чтения поэзии Хлебникова зачастую нужны определенные ключи; иногда они скрыты в самом тексте (наподобие анаграммы), иногда их можно найти в других произведениях поэта (напр., ключевое слово ‘коромысло’), а иногда необходимо искать вне хлебниковских текстов, среди необъятного многообразия культурных традиций, которые поэт привлекает и перерабатывает.
Для всестороннею знакомства с поэтическим миром Хлебникова необходимо одновременное изучение его литературного наследия в полном объеме. В сочинениях поэта разделение по жанрам менее существенно, нежели постоянные мотивы и темы (возможные “ключи”), которые выявляются при сравнении произведений друг с другом.3![]()
Всюду далее Хлебников цитируется по переизданию собрания его сочинений:
В.В. Хлебников. Собр. соч.: В 4 т. Мюнхен, 1968–1971. Римская нумерация первоначального пятитомного издания (1928–1933), тем не менее, сохранена, и издание 1940 года, с комментариями Харджиева и Грица, здесь цитируется как 1940. Таким образом, (1940, 46) означает стр. 46 «Неизданных произведений» (1940). (III, 54) означает стр. 54 третьего тома «Собрания произведений» (1928–1933). Пятый том при переиздании был дополнен рядом материалов, прежде не печатавшихся (стр. 377–539). Ссылка на них выглядит так:
V, 377–539.4![]()
‹...› и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и хохочущий беззаботно ‹...›
«Искушение грешника» (IV, 19)
Всю свою жизнь Хлебников был занят упорядочением мироздания. Он неустанно пытался соотносить абсолютно различные явления, ища микрокосм в макрокосме и наоборот. Позитивизм образца XIX века и рационализм виделись ему причинами разлада в окружающем мире.5![]()
![]()
Поиски Хлебниковым порядка и единства затрагивали также историю. Хлебников живо интересовался концепцией исторической справедливости (сам он говорил, что это понятие впервые пришло ему в голову, когда он услышал о цусимском разгроме 1905 года;7![]()
Особенно ярко подобные темы выражены в отрывочных «Досках судьбы», но поскольку те же самые идеи в различных формах возникают в хлебниковской поэзии постоянно, необходимо сказать несколько слов об этих “досках”.
Неоднозначность (один из основополагающих принципов хлебниковской поэтики) проявляется уже в самом названии данного сочинения. С одной стороны, “доски” — это скрижали наподобие скрижалей закона (сам Хлебников сравнивал их
с законами Хаммурапи:8![]()
Итак, «Доски судьбы» — это скрижали закона, подлежащие истолкованию, подобно расположению звезд на небосводе. С другой стороны, «Доски судьбы» — это буквально доски, строительный материал. Хлебников сравнивает себя с плотником, строящим избу мира из бревен.
Числа 2 и 3 — основной материал, бревна, венцом охватывающие вселенную. В другом месте он уподобляет время и историю доскам, которые должны быть оструганы и соединены.
Таким образом, в «Досках судьбы» Хлебников устанавливает законы, описывающие и предсказывающие поступь судьбы, и в то же время строит эволюционную модель мира и истории.
Основа «Досок судьбы», начало, главенствующее во вселенной и управляющее ходом истории, названо Хлебниковым законом качелей:
Согласно закону качелей, высокое становился низким, глубокое высоким (70, 16); движение вверх–вниз нескончаемо.
Подчиняясь этому ритму, история то низвергает целые народы в пропасть, то возносит до небес. В обычных деревенских качелях поэт видит исходную предметную модель этого колебательного движения, и таким образом широко распространенная забава — качание на качелях — обретает для него глубокий философский смысл. Посредством этого сравнения он также вводит в свой основной закон элемент игры, потехи, что в точности согласуется с эстетикой футуризма, согласно которой творчество есть игра. Итак, через закон качелей сама история проявляет сходство с веселой игрой.
Мысль о чередующихся противоположных состояниях поэт высказан очень рано — в маленьком стихотворении, опубликованном в «Изборнике» (1914):
Носорог как противоположность человека11![]()
Интересно, что носорог и Иван Грозный представлены как родственные души; значит, Хлебников рассматривал правление Грозного как время, когда все общественные и человеческие связи были поставлены с ног на голову, — как время господства “античеловека”.12![]()
Кажется, что в движении качелей наиболее занимал Хлебникова тот момент, когда противоположные полюса меняются местами — момент инверсии. Это отразилось в его поэзии, где налицо очарованность всевозможными встрясками, внезапными переменами, метаморфозами, колебаниями, переходами. Одним из наиболее явно выраженных “инверсных” явлении, связанных с переходным периодом, является карнавал13![]()
Числа — существенная часть поэтического мира Хлебникова. В точности как и слова, они несут смысловую нагрузку, и значения их могут породить новый семантический контекст. Хлебников пишет:
По Хлебникову, многообразие создано из единого посредством деления целого. Каждое деление подразумевает некое отношение между частями делимого, и поскольку как раз для выражения отношений числа и служат, то можно заключить, что числа суть творцы разнообразия (то, чем может разниться единое). Но в то же время числа — и великие объединители. Они присутствуют в каждом элементе мироздания, поэтому мы, как сказал Хлебников, везде слышим их знакомый голос. По его словам, мир подобен театру, бесконечной пьесе, актеры в которой — числа, одетые в разные костюмы:
В своих стихах Хлебников часто забавляется тем, что переодевает числа в различные костюмы и заставляет играть неожиданные роли. Он стремится установить соответствия между миром чисел и реальностью. В нескольких местах «Досок судьбы» он пытается подыскать числам новые роли, обыгрывая цитаты и устойчивые фразеологические обороты.
Очевидным прообразом этих строк является известная фраза в «Слове о полку Игореве»:
Таким образом, у Хлебникова числа уподоблены шаманам, колдунам, которые могут по желанию перевоплощаться, менять облик. Также числам присущи явные религиозные коннотации, в плане всесильности:
равно как и революционные коннотации:
Эти “обработанные” цитаты, хвалебные и пародийные одновременно, проникнуты неоднозначностью, типичной для многих текстов Хлебникова.
Без сомнения, наиболее любопытное восхваление чисел содержится в одноименном стихотворении. «Числа» (опубл. впервые в сб. «Дохлая луна», 1913). Впрочем, в данном произведении числа выступают как бы завуалированно, и для расшифровки смысла необходимо обратиться к другим работам Хлебникова.
“Принцип действия” этого стихотворения можно окрестить “двойным видением”. В следующем прозаическом отрывке Хлебников подчеркивает важность “двойного смысла” — с одной стороны, “обыденного”, а, с другой, скрытого, завуалированного:
Слова сравниваются со слюдой. Для того, чтобы заглянуть внутрь неосвещенной комнаты, необходимо приблизиться к слюдяному окну вплотную: столь же пристальный взгляд необходим, дабы увидеть за обыденным смыслом слова тайный. Именно так и поступает Хлебников в своем стихотворении (строка 1).
Строки 2–3. Животное обличье (шкуры) символизирует для Хлебникова ранний период развития, предшествующий появлению человека. В поэзии его нередко так или иначе выражается мысль, что жизнь на земле прошла несколько этапов развития: сперва главенствовали минералы, затем наступило “царство” растений, потом верх взяли звери, и вот держава и скипетр перешли к человеку. Власть же человека сменяется властью чисел. Впрочем, провозвестники высших форм жизни прослеживаются и в низших, точно так же, как пережитки низших — в высших.17![]()
Строки 4–5. В поэтическом мире Хлебникова слово ‘коромысло’ — одно из ключевых. Оно полисемантично (что может объяснить его особую привлекательность для Хлебникова, всегда искавшего двойной смысл) и имеет, по меньшей мере, три значения: собственно коромысло (для переноски ведер), рычаг (у весов) и стрекоза (Libellula).18![]()
![]()
Движение “пляшущих чисел” аналогично пляске коромысла и отражает ее даже визуально: “краевые” тройки, двойки и их сочетания меняются местами, основание степени становится показателем и наоборот. Таким образом, пляска коромысла — еше одно проявление хлебниковского “закона качелей”. В этом же контексте становится теперь понятным выражение хребет вселенной. Как сказано в «Досках судьбы», основной закон вселенной есть инверсия полюсов; вся вселенная колеблется подобно “пляшущему коромыслу”, и это движение может быть выражено комбинацией чисел 2 и 3 (“кирпичиков”, из которых построен мир в «Досках судьбы»).
Строка 6. Данная строка тоже связана с «Досками судьбы» и попытками Хлебникова выразить ход истории (времени) при помощи чисел. Образы хохота и зубов нередко фигурируют в тех его произведениях, главная тема которых — время и циклы истории. Например, в «Детях Выдры» находим следующий отрывок:
В данном фрагменте магическими числами служат 365 и 48, связанные, соответственно, с солнечным и лунным годом.20![]()
В «Досках судьбы» число 365 часто записывается в виде числового ряда 35+34+33+32+31+30+1 — Хлебников называет его изящным нисходящим рядом. Не исключено, что в этом один из источников уподобления числа 365 ряду зубов. Впрочем, связь числа 365 с зубами станет еще яснее, если вспомнить русское выражение “зуб времени”. Число 365 подобно вращающемуся зубчатому колесу, шестерне, то есть время как бы прогрызает себе путь через историю. Этот образ связан с образом косы в последнем строке отрывка из «Детей Выдры»: И их косою травы косим. Число 365 уподоблено инструменту жатвы. Таким образом, оно словно бы пожинает урожай истории, — то есть, играет (по отношению к истории) роль смерти с косой. Именно это делает Хлебников в «Досках судьбы»: образно говоря, он “пожинает” историю косой числа 365.
Образы “зубов” и “сенокоса” содержатся еще в одном стихотворении:
Рассмотрим только начальное четверостишие, поскольку оно напрямую связано с комплексом представлений о времени, выраженным «Числами». В этих загадочных
строчках22![]()
Это небольшое отступление позволяет увидеть в шестой строке анализируемою стихотворения завуалированную аллюзию на число 365 и на весь комплекс представлений о времени и истории, связанный с ним в произведениях Хлебникова.23![]()
Строки 7–8. В конце стихотворения числа связываются с пророческим даром. Строка 7 представляет собой измененную цитату из пушкинского «Пророка»:
Хлебниковский неологизм вещеобразно происходит от слова ‘вещий’. Здесь поэт уподобляет себя числу 1 и говорит, будто внезапно, словно в пророческом сне, видит то, что в мире его “Я” соответствует дробям (1/2, 1/3, 1/4...) в мире числа 1. Что именно он видит, нам не открывается. Важно другое: мир чисел фигурирует в качестве модели возможных взаимоотношений. Видимо, Хлебников хотел сказать, что мир чисел помогает устанавливать связи и соответствия в реальном мире. Числа дают возможность “предвидеть”, открывают нам глаза на неожиданные потенциальные связи.
Итак, можно заключить, что анализируемое стихотворение представляет собой гимн числам как создателям связей во вселенной, причем смысловая структура этого гимна чрезвычайно сложна. В отличие от нумерологов-мистиков, утверждающих лишь то, что „числа повсюду“,24![]()
Числа и их семантика — отнюдь не редкие гости в произведениях Хлебникова. Рассмотрим еще один пример, отрывок из поэмы «Ладомир», в котором мир чисел использован как своего рода модель для установления нетривиального соотношения:
В первом четверостишии возникает прометеевский образ бунтовщика, зажигающего костер земного быта перемен.25![]()
![]()
В последнем четверостишии отрывка процедура повторяется, только иначе описана. Если распутать сложную синтаксическую конструкцию, дополнительно затемненную украинизмом ‘нема’, то получится следующее: “он находил двуличный корень из того, чего нет, дабы мысленно увидеть русалку под корнем упавшего дерева”. Судя по всему, выражение двуличный корень призвано обыгрывать математический термин “двузначный”, и речь о том, что корень квадратный из минус единицы — это как +i. так и –i. То, чего нема, из которого он (путник) извлекает корень, — безусловно, минус единица (нет себя в предыдущем четверостишии). Внезапное появление украинизма нема отнюдь не случайно. Русалка у Хлебникова — украинского, гоголевского происхождения, и не исключено, что нема возникло в стихотворении посредством семантической аттракции. Как бы то ни было, процедура повторяется: путник находит двуличный корень (±√ ) из того, чего нема (–1) и замечает русалку (±i).
“Двуличность” мнимого числа i (объединяющего противоположности, плюс и минус) предполагает дополнительную параллель с русалкой, поскольку русалка также характеризуется неоднозначностью.
Данные строчки указывают на еще одно соответствие между русалкой и числом i, устанавливаемое при помощи омонима ‘корень’ (двойное значение — корень дерева и математический радикал). В последней строке русалка возникает у кокорин. Судя по всему, слово ‘кокорина’ означает здесь следующее (согласно Далю):
Подводные коряги, как и русалки, представляют опасность для рыбаков. Таким образом, появление русалки у кокорин обусловлено двояко. Русалка находится рядом с кокориной — корнем в реке, — тогда как мнимое число i тесно связано с корнем — знаком радикала. Вот и еще один пример хлебниковского “двойного видения”. Сквозь знак радикала смутно брезжит образ подводной коряги, а за двузначным мнимым числом i кроется иллюзорная русалка. То есть, судя по всему, в данном отрывке из «Ладомира» бунтарь-путник выступает в роли посредника и пророка, вскрывая неожиданные связи между различными мирами.
Итак, мир чисел функционально интегрирован в рассмотренный фрагмент «Ладомира».
То есть, в поэзии Хлебникова мир чисел — равноправная система координат в ряду прочих, более традиционных систем, как то исторические события или же личный опыт.
11 = 23 + 3 = 32 + 2
Один из блокнотов Хлебникова с выкладками для «Досок судьбы» содержит небезынтересное описание числа 11:
Хлебников здесь имеет в виду, что 11 может быть записано одновременно и как 23 + 3, и как 32 + 2. Сумма (11) постоянна, хотя антиподы 2 и 3 поменялись местами. 11 означает равенство, состояние, в котором все компоненты совершенно взаимозаменяемы. В нашем же случае наиболее важным является то, что Хлебников использует слова, связанные с карнавалом (“переодеваются”, “надевая личины”, “святки”, “переодевают одежды друг друга”), дабы выразить взаимоперестановку антиподов (2 — 3, бог — человек). Это наводит на мысль, что основным карнавальным, святочным законом он полагал инверсию. Процитированные отрывки также объясняют, что именно больше всего интересовало Хлебникова в карнавале: Весь храм чисел от такой прогулки не обрушивается, не падает и не обваливается. Другими словами, получает разрешение оппозиция “движение — покой”; антиподы меняются местами, причем так, что не нарушаются ни движение, ни равновесие.
Поскольку Хлебников неустанно размышлял о равновесии и симметрии, о природе и ходе времени, то неудивительно, что его активно интересовало равноденствие — точка равновесия годичного цикла. В набросках к «Доскам судьбы» он развивает мысль о том, что ритм истории весьма напоминает ритм солнечного года, — то есть, поворотные точки истории можно уподобить зимнему и летнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию. Блестящим скачком воображения Хлебников связывает с равноденствиями “проповедников равноправия”:
Судя по всему, Хлебникова чрезвычайно занимали проповедники равноправия, “общинники”.27![]()
Антрополог Виктор Тэрнер писал про общинные движения, что они „возникают во времена радикального социального перехода, когда само общество, кажется, передвигается от одного фиксированного положения к другому, независимо от того, полагается ли terminus ad quem (конечная цель, лат.) земным или небесным. ‹...› Легче всего она [специфическая социальная форма, предназначенная для выражения спонтанной коммунитас] возникает в промежутках между социальными положениями и статусами, в том, что обычно называют “щелями социальной структуры”. ‹...› ...судьба всех коммунитас в истории: через “упадок и гибель”, как это воспринимает большинство людей, к структуре и закону“ (Turner 1969: 133, 128). Таким образом общинные движения образуются в переходные периоды и всегда недолговечны, поскольку быстро приобретают иерархическую структуру. Ввиду последнего соображения, хлебниковское сравнение “коммунитас” и равноденствий делается еще более уместным.28![]()
Хлебников также проявлял интерес к различным обрядам, связанным с годовым циклом. Среди ею бумаг есть календарь за 1916 год (ед. хр. 89). которым поэт пользовался для вычислений к «Доскам судьбы». На странице за 6 (19) февраля он выписал длинный перечень календарных праздников различных культур:29![]()
В том же календаре он отмечает следующие русские праздники:
Эти записи свидетельствуют о том, что Хлебников был знаком с годовыми обрядами, интересовался ими и понимал их значение. Важность упоминания римского праздника лемурия и дней привидений в мае будет продемонстрирована далее, при анализе поэмы «Поэт», в которой нашел отражение русский майский праздник проводов русалки, также связанный с духами мертвых, т.е. русалками.
В таком контексте особое значение приобретает случай, рассказанный Дмитрием Петровским. Вспоминая о Хлебникове, Петровский писал, что поэт предложил устроить следующую демонстрацию против не оправдавшего ожиданий Керенского:
Хлебниковский “ритуал” очень напоминает обряды весенних карнавальных праздников. По своей роли кукла Керенского аналогична куклам Масленицы, Костромы и Купалы31![]()
Ты мой роженый, ты мой хоженый!
Из фольклора
Мифологизация собственного начала составляет неотъемлемую часть авангардной поэтики и вытекает из характерного для нее требования абсолютной новизны („Мы первотворители!“, „Мы строим мир заново!“). Наиболее ярко эта тяга к мифологизации проявилась, наверное, у Марины Цветаевой, которая вновь и вновь обыгрывает не только свое имя Марина, но творит миф даже из собственного дня рождения.32![]()
Какие хлебниковские мифологемы связаны с днем его рождения — 28 октября по старому стилю? В православном календаре это день великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Однако напрасно было бы искать в творчестве Хлебникова каноническую святую Параскеву. У него Пятница выступает не в роли греческой мученицы, а, напротив, в “низкой” своей ипостаси — восточнославянской богини Мокоши. Подобная инверсия — когда низкое становится высоким, главенствующим — вполне в духе карнавальной поэтики Хлебникова: любы верхи, любо дно (ср. его закон качелей и обратный дух).
Какой была славянская Мокошь?
Таким образом, древняя связь Мокоши с водой и льном передалась Пятнице.
Итак, все фольклорные источники соотносят Пятницу-Мокошь с водой и колодцем, со льном и пряжей, а также со зрением (видимо, глаз в народной психологии всегда связан с влагой).
Какова же Пятница-Мокошь у Хлебникова? В стихотворении «Игралие», где упоминается ее имя, Мокошь — водяная стихия, олицетворение влаги:
В центре стихотворения, описывающего волную стихию до сотворения мира, — богиня Мокошь. На ее божескую, или скорее “противобожескую”, природу указывает странный эпитет — бестешная. Он восходит к пословице „Бог не Макешь (Мокешь), чем-нибудь да потешит“ (Даль 1984: 24), что также подчеркивает нехристианским характер хлебниковской праматери. Особенно важна в этих стихах связь Мокоши с “русалиями” (только три слова занимают по отдельной строке: Бестешной / Мокоши / Русалие. Русалие, т.е. весенний праздник, когда русалки выходят из воды и играют на лугах, перифрастически определен Хлебниковым как хлябей мечты. В хлебниковской картине мира, где столь значимы постоянные метаморфозы, первобытная водяная стихия (“хляби морские”) уже содержит в себе будущие “игралия” речных дочерей. При всей “расфокусированности” стихов о Мокоши (между небытием и бытием, между грезой и явью), в них можно выявить элементы, характерные для поэтического мира Хлебникова.
Поэт у Хлебникова не витязь, а видязь (видязь видений). Он носитель звукового начала, поэтому Хлебников видоизменяет слово так, что звонкий “Д” занимает место глухого “Т” (о противопоставлении “Д” — “Т” в поэзии Хлебникова см. разд. II, «Многоликая речь»: гл. I. «Противоположности»). Поэтическая деятельность связана со зрением, с ясновидением, с прорицанием. Многие стихи поэта начинаются со слов Я видел, что может ассоциироваться с началом творения (см. Weststeijn 1986: 23. 241). Исследователи уже отмечали важность мотива глаз, очей в поэзии Хлебникова (Faryno 1985), но тема эта далеко не исчерпана. Связь с Мокошью проливает новый свет и на “зрительные” образы в его поэзии. Что до голубого цвета (яви голубоши), тот связан со стихотворным творчеством и покровительницей поэзии, русалкой (см. ниже анализ поэмы «Поэт», о комплексе “незабудка — одуванчик — русалочьи глаза”), Сине-голубыми представляются Хлебникову и некоторые звуки, которые интересны именно в связи с Мокошью, так как входят в ее имя:
м — синий цвет, к — небесно-голубой (V. 269). В этом отношении Хлебников удивительно последователен, и все “звукообразы” на “М”, фигурирующие, например, в «Зангези», связаны с синим и голубым: Мам-эами — это небо ‹...› Мам и эмо — это облако. ‹...› Мивеаа — небеса, Мипиопи — блеск очей ‹...› Мимомая — синь гусаров (III, 344–345) (1986, 488–489). Цветовая характеристика звука “Ш” у Хлебникова отсутствует, но можно предположить, что его Мокошь тоже сине-голубого цвета, цвета воды (шипящий звук можно к тому же воспринимать как олицетворение водяных струй).
Вдобавок связь Мокоши с водой и синим цветом соотносится с ролью богини в славянском пантеоне. Как известно из фольклора, Пятница-Мокошь занималась обработкой льна, прядением и ткачеством. Лен цветет сине-голубым цветом и может, таким образом, быть отнесен к хлебниковской “голубой” флоре (незабудка, василек, одуванчик — цикорий — солнцева сестра).
Фольклорные представления о Пятнице-Мокоши объясняют многое в образе русалки в поэме «Поэт»:
Русалка и Богоматерь — две ипостаси одной богини: “низкая” (водяная) и “высокая” (небесная).33![]()
Если хлебниковская муза-русалка восходит к Мокоши, сходство их черт не должно исчерпываться одной лишь связью с волной стихией. И действительно, у Хлебникова (в частности, в поэме «Поэт») постоянно делается акцент на глазах русалки, что не свойственно ее традиционному фольклорному образу: Реки чистоглазая дочь; Что с ним и я, русалка, умерла, // И не река девичьим глазом // увидит времени орла; Глаза ночей. Они зовут и улетают // Туда, в отчизну лебедей, // И одуванчиком сияют // В кругах измученных бровей. // И нежно-нежно умоляют (I. 156–157) (1986, 269–270).34![]()
Итак, ‘русалка’, ‘вода’ и ‘глаза’ образуют у Хлебникова сложный семантический комплекс, который также связывается с ‘речью’: И смотрю на вас глазами в упор // И глаза мои струят одно только слово... // И из глаз моих на вас льется прямо звездный ужас («Русские десять лет меня побивали каменьями»: V, 109). Принимая по внимание роль паронимии (двойной речи) в поэзии Хлебникова, можно утверждать, что его русалка в двойном смысле “речная дочь”: дочь реки и дочь речи.
Также, однако, у русалки и Пятницы-Мокоши есть еше одна немаловажная общая черта, а именно пристрастие к пряже, ниткам, ткани. Как известно из фольклора, русалки не только ходили с распушенными длинными волосами (см. выше о Пятнице), но „по народным представлениям ‹...› просили дать им рубашки, нитки, поэтому для них женщины вешали на деревья пряжу, полотенца, рубашки, а девушки — венки“ (Соколова 1979: 215). Или, как в записи 1903 года (Соколова 1979: 216):
Прядущую русалку можно найти и у Хлебникова (98, 5):
В этих стихах русалка выступает как прорицательница, гадающая о погоде. Наряду с Мокошью, она принадлежит к парадигме прядущих женщин. Таким образом, хлебниковское пристрастие к теме судьбы, возможно, берет начало все в той же Мокоши, “оборотной” святой, календарно связанной с поэтом: Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки, этой чудесной швеи? («Если я обращу человечество в часы...»; III, 295).
Образ Мокоши — русалки — пряхи проясняет и следующее раннее сравнение Хлебникова, основополагающее для его словотворчества: слово — пяльцы; слово — лен; слово — ткань (V, 383: см. также Vroon 1983: 15). Все три сравнения восходят к ремеслу, которому покровительствует Пятница — Мокошь. Примеры, где слово (поэзия) создается по аналогии с женскими занятиями — прядением, ткачеством, вышиванием, — можно множить едва ли не до бесконечности: сказевом-кружевом жизнь я обвил (60, 20); Ячейки из столиц ткет звук // Рыбацкой сетью («Пусть пахарь, покидая борону...»; III, 217); Когда рассказом звездным вышит // Пруда ночного черный шелк («Поэт»; I, 155; 1986, 268). На этом фоне особую значимость приобретает слово ‘узор’ (вышивка), тем более, что в нем заключен важный для Хлебникова корень “зор”:
или:
Фонетически слово ‘узор’ близко слову ‘озеро’ (вода — стихия русалок). В рукописях встречается, например: озеро, езере езинка = русалка (125, 25); здесь налицо также связь с глазом (морфемы “зер-”, “зин-”; см. Faryno, 1985). То есть, Мокошь выступает своего рода связующим звеном в наметившемся сближении образов воды и глаз.
Мокошь-русалка объясняет и столь ощутимое присутствие болотного мира в поэзии Хлебникова (особенно в стихах о низаре Разине) — ива, осока, купава, рогоза, — а также ключевые образы коромысла и мотылька, бабочки “низшего царства” (о мотиве реки как некоего эквивалента пряжи см. Иванов и Топоров 1983: 193).35![]()
Таким образом, источник столь важных для поэтического зрения Хлебникова мифологем ‘вода’, ‘глаз, зрение’, ‘пряжа’ прослеживается в мифологизации его собственного начала — рождения в день святой Пятницы. 28 октября по старому стилю. Эта “двуединая” святая (Пятница — Мокошь) воплощает принцип “два в одном”, важнейший в поэтике Хлебникова, и способствует особому поэтическому видению мира.

| Персональная страница Барбары Лённквист | ||
| карта сайта | 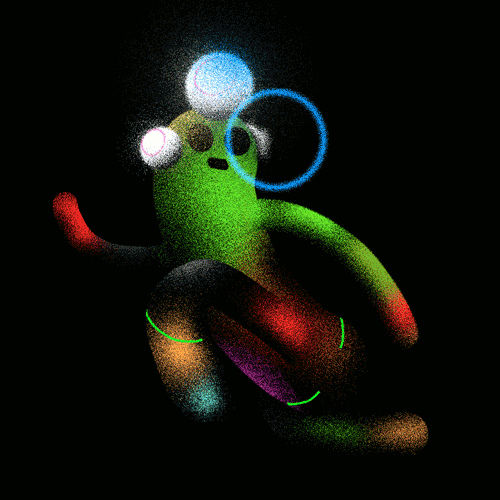 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||