

Вообще слово лицо
с низко надвинутой шляпой.
«Разговор Олега и Казимира»
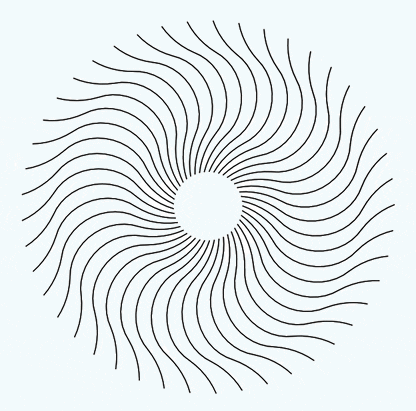 дним из главных принципов авангардистской поэзии считается расширение семантического горизонта слова, семантическое “насыщение” отдельного слова (Raker 1979). Хлебников неоднократно признанавал открытым текстом, что стремится к семантическому “сгущению”, которое в его случае часто принимает форму своего рода “двойной экспозиции” — когда одно слово содержит два смысла или более. Например, в набросках к «Доскам судьбы»:
дним из главных принципов авангардистской поэзии считается расширение семантического горизонта слова, семантическое “насыщение” отдельного слова (Raker 1979). Хлебников неоднократно признанавал открытым текстом, что стремится к семантическому “сгущению”, которое в его случае часто принимает форму своего рода “двойной экспозиции” — когда одно слово содержит два смысла или более. Например, в набросках к «Доскам судьбы»:Слово сравнивается с мутным слюдяным окошком. Пристально вглядываясь в окно (читай: слово), мы различаем внутри световой отблеск (читай: скрытое значение). Слова, таким образом, двуумны: скорлупа бытового значения скрывает потайное, внутреннее ядро — можно сказать, ядро поэтического смысла.
В «Нашей основе» (1920) Хлебников аналогичным образом разграничивает “бытовое” значение слова и его “чистый” смысл:
Итак, повседневный смысл слова скрывает не просто какое-то одно тайное значение, но всё их многообразие (все остальные его значения ‹...› все светила звездной ночи). Смыслы уподоблены небесным телам, и задача небоведа (поэта) состоит в том, чтобы “отпереть” вселенную — обнаружить звезды, скрытые “всепоглощающим” дневным светом. Бытовой смысл — лишь один из возможных, и удовлетвориться им означает принять геоцентрическую картину мира. То есть, Хлебников снова отстаивает возможности полисемантического использования слова, чтобы таким образом оживлять его потенциальные значения и преодолевать одноголосие буквализма.
Подобным стремлением к многоголосию и семантически насыщенным конструкциям, видимо, и обусловлен ряд композиционных особенностей поэзии Хлебникова. В связи с этим необходимо проанализировать двойные структуры, обладавшие для Хлебникова, судя по всему, особой эстетической привлекательностью.
Уже Владимир Марков, изучая творчество Хлебникова, подметил страсть поэта к сочетанию в одном слове двух значений (Markov 1962: 63, 141, 146). Например, в ранней поэме «Журавль» (1909) весь сюжет построен на двойном значении заглавия. На протяжении поэмы многократно обыгрывается омонимия “журавль-механизм — журавль-птица”; в игру эту вовлечены и другие омонимы. Когда заводские трубы пускаются в полет над городом, налицо явные коннотации с трубами Страшного Суда (Markov 1962: 63). Таким образом, “двойное слово” ТРУБЫ приобретает пророческий аспект: самим этим словом предвещается гибель человечества от индустриализации. А когда птица-механизм поедает одного за другим жертвенных младенцев, то в литургическом термине ‘обедня’ реализуется потенциальное второе значение (обед):
Аналогичным образом одиннадцать лет спустя Хлебников использует в поэме «Ладомир» (1920) слово ‘намордник’:
В рамках утопического проекта победы над смертью (посредством вычисления ее ритма) поэт создает для нее намордник, делая смерть (мор) неопасной.
В поздней поэме «Синие оковы» (1921–1922) двойной смысл имеет уже само заглавие, и эта двойственность сохраняется на протяжении всего произведения: сестры Синяковы продублированы синими оковами (налицо завуалированная отсылка к звездному языку и Доскам судьбы). Увлечение Хлебникова сестрами Синяковыми объединяется в поэме с изысканиями на тему звездного языка и ритмов вселенной (синие оковы).
Я застегиваю перчатку столетий
Запонкой перемены знака,
Сменяя событий узор и цвета,
Ежели в энном ряду
Усядутся в кресло два,
Вместо трёх.
«К зеркалу подошёл...» (V, 111)
В «Досках судьбы», а также во многих стихотворных произведениях Хлебников неустанно изобретает пары противоположностей;1![]()
Противопоставление чисел 2 и 3 Хлебников связывает с оппозицией “жизнь — смерть”; если двойка символизирует рост и успех, то тройка — упадок и тупик. Тем не менее, в произведениях Хлебникова налицо постоянное взаимодействие между этими числами и, как видно из только что приведенного отрывка, между самими словами “два” и “три”. Поскольку Д и Т — фонетические “двойники навыворот” (звонкая и глухая согласные), резонно задаться вопросом: не имеет ли вышеупомянутая оппозиция “жизнь — смерть” фонетическое происхождение? Этот вопрос тем более будет уместен, если принять во внимание первую предпосылку хлебниковского “заумного языка”: Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным.2![]()
Эта же поэтическая этимология разрабатывается в следующем стихотворении:
Этот своего рода поэтический букварь, а также размышления Хлебникова о словах на “Д” и на “Т” есть нечто большее, чем просто иллюстрация его увлечения противоположностями. Также здесь раскрывается взгляд Хлебникова на слово как таковое: значение слова содержится в его форме, и задача поэта — неустанно стремиться к полному слиянию обозначающего и обозначенного.
Оппозиция, сходная с противопоставлением слов на “Д” и на “Т”, наблюдается также в стихотворении «Слово о Эль», где, как показала Ольга Седакова, речь одновременно идет о букве “Л” и о фонеме “Л”, и которое построено на семантическом контрасте между ее смягченной и несмягченной формами:
Смягченное Л связано с полетом, движением вверх, тогда как несмягченное Л соответствует падению, неподвижности.3![]()
Вместе обе формы этой фонемы выражают движение, графическим представлением которого является русская буква “Л”, — сперва подъем, затем резкий спуск. Таким образом сливаются фонема и ее графическое представление. Две противоположности словно бы сплелись в фонетическом объятии — смягченное Л в ‘ливне’ устремлено к несмягченному Л в ‘луже’, как мать, обнимающая свое дитя:
Числа 2 и 3 не только противостоят друг другу, но и выражают (в «Досках судьбы») два различных вида отношений. Число 2 призвано связывать сходные явления, а число 3 — противоположные:
В числе 3 встречаются антиподы, что приводит к равновесию или состоянию покоя. С другой стороны, 2 означает прирост прежнего качества. Первейшей задачей, которую Хлебников ставил себе в «Досках судьбы», было установить соотношение между историческими событиями революционного значения или историческими личностями, которые тем или иным образом способствовали важным переменам. Часто это были военачальники, командовавшие в знаменитых битвах, или мыслители, основавшие новое философское учение. Например, Платон и Магомет противоположны друг другу, их отношение выражается числом 3:
Философия Платона стремится к чистому духу абстрактного числа, тогда как Магомет абсолютизирует женское тело, лишенную души плоть гурии. За этими оппозициями снова чувствуется хлебниковская трактовка слов на “Д” и на “Т” (Вера только духа и вера только тела).
Более подробное развитие теория Хлебникова о связях между антиподами получает в поэме «Гибель Атлантиды». Утверждается, что противоположные полюса в своем существовании полностью зависят друг от друга. Если один из них уничтожит другой, ему также придет конец. В поэме верховный жрец убивает рабыню и тем самым навлекает гибель на всю островную цивилизацию. Жрец и рабыня — противоположные полюса единого целого, но понимает это только рабыня.
Жрец отказывается слушать рабыню, и она предупреждает его:
Рабыня предсказывает, что в результате ее гибели последует апокалиптическое бедствие, кровопролитие, явление ложных пророков. Вера, опирающаяся на принцип “или — или” (жрец или рабыня), бесплодна. Но жрец пренебрегает предупреждением. Рабыня остается непонятой, и он отсекает ей голову.
После, когда воды надвигаются на обреченный город, в небе, предвещая смерть и разрушение, возникает голова рабыни в венке темных змей:5![]()
Рабыня говорит, что, когда жрец убил ее, он также уничтожил и “тайну жизни”. Ключевое выражение здесь — созвездье Водолея, которое имеет форму коромысла. В поэме «Ладомир» мы встречаем тот же образ Водолея как символа равновесия. Когда хватают за ус Водолея, коромысло кренится и вспыхивает мятеж:
Как было показано, для Хлебникова коромысло символизирует чередование противоположностей (равновесие через инверсию). То есть, строки эти можно интерпретировать следующим образом: рабыня и жрец резвились вместе под “знаком коромысла” — т.е., в согласии с законом качелей, — пока жрец внезапно не убил ее (уничтожил противоположный полюс), тем самым нарушив равновесие, что повлекло гибель целой цивилизации.
Почему жрец поступает именно так, остается неясным. Видимо, поэт хотел показать, что виной всему высокомерие разума, убежденность чистого разума в своем превосходстве:
Глубокое недоверие к разуму и книжному знанию — частая тема в поэзии Хлебникова. В поэме «Любовь приходит страшным смерчем...», написанной в 1911–1912 гг., читаем:
Казнь рабыни жрецом может быть интерпретирована как символическая попытка разума избавиться от всего иррационального и эмоционального, всего, что не может быть определено однозначно. Таким образом, «Гибель Атлантиды» — это стихотворное выражение мысли, являющейся центральной и в «Досках судьбы», а именно о неразрывной взаимозависимости противоположностей. Существование оппозиций — необходимая предпосылка состояния равновесия, важнейшего понятия в философии Хлебникова.
Аналогичный конфликт возникает в поэме «Поэт», где русалка обвиняет поэта в том, что из-за его дифирамбов победам науки на белую муку размолот старый мир работою рассудка (см. анализ ниже). Более того, при описании рабыни в «Гибели Атлантиды» и русалки в «Поэте» используются образы, совпадающие местами едва ли не дословно.
Оба женских персонажа уподоблены незабудке. Голубой цвет символизирует для Хлебникова эмоциональное начало и поэзию, созидательную силу.7![]()
![]()
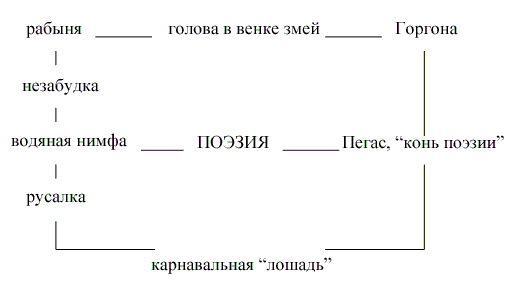
У рабыни и у русалки синие глаза (тот же цвет символизирует поэзию); им обеим угрожает чистый разум своим безжалостным требованием рационализма и однозначности. Рабыня, русалка, “конь поэзии” — родство между ними налицо.9![]()
А я сосватал в браке странном
корову с соловьем,
огниво и кремень,
а иногда и ночь и день,
бык и бог.
(125, 19)
Хлебников неустанно искал принцип объединения противоположностей и сформулировал его в виде закона качелей. В разных его произведениях это объединяющее начало именуется по-разному. В «Досках судьбы», например, читаем:
Видимо, эти сочетания чисел заинтересовали Хлебникова потому, что оба они выражают единство (в плоскости одного действия) двух противоположных состояний (213 и 132). Тем не менее, существенно, что симметрия здесь чисто зрительная. Судя по всему, в хлебниковских играх с числами формальная сторона не менее важна, чем в его играх со словами.
Сходная тенденция к объединению противоположностей, но на уровне слов, усматривается, скажем, в раннем хлебниковском стихотворении в прозе «Белокурая, тихорукая, мглянорукая даль...» (1908):
В слове весень срослись два противоположных слова (весна и осень), образуя гротескный, химерический гибрид. Весень хохочет (весногубый), но смеющийся рот парадоксально помещен на печальном лице (осеннеликий). Собственно, все стихотворение является свидетельством всепоглощающей страсти к слиянию различных слов и корней. Возникает впечатление, будто слова едва ли не творят своего рода весенний ритуал, отмечают свой праздник плодородия:10![]()
Ни один из разнородных компонентов, складывающих слово, не стоит на месте, и возникает эффект семантического мерцания. В другом месте рукописи, содержащей это стихотворение, Хлебников отметил:
Ряд свойств поэзии Хлебникова происходит из его увлечения “двуликими” словами — например, явственная тяга к омонимии. Не будем забывать, в омонимах сам язык творит слова с двойным значением. В повседневной речи омонимия, как правило, нежелательное явление, поскольку возможно быть неверно понятым, и ее стараются так или иначе избегать. С другой стороны, в поэзии омонимы, сближая разнородные смыслы, порождают семантическое напряжение, что, по крайней мере со времен ломоносовской теории изощренных сравнений (“сопряжение далековатых идей”), считается желательным качеством. Хлебников пытался как вдохнуть новую жизнь в уже существующие омонимы, так и создать новые, свои. Например, следующее стихотворение, своего рода коротенькая ода омонимии:
Основа стихотворения — очевидный омоним “коса”. Соответственно, параллельная грамматическая конструкция “то — то” предлагает расценивать “меру” и “сон” тоже как омонимы. Со словом “мера” Хлебников полагается на два его общепринятых значения: мера (зерна) — которая полна овса — и мера как стихотворный размер (который волхвует словом). Таким образом возрождается омонимия, уже существовавшая в русском языке. С другой стороны, “сон” — это окказиональным омоним (по выражению Хлебникова, живущий веком мотылька). Однако, два значения, которые поэт видит в слове “сон” — весенний снег и левая Дума, — связаны теснее, чем два значения слова “коса”, и мотивирована их связь лучше. Сопоставляя весенний снег и левую Думу, Хлебников исходит из семантического свойства летучести, неустойчивости, мнимости (ср. сон / сновидение и выражения типа “это было как сон”, “это прошло, как во сне”). Связи между сном и левой Думой способствует определение “непрочная” — то есть, левое правительство в Думе недолговечно и мнимо, подобно сну. Отношение между сном и весенним снегом не только семантическое (весенний снег — никак не образец постоянства), но также и фонетическое: СОН — СОсед СНега всСНОй. В словах “снег” и “весной” налицо те же звуки, что и в слове “сон” (ср. также “весна” — “во сне”): то есть, “сон” — сосед снега весной в фонетическом смысле. Нам снова напоминают, что все слова “двулики”: один лик — фонетический (обозначаемое), другой — семантический (обозначенное). Или, говоря словами самого Хлебникова («О современной поэзии»: май–июнь 1919, опубл. 1920):
Интересно отметить, что Хлебников сопоставляет “фонетическую жизнь” слова с весной, временем цветов и любви, тогда как “семантическая жизнь” слова уподоблена им осени, поре урожая, семье и детям. Фонетически слово облачено в прекрасные цветы, а его семантический наряд составляют тучные овощи. Слово — живой организм, растение со своим жизненным ритмом, подвластное чередованию сезонов. Слово движется по кругу, подобно небесному телу, — иногда фонетика вращается вокруг семантики, иногда, наоборот, семантика вокруг фонетики. Итак, опять налицо главный интерес Хлебникова — к состоянию равновесия и чередованию противоположностей.
Любопытно, как Хлебников развивает потенции омонимической игры, на которой построена русская шуточная поговорка „три да три будет дырка“:
Хлебников толкует поговорку не так, как принято: три два раза повторенное даст 6 ‹...› и становится делящимся на два. То есть, Хлебников отмечает переход от отрицательного (3 — нечетное число) к положительному (6 делится на 2). Противоположности уничтожают друг друга, давая “нулевое состояние” (нуль = дырка). Вдобавок, между словами “три” и “дырка” налицо оппозиция Т–Д, рассмотренная выше. По мнению поэта, юмор поговорки заключается в переходе от мира языка к миру чисел (посредством омонимии). Интерпретация поговорки Хлебниковым построена подобно загадке:
“Смысл” загадки, согласно Хамнетту, не в том, чтобы ее решить, а чтобы:
Хамнетт затрагивает также тему сходства между загадкой и шуткой. Понимая загадку, как ее определял Хамнетт, можно утверждать, что в творчестве Хлебникова данная форма немаловажна. Поэт пребывает в неустанном поиске явлений и слов, способных служить посредниками между различными мирами. Его увлечение омонимами — лишь часть этой обшей тенденции.
Другой пример — следующее примечание, которым Хлебников снабдил свое стихотворение «Крылышкуя золотописьмом» (опубл. 1912):
Слово крылышкуя скрывает слово “ушкуй” — и его потенциальное значение готово, подобно греческому войску из Троянского коня, в любой момент вырваться наружу. Благодаря потайному “ушкую”, крылышкуя делается столь же рискованно-увлекательным, как путешествие вдоль по русской реке в средние века: Хлебников одновременно играет и со значением слова (“ушкуй” = пиратский корабль), и с его формой. Превыше всего Хлебников ценит скрытое слово; поэзия для него — это, в первую очередь, искусство создания семантических сложностей, преодолеваемых лишь с помощью умственного напряжения. В своем стремлении возбуждать умственную активность он напоминает поэтов барокко или древнеисландских скальдов.11![]()
Скрытые смыслы (и связанная с ними неоднозначность) вдохновляют Хлебникова настолько,12![]()
Таким образом, высшей формой поэзии является поэзия, насыщенная скрытыми, тайными значениями, организованная подобно загадкам, анаграммам и т.п. Не исключено, что увлечение Хлебникова палиндромами также происходит от предпочтении “двойной речи”. Для Хлебникова палиндром — это не просто словесная игра, скорее воплощение на формальном уровне идеи “обратного духа”. Слово ‘палиндром’ буквально означает ‘нечто возвращающееся [по собственным следам]’, и Хлебников всегда называл эту форму поэзии русским словом ‘перевертень’ (в котором присутствует значение “полного оборота”).14![]()
А однажды, пытаясь вычертить график своего творческого ритма, Хлебников заметил о поэме «Разин»:
В самом деле, когда стихотворение-палиндром “оборачивается”, то при движении вспять звуки несут повторную смысловую нагрузку. В блестящем начале «Разина» (которое в опубликованном тексте почему-то опущено) — Я РАЗИН И ЗАРЯ (13, 5) — сквозь имя волжского атамана брезжит красное пламя бунта и восхода.
По-видимому, палиндром означал для Хлебникова нечто большее, чем просто словесную игру, — так считают и другие исследователи (Markov 1962: 157; Cooke 1980: 22). На стихотворном уровне палиндром есть отрицание однонаправленности, линейное чтение заменяется в нем круговым, что вновь напоминает о поиске Хлебниковым гармонии и равновесия. Впрочем, отважусь на еще более смелую гипотезу. Полагаю, что в случае палиндрома «Разин» мы имеем дело сразу с двумя текстами: в одном направлении строки говорят о волжском бунтаре, а в другом — о поэте Хлебникове, т.е. на автобиографических отсылках выстраивают фабулу. Хлебников расценивал Разина как своего отрицательного двойника, и это видно по целому ряду текстов (см., например, прозаический фрагмент «Разин»). В поэме «Труба Гуль-Муллы» (I, 233–245) — первоначальная редакция поэмы «Тиран без Tэ» (1986, 348–358), — отличающейся от большинства произведений Хлебникова сравнительной прозрачностью, поэт говорит о себе: Я — Разин напротив, // Я — Разин навыворот. Если Разин девушку убивал (Разин деву // В воде утопил), поэт поступает наоборот и спасает ее (Что сделаю я? Наоборот? Спасу!). В контексте поэзии Хлебникова дева может быть связана с русалкой, его поэтической музой. И если Разин бросил невинную деву в реку (превратив в утопленницу, т.е. в русалку), поэт спасает ее своим поэтическим даром (Он грабил и жег, а я слова божок). Равновесие восстановлено.
На диаграмме, изображенной Хлебниковым для установления творческого ритма, он обозначил этот палиндром «Разин –1», то есть “Разин минус единица” (125, 52), показывая тем самым, что каждая строка может быть прочитана как слева направо (в положительном направлени), так и справа налево (в отрицательном направлении). Тем не менее, палиндром — это не просто два текста в одном, а своего рода законченное целое, где конец текста (у Хлебникова — строки) становится началом и наоборот, так, что текст может читаться по кругу.
В одном небольшом стихотворении Хлебников уподобляет искусство поэзии круговому полету (создав специально для этой цели неологизм омчаться»):
В данном стихотворении лирическое “я” охарактеризовано как данник мирооси, то взмывающий над бездной, то задевающий ее край, и движение это уподоблено вращению колеса. В таком контексте слово мироось приводит на память хребет вселенной из стихотворения «Числа», где волнообразная пляска хребта сопоставлена с колебаниями коромысла. В рассматриваемом стихотворении поэт воспроизводит то же движение вверх—вниз, уподобляя лирическое “я” гимнасту на трапеции. Поэт стремительно колеблется между высоким и низким, объединяя противоположности, примиряя в полете фантазии непримиримое. Словесо, видимо, создано по аналогии с уже существующей парой ‘коло’ — ‘колесо’. В то же время старославянская основа “словес” напоминает о “плетении словес” — средневековом литературном стиле, изощренность которого и тенденция к эклектичности имеют много общего с поэзией Хлебникова.
Прибегая в XVII столетии к акростиху («Радуйся благодатная»), монах Герман, видимо, преследовал цель усилить воздействие молитвы (см. Панченко 1970: 19). Акростих — это не просто орнамент, он организует буквы в некий новый текст, взаимодействующий с внешним текстом. Подобно палиндрому, нарушающему линейность стихотворения, акростих или анаграмма придают тому несколько направлений. Анаграмма способна выделять и углублять смысл текста, комментировать его и даже полемизировать с ним. При помощи анаграммы поэт может зашифровать в тексте некую информацию — скажем, личного плана. „Мая месяца болезнь”, оставляет Герман анаграмматический меморандум в тексте «Память предложили смерти» (Панченко 1970: 19), который тем самым приобретает автобиографический аспект. Встроенные слова могут вдобавок образовывать новый текст, служить его ядром (подобным свойством обладает также и эпиграф) — например, если в основном тексте при помощи анаграммы зашифровано имя автора. Самое интересное в подобных “двойных текстах”, это как взаимодействуют друг с другом его составляющие.
Рональд Вроон отмечает, что, „за редкими исключениями, [у Хлебникова] анаграмматически зашифровываются древнеславянские божества и героические персонажи российской истории” (Vroon 1983: 178), и приводит в качестве примера бога весны Ярилу:
Ярила, предвестник весны и новой жизни, помогает здесь рождению поэтического слова, прежде вынужденного довольствоваться “журчанием” в тщетных попытках пронизать оболочку немоты.
Полагаю, что чаше всего Хлебников зашифровывал в своих стихах имя тени и двойника его лирического “я” — Разина. В поэме «Это парус рекача...» (III, 202–205) оно заменяется „сонмом синонимов” (Vroon 1983: 137), а явно не фигурирует ни разу (за возможным исключением строк: И шишак пылает зарин, // Овца волков синевы). Можно подумать, в данном произведении на это имя наложено своего рода табу — которое распространяется также и на сподвижников Разина (чье название, ножведи, образовано по аналогии со словом ‘медведь’ — т.е., те, кто ведают нож, бунтовщики). Где они, там смерть (мородеи); они гордятся кровавыми лужами, которые оставляют за собой (кровавыми лужами гордеи: зд. гордей — неологизм, образованный Хлебниковым от прилагательного ‘гордый’ по аналогии со словами, оканчивающимися на “-дей”, скажем, “лицедей”). На причиняемые ими страдания они смотрят как на веселую игру, убийство для них — это карнавал (То свирелями войны // Просвистали бедогуры; зд. бедогур — неологизм, образованный от ‘беды’ по аналогии с ‘балагуром’; см. Vroon 1983: 136). Вся поэма воспринимается как одно сплошное упражнение в изобретении синонимов, что соответствует и древней традиции табуирования, и поэтической практике, особенно “поэзии мысли” (см. Ларин 1927: 64–65).
Если в поэме «Это парус рекача...» имя Разина функционирует как минус-прием, во многих других произведениях Хлебникова оно выведено на первый план. А длинный палиндром «Разин» (I, 202–215), как и следовало ожидать, весь проникнут звуками этого имени в самых различных сочетаниях. Наибольший интерес представляет палиндромическое слово низарь (мы, низари, летели Разиным), возникающее подобно музыкальному мотиву в начале и в конце поэмы. Полагаю, что под низарями подразумеваются не просто выходцы из низовий (Волги) или низших слоев общества (повстанцы, соратники исторического Разина): если предположить, что разинская фабула в поэме сливается с мифологизированной автобиографической фабулой (Хлебникова), можно сделать вывод о некой связи между низарями и футуристами, бунтарями от поэзии. Что до революционного потенциала последних, то вспоминаются следующие строки из «Ладомира»:
То есть, именно футуристы с 1905 года (с дней Носаря) не давали потухнуть пламени революции. Огонь и пламя также важны, когда речь идет о деяниях Разина и его сподвижников: А вера зарева // Манит детинам или Черевик иве речь: // Жениху запрет сок костер пазухи неж! (ср. За пазухой ‹...› зажженный порох).
Но связь низарей с поэтами проходит также через “водное царство” (низовья Волги / вологи). Вода (Волга / волога, влага) является важным элементом поэтики Хлебникова, причем носителем поэтического начала выступает, прежде всего, русалка — связанная с потусторонним миром и обрядами плодородия (см. разд. IV, «Поэма “Поэт”: анализ строк 273–285, 365–418 и закл. о “карнавале” в поэме). Разин же связан с “водным миром” через свою фамилию, так как Ра — второе название Волги, и Хлебников постоянно играет на синонимии Волга — Ра: Настала красная пора // В низовьях мчащегося Ра («Хаджи-Тархан»; I, 119; 1986, 248), или На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса; лотос из устья Волги, или Ра («Ка»; IV, 69; 1986, 536). Но Ра — это также имя бога солнца в древнем Египте, и посредством омонимии устанавливаются сложные связи между солнцем (огнем) и водой, Нилом и Волгой, Египтом и Россией. Как действует эта омонимия, можно видеть на примере стихотворения «Ра — видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде...»» (III, 138) (1986, 148); см. Faryno 1985. Это стихотворение насыщено анаграммами: при обшей его длине шестнадцать строк, Ра анаграмматически зашифрован в десяти, а Разин — в семи строках (Vroon 1983: 178). Ничуть не менее анаграмм интересен синонимический ряд, развернутый исходя из второй части имени Разина: ЗИНы — ЗеРы — глАЗа — очи (Faryno 1985: 126). В фамилии Разин заключены не только стихия огненная (солнце) и водная (Волга), но также способность проницать взором суть вешей: „Зериться — зырить, назирать, зорко всматриваться” (Даль, I, 680).
В поэме «Хаджи-Тархан» Хлебников развивает тему связи Волги и Нила. Египет (Африка) вписывается в астраханский пейзаж:
Появление Озириса в русской реке особенно интересно ввиду египетского мифа о том, что тело Озириса было сброшено в Нил, а также из-за связей этою бога с потусторонним миром и обрядами плодородия (Мифы народов мира, II, 267). То есть, налицо функциональное сходство египетского бога и русской русалки. Но Озирис интересует нас еще и потому, что в звуке его имени — АЗИРис — слышится часть имени Разина. Более того, в рукописи Хлебников связывает Озириса с солнцем (Ра) и мифом о том, что, перемещаясь ночью в подземном мире, Ра принимает облик Озириса. Хлебников даже обнаруживает внутреннюю (фонетическую) взаимосвязь между скрытым солнцем (Озирисом) и зарей:
Отношение между зарей (озариться) и Озирисом представляет дополнительный интерес ввиду той параллели, что проводится между лирическим “я” и зарей («Я Разин и заря»). Этот фонетический комплекс (Разин — заря — Озирис) порождает сложный образ, который, судя по всему, служит в произведениях Хлебникова своего рода авторской маской. Например, автобиографичность замороженного Озириса совершенно очевидна:
Это стихотворение было написано в декабре 1920 года (1940, 415), и восход атома звука, предвещаемый замороженным Озирисом, явно соотносится со “звездным языком” Хлебникова.
В заключение укажем на связь между встречающимся у Хлебникова словом коромысел и водной стихией. В поэме «Разин» часто упоминается водная растительность — ивы, купавы, тины, черевик — и особенно прибрежная осока.
То есть, Разин — житель осок, откуда он делает внезапные набеги на панов, которые, конечно, враждебны этой (опасной) растительности. Другой житель, также делающий среди осок, — стрекоза (коромысел):
Видимо, низин лес — это парафраз осоки, обильно произрастающей в волжском устье.
Слово морок используется здесь в значении “шалун, повеса” (Даль, II, 348). Коромысел — проказник волжских болот, очень похожий на самого Разина. Не исключено, что и Разин, и коромысел подразумевались как авторские маски.
Бабочка, летающая над водой, фигурирует и в «Единой книге» (первая часть сверхповести «Азы из Узы») — когда реки всех континентов, в том числе Волга и Нил, стекаются в одну большую книгу вод:
Трепетанье крыльев синей бабочки созвучно шелесту страниц поэтической книги, на обложке которой голубыми буквами написано имя ее творца.
Имя поэта Зангези в одноименной свсрхповести также имеет водную природу: африканская река Замбези плюс священная река индусов Ганг. В имени Зангези реки отражают одна другую, вторят друг другу эхом, точно соответствуя сущности начального звука: З — созвучное колебание отдаленных струн. ‹...› Отражение. Зеркало, зой (эхо), зыбь (отраженная буря) ‹...› («Перечень. Азбука ума»: V, 207) или Вы видали, как Ганг тихо струится в Зангези, // Зоями художника зван («Что делать вам...»: V, 117). Напомним, что одним из воплощений Зангези являлась бабочка, стершая синее зарево со своих крыльев, когда билась о твердое оконное стекло судьбы и человечества. В словах “СИНее ЗАРево” (воплощение поэзии) налицо анаграммы и Разина, и зари, и Озириса, что подтверждает предположение, будто все эти образы суть авторские маски.
Что если коромысел, бабочка и мотылек вместе взятые складываются в образ поэзии и поэта? Словарь Даля дает на ‘бабочку’: „бабуля, бабушка, бабура, бабурка, пестрокрылое насекомое, мотыль, мотылек // Бабуля, бабушка, бабурка, бирюзовая стрекоза, коромысел” (Даль, I, 34).
Уже в 1908 году Хлебников использует слово ‘мотылек’ в контексте словообразования: Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька (1940, 323) (1986, 580). Окказионализм корнемысло / корнемысел, имеющий значение “смысл слова” (см. Vroon 1983: 13, 23). также приводит на ум пару “коромысло / коромысел”, по образцу которой и кажется созданным:
В поэме «Каменная баба» заглавный персонаж оживает, когда глаз его касается мотылек. Символично, что крылья у воздушного бродяги — синего цвета, цвета поэзии (см. ниже в этом же разделе гл. 4, «Противоположности» (заключение), а также разд. IV, «Поэма “Поэт”: анализ строк 234–272):
Наиболее любопытны в этой связи “японские” прозаические наброски Хлебникова («13 танка. Чао»), где героиня разносит ведра звука, бабочек и мотыльков (уж не коромыслом ли?) и плещет из них “по слуху”:
Действия Чао гармонируют с ее именем (ведра своего имени), которое начинается с “Ч”, а в хлебниковском “звездном языке” эта буква связана с равновесием:
Чао есть воплощение звука “Ч” — и, соответственно, устройств, связанных с равновесием: рычаг (коромысло), ведра / водоносное древо (коромысло). А вода в ее сосудах — это вода бабочек (коромысла?), похищенная у небес.
Идеей равновесия проникнуты не только «Доски судьбы». Равновесие кладется в основу как утопических построений, так и словообразования. Например, ЛАДОМИР можно расшифровать так: мир, гармония (лад) и любовь (лад) во всем мире. Это слово-зеркало, слово-мир, в котором составляющие элементы уравновешивают друг друга (мир—лад—лад—мир). В грядущем мире равновесия все противоречия будут разрешены, и откроется формула, связывающая движение и гармонию, труд и лень:
Существует глубокая связь между интересом Хлебникова к омонимам и его словообразованием. У многих его неологизмов корневая основа имеет как бы двойное происхождение (что дополнительно затрудняет расшифровку): используются сочетания, фонетически сходные, но отличные по смыслу. Например, группа “инь, инеса, инеть” явно происходит от слов как ‘иней’, так и ‘иной’ (см. Vroon 1983: 133–135). В таком случае между смысловыми источниками, с точки зрения семантики, имеет место своего рода колебательное движение, которое может продолжаться едва ли не сколь угодно долго.
Неотъемлемая черта загадки — анаграмматическое строение. Судя по всему, интерес Хлебникова к данному жанру словесного творчества более чем закономерен, и не исключено, что фраза слова ‹...› стекло для смутной тайны (см. выше) подразумевает именно загадки, во множестве содержащиеся в произведениях поэта.
Загадочность поэзии Хлебникова лишь усугубляется постоянным смещением акцентов с внешней формы слова (звуковое строение) на его смысл (семантическое строение) и наоборот, а также размыванием лингвистической границы между фонемой и лексемой, нашедшим окончательное выражение в “звездном языке”. Нередко стихи его можно читать на двух уровнях, причем второе прочтение, метатекстуальное, как правило, выявляет представления Хлебникова о семантическом значении звуков и букв. Например, в строке 60 поэмы «Поэт» читаем: Так весна встает от сна. Буквальный смысл — весна пробуждается от (зимнего) сна — можно продублировать фонетическим: слово “весна” избавляется от “сна”, и остается “ве”. В “звездном языке” Хлебникова Вэ значит вращение одной точки около другой (круговое движение); то есть, рассматриваемая строка содержит зашифрованную аллюзию на возврат в небеса вращающегося солнечного диска (в поэме описывается празднование весеннего равноденствия).
В отдельных случаях загадка может быть предназначена для иллюстрации свойств той или иной буквы в азбуке ума (“звездного языка”). Таков, например, ребус в стихотворении «Испаганский верблюд», скрывающий имя Абих. Р.П. Абиху принадлежала чернильница в форме верблюда (“двойной” предмет), которая и вдохновила Хлебникова на создание стихотворения (V, 379).
Как показал А. Парнис, в ребусе участвуют следующие слова. Во-первых, ‘хабих’ (Хлебников сам поясняет: Хабих — по-германски орел; III, 379; 1986, 143), от Habicht (ястреб). “Хабих” без “X” становится Абихом, каковая фамилия, в свою очередь, есть палиндром ‘хиба’ — по-украински ‘разве’; ср. у Хлебникова: Хиба я не знаю? недовольно отвечала та, подымая руку («Велик-день»; V, 121: 1986, 507). Потерянное “X” ищется также в колосе ржи, из которого производится хлеб (возможная отсылка к фамилии самого поэта); см. Парнис, 1967: 162–163.
Чем обусловлена такая игра с буквой “X”, видно из хлебниковского определения: X — это то, что не существует вне покровов, само по себе осужденное не существовать, хитрый, двуличный, спрятанный («Перечень. Азбука ума»: V, 208). То есть, в стихотворении зашифровано как имя Абих, так и ссылка на “звездный язык”. Первая аллюзия автобиографична, вторая же метатекстуальна, поскольку рассматриваемые строки служат иллюстрацией сущности “X” (“спрятанное”).
Хлебниковское выражение самовитое слово означает слово, ориентированное на себя самое, занятое собственным витием, плетением. В этом витии задействованы все компоненты слова, как семантические, так и фонетические:
Сквозь “бытовой” смысл слов брезжит их “звездное” значение (безусловно связанное со “звездным языком”), и в результате действий поэта — “строителя”, зодчего — нам открываются новые созвездия.
Одно такое загадочное стихотворение было включено Давидом Бурдюком в сборник «Требник троих» (1913). История публикации и интерпретации данного произведения весьма показательна, так что есть смысл остановиться на нем подробнее, хотя бы из методических соображений.
В «Требнике троих» текст стихотворения выглядит так:
Такая разбивка по строчкам могла возникнуть под влиянием Маяковского, и осуществил ее, видимо, Бурлюк. Сам Хлебников почти никогда не представлял поэзию искусством также и графическим: в “словесном бисере”, испещряющем страницы его рукописей, паузы и акценты обычно никак не выделены.
Данный отрывок (считавшийся до 1940 года законченным стихотворением) был проанализирован в 1925 году году Борисом Лариным в полной тонких наблюдений статье, озаглавленной «О лирике как разновидности художественной речи» и посвященной особой сущности поэзии (опубл. 1927). В статье Ларин отмечает, что если мы хотим понять, какое влияние способно оказать то или иное стихотворение на литературный процесс, и какую эстетику оно возрождает, необходимо рассматривать его на фоне какой-либо “поэтической традиции”. Адекватным фоном для анализа «Немь лукает...» он полагал эстетику символизма, и в трех стихотворениях символистов — одно Вячеслава Иванова и два Андрея Белого (см. приложение) — Ларин усматривает определенное тематическое сходство с анализируемым. Во всех трех стихотворениях речь идет о последних лучах заката и о тишине, наступающей с приходом ночи („безмолвие вечера и звучание заката, горенье ночи над темной землей”; Ларин 1927: 47). Что же тогда отличает стихотворение Хлебникова от этих трех символистских, в чем его новизна? Ларин считает, что все дело в хдебниковскпх неологизмах, которые затрудняют понимание и, вынуждая читателя делать над собой усилие, как бы вышибают его из привычной языковой колеи:
По аналогии со словами ‘ночь’ (которое присутствует в тексте) и ‘неметь’, Ларин интерпретирует окказионализм немь как безмолвие. Закричальность ассоциируется им с многочисленными словами на “-ость” из репертуара Бальмонта и Брюсова, но при этом Ларин оговаривает, что хлебниковский неологизм отглагольный и, таким образом, отличается от типично символистских абстрактных существительных наподобие “запредельности”. Глагол ‘закричал’ он рассматривает как разговорный, а в закричальности ощущает „конкретность и доверительность, подобные детскому языку”. Необычное — по мнению Ларина, диалектное — ‘лукает’ („лукать, лукнуть: метать, бросать, швырять; Не лукай в собаку. Лукнул в окно камнем”: Даль, II, 272), благодаря словосочетанию лукает луком, отчасти восстанавливает свой первоначальный этимологический смысл, а по контрасту с устоявшимся оборотом “стреляет луком” обретает свежесть, оригинальность. По Ларину, эта “словесная осязаемость” препятствует передаче читателю “чувств” поэта. Стихотворение Хлебникова и не направлено на передачу эмоций (“эмоциональное заражение”), что, по мнению некоторых, составляет отличительное свойство поэзии; напротив — сложные слова будят не чувства, но ум и аналитические способности. Таким образом, Ларин одним из первых осознал, что поэзия Хлебникова интеллектуальна и основывается на семантической сложности.
Хотя Ларин рассматривал стихотворение Хлебникова “на фоне” только символизма, он осознавал и другой его контекст, не менее важный для интерпретации:
Речь идет о чисто авторском литературном контексте, то есть, обо всей совокупности произведений поэта, отражающей его мировоззрение, о его связях с окружающей реальностью и неведомым, о его концепции языка — словом, обо всем том, что в наши дни называется поэтическим миром. Ларин в своей статье признает, что не может вдаваться в “скрытую значимость” стихотворения, подчиняющуюся особым законам „второго смыслового ряда” (Ларин 1927: 54)
В 1940 году Николай Харджиев опубликовал полный текст хлебниковского стихотворения (1940, 106) (1986, 42):
То, что ранее представлялось стоп-кадром, зародышем действия, развилось в динамичную панораму борьбы двух антагонистов. Впрочем, понятней стихотворение не стало; смысл затемнен еще одним неологизмом (стожала) и намеком на вещий язык (прорицает тишина). Наименее ясна строка, которую можно рассматривать собственно как прорицание (Лук упал из рук упавном); ее звуковой строй вызывает ассоциации как с загадками, так и с магическими заклятьями.
Моймир Грыгар, как и Ларин, рассматривал данное стихотворение в контексте поэзии символизма (1980), однако обнаружил стихотворение Валерия Брюсова (см. приложение), несущее черты еще более разительного лексического сходства с Хлебниковским, чем примеры, найденные Лариным. Особый интерес представляет брюсовский образ надвигающейся ночи как охотника с луком. Впрочем, Грыгар даже не задается вопросом, отталкивался или нет Хлебников от стихотворения Брюсова, а вместо этого сравнивает произведения между собой, дабы продемонстировать различный подход поэтов к сходной, по его мнению, теме. Брюсовское стихотворение логически выстроено вокруг двух метафор: ночь — охотник с луком, закатное солние — стая павлинов с распущенными хвостами. Охотник стреляет из лука, птицы падают на землю, тьма торжествует над ослепительным многоцветьем заката. В стихотворении Хлебникова, напротив, иллюзии реальности не создается, и никакой явственный образ не приходит читателю на ум. Вместо этого господствует “сама осязаемость стиха”, обильные звуковые повторы. Слова и мотивы, которые у Брюсова не представляют для читателя ни малейшей трудности, „в хлебниковском тексте теряют ясность и вызывают изменчивые, неоднозначные впечатления и толкования” (Grygar 1980: 118). Грыгар заключает, что Хлебников на самом деле куда больший символист, нежели Брюсов: в тексте Брюсова нет символов, нет таинственности, тогда как хлебниковский текст темен и загадочен:
Тем не менее, хотелось бы отметить, что загадочность поэзии Хлебникова в корне отлична от “таинственности” символистов. Неоднозначность хлебниковского текста имеет конкретную лингвистическую природу и качественно отличается от символистского представления о словах как масках или тусклых отражениях мира “за гранью”; символисты не вкладывают в слова определенного смысла, буквального или метафорического, а посредством слов пытаются намекать на нечто смутно очерченное. В хлебниковском же словоупотреблении размытость контуров проистекает не от неверия в способность слов обозначать явления, а, напротив, от преувеличенной веры в могущество слова, от стремления до предела наполнить слово смыслом. Хлебников “начиняет” слово множеством семантических ядер, и читатель оказывается на распутьи.15![]()
Дополнительную трудность при расшифровке хлебниковских стихов составляет индивидуальный язык поэта, со своими скрытыми закономерностями (идиолект). Дабы овладеть этим кодом, одной “поэтической традиции”, к которой апеллируют Ларин и Грыгар, мало — необходимо изучить все тексты Хлебникова, и теоретические, и художественные. Одним из первых, кто осознал значение идиолекта в поэзии Хлебникова, был Мандельштам, писавший в статье «Буря и натиск» (1923):
Если говорить о самом Мандельштаме, то уже давно признано, что смысл слова в его поэзии определяется индивидуальным мандельштамовским контекстом, включающим все его произведения:
Особенно это применимо к некоторым ключевым словам и семантическим комплексам, постоянно фигурирующим в его поэзии (например, “лесорубный” комплекс: срубы, пилы, древесина, топор, смола, и т.д.; см. Гинзбург 1972: 317–319). Мандельштама принято считать “трудным” поэтом; он выдумывает загадки, зашифровывает имена и ключевые слова, широко пользуется “смыслотворными” возможностями звукописи. На раскрытие секретов поэзии Мандельштама были затрачены немалые усилия. Что касается Хлебникова, изучение которого тоже выиграло бы от такого подхода, его традиционно считали типичным представителем футуризма — и, соответственно, многие аналитики, уткнувшись в “шершавую” поверхность его текстов, с энтузиазмом регистрировали множество языковых неправильностей, как бы подтверждающих манифесты движения, и даже не пытались проникнуть в смысл.
Анализ стихотворения «Немь лукает...» в контексте хлебниковского идиолекта может открыть новые возможности для интерпретации. Разберем последовательно три варианта прочтения — в зависимости от того, какое из значений полисемантического слова немь будет выбрано в качестве основного. Как отмечено выше, прочтения эти не взаимоисключающие; напротив, накладываясь друг на друга, они образуют единое смысловое поле.
1) Битва между светом и тьмой.
Немь ассоциируется с “тьмой” по морфологической аналогии со словом ‘ночь’, присутствующим в тексте. Ассоциация усиливается прилагательным немный, созданным по аналогии с ‘темный’. В восьмой строке, где свет / звук контратакует, устанавливается непосредственная связь между словами немь и темное: закричальность ‹...› боем в темное пошла, т.е. на немь. В пользу отождествления неми с тьмой свидетельствует, разумеется, и то, что немь противостоит заре.
2) Битва между немотой и звуком / голосом / словом.
Важное значение неми — немота. Это не просто молчание или тишина, а невозможность издать звук, вынужденное молчание: скорее особое свойство, нежели временное состояние. В стихотворении данный смысловой оттенок дополнительно акцентирован введением еще двух слов со значением “молчание”. Звук / свет “берет молчание в шит” для обороны (шестая строка), то есть прибегает к оружию, родственному неми, но превосходящему ее (поскольку добровольно). “Третье молчание” фигурирует в тексте как тишина — крылатая сивилла, прорицающая исход сражения, подобная судие, который балансирует между двумя антагонистическими силами. Не будучи ни свободной, ни понуждаемой, она воплощает молчание в чистом виде и поэтому наделена правом судить. Негативный аспект неми (не-звука) может быть подкреплен экскурсом в соответствующий раздел “звездного языка”.16![]()
Семантическое свойство “неспособность говорить” дополнительно акцентировано тем, что противник неми в битве — закричальность. В этом неологизме приставка “за” подчеркивает начато действия (ср. ‘закричал’), рождение звука, явление слова. Закричальность — это нечто подвижное, изменчивое, противопоставленное молчанию, косному мраку неми. Свойство подвижности выделено определением столика (краткая форма прилагательного ‘столикий’); видимо, оно означает способность к метаморфозам, умение принимать разные обличья (“сто ликов”). Второе определение, стожала, может быть интерпретировано — по аналогии со столика — как “имеющая сто / много жал”. Эта ассоциация с пчелой проясняется в контексте русского фольклора, в котором солнце и пчела являются предвестниками весны, возрождения жизни (Мифы народов мира, II, 354–355). Восходящее солнце (заря) и звук изреченный (закричальность) утверждают жизнь в противовес мраку, немоте и пустоте неми.
3) Битва между германством и славянством.
Исследуя хлебниковские неологизмы, Рональд Вроон показал, что самим Хлебниковым немь ассоциировалась с немцами, т.е. не славянами (Vroon 1983: 71). Это значение станет очевидным, если сравнить «Немь лукает...» с «Боевой» песней (см. приложение), написанной, вероятно, в то же время или раньше (опубл. 1914):
Таким образом, немь принадлежит к той же языковой парадигме, что и славь, которая в хлебниковском поэтическом мире выступает противоположностью неми. Возможно, что своего рода прототипом этих неологизмов послужили слова, обозначающие народности и места их обитания — наподобие “Чудь”, “Русь”. То есть, битва между тьмой и светом, речью и молчанием приобретает исторический аспект (вражда славян и германцев). Проблема противостояния Востока и Запада отражена во многих хдебниковских текстах, и наиболее явственно — в «Досках судьбы», где имеются несколько пар оппозиций, сводящиеся к противопоставлению Востока и Запада. Если немь соответствует западу и всему западному (волна неми с запада яростно бьющей), то заря, цель атаки, должна, по всей видимости, соотноситься с востоком, где восходит солнце и живет Славь. Таким образом, в стихотворении речь идет не о закате (как у символистов), а о восходе, о начале света и звука: перед нами отнюдь не очередная вариация излюбленного символистами мотива, со всеми его эсхатологическими созвучиями, а, напротив, гимн жизни.17![]()
Народное творчество немыслимо без “словотворчества”, что Хлебников подчеркивал еще в «Кургане Святогора» (1908):
Таким образом, битву славян и не-славян можно рассматривать как сопротивление “творцов слова” вторжению немоты.18![]()
То, что в сражении одерживает победу “заря / закричальность”, подтверждается пророческими словами тишины-сивиллы (она же Фемида): Лук упал из рук упавном. Унисонный строй фразы (лук упал из рук упавном) придает ей — в сочетании со следующей строчкой (Прорицает тишина) — звучание загадки-пророчества. Упавном возможно интерпретировать как творительный падеж единственного числа неологизма упавен. Упасть упавном скорее всего создано по аналогии с выражениями типа “сидеть сиднем”, “лежнем лежать”. Для мифологических текстов типично, что в них одновременно фигурируют пророчество и его осуществление. Аналогично и в стихотворении Хлебникова: вынеся вердикт (который также обозначает конец битвы), тишина улетает прочь. Космическая битва между “светом / звуком / славянством” и “темнотой / молчанием / германством” окончилась.
Когда кусочки головоломки расставлены по местам, становится ясно, что противником неми является семантический комплекс “славянство — восход — звук (слово)”. В стихотворении зашифрована фонетическая цепочка СЛАВь — СОЛнце — СЛОВо, а по законам поэтического мира Хлебникова фонетическое сходство означает семантическое родство. На “звездном языке” буква “С” выражает “умножение” и “объединение” (ср. С — ось объединения племени; V, 206). Хлебников приводит следующие примеры слов, обладающих этим свойством: собрание, семья, стадо, семя (V, 206), но также солнце, слово, слава и сто; последний пример особенно интересен в связи с формами столика и стожала. Единство этого семантического комплекса подтверждают следующие строки рукописи:
“Славь”, “солнце” и “слово” играют роль тайнописи, фигурируя в стихотворении лишь отраженно — как “заря” и закричальность (в “звездном языке” слова, начинающиеся с “З”, воплощают отражение. Зеркало, зой (эхо) ‹...›; V, 207).
Итак, ключевым словом является самое первое — немь; его полисемия указывает, как именно следует интерпретировать все стихотворение (ср. с проницательным высказыванием Якобсона: „полисемия — рычаг поэзии Хлебникова”; Jakobson 1981: 574). Немь поражает читателя и будит в нем любопытство; читатель принимается размышлять о возможных смыслах, скрытых в этом слове, вплоть до значения отдельного звука “Н”. Таким образом, загадочность этого стихотворения в корне отлична от таинственности символистов: Хлебников исходит из фольклорной традиции игры слов, а читателю предлагается совершить умственное усилие и разрешить загадку.
Подобно поэтам древности, Хлебников рассматривал язык как своего рода древесину — исходный материал, нуждающимся в тщательной, искусной обработке; отсюда окказионализмы и “тайнопись”. Более того, пристрастие Хлебникова к трансформации слов сродни вере в то, что посредством поэтического действия может быть восстановлено исходное значение слова. В его поэзии соседствуют устаревшие этимологические связи (славь — “слово”) и чисто авторская, идиолексическая этимология (“звездный язык”). Тон неизменно задает стремление постичь смысл всех языковых конструкций, вплоть до мельчайших. Читать стихи Хлебникова, пренебрегая его “звездным языком”, — все равно что браться за книгу, не зная азбуки. Таким образом, читатель неизбежно становится исполнителем, наравне с автором. Говоря словами Мандельштама, от читателя требуется “исполняющее понимание — не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее” (Мандельштам 1971: 364).

| Персональная страница Барбары Лённквист | ||
| карта сайта | 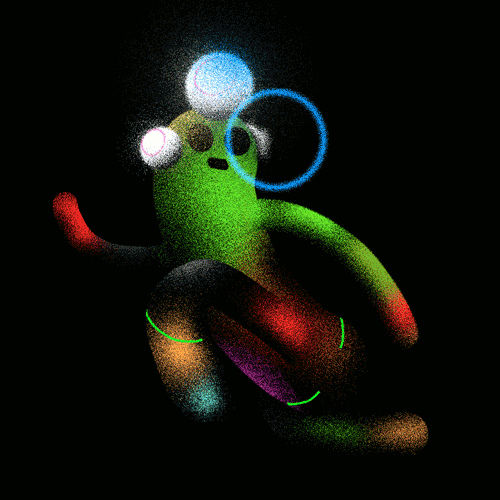 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||