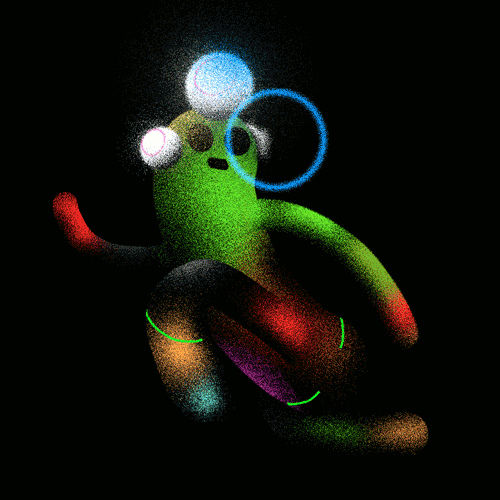Барбара Лённквист
Мироздание в слове.
Поэтика Велимира Хлебникова
III. ИСКУССТВО КАК ИГРА
Продолжение. Предыдущие главы: 

В карнавале сама жизнь играет,
а игра на время становится самом жизнью.
М. Бахтин
В начале XX века художественная жизнь России претерпела заметную театрализацию. Эта тенденция проявилась в выборе тем — цирк, клоунада, комедиа дель арте, маскарад, — но также она отражает и некоторую эстетическую позицию. Искусство все более напоминало игру, а художник — циркача, стремившегося удивить и поразить публику. Таким образом, неудивительно, что театр влиял на другие виды искусства. Однако, источником вдохновения служил не традиционный театр XIX века, испытавший значительное влияние литературы, а различные формы народного театра, стоявшего тогда вне канонов. Статья Мейерхольда «Балаган» (1912) явилась одним из наиболее красноречивых выступлений в защиту этой “неканонической” традиции:
Возможен ли, однако, театр без каботинажа и что это такое этот ненавистный для Бенуа каботинаж? Cabotin — странствующий комедиант. Cabotin — сородич мимам, гистрионам, жонглерам. Cabotin — владелец чудодейственной актерской техники. Cabotin — носитель традиции подлинного искусства актера. Это тот, при помощи которого западный театр достиг своею расцвета (испанский и итальянский театры XVII века).
(Мейерхольд 1968: 210)
От защиты “каботинажа” — и актера как странствующего комедианта, фигляра, жонглера — Мейерхольд пришел к возрождению в собственных постановках западного театра средневековья, испанской пьесы барокко и итальянской комедиа дель арте (комедии масок). Другим источником, из которого черпал Мейерхольд, был народный театр марионеток с его традицией гротеска. Мейерхольдовский гротеск имел также западные корни — образцом служили произведения немецких романтиков, Гофмана. Еще в 1906 году Мейерхольд опирался на эту “неканоническую” театральную традицию при постановке «Балаганчика» Блока — который и сам вдохновлялся сходными жанрами. Премьера состоялась 30 декабря — на святках — и вызвала некоторый скандал:
‹...› часть зрительного зала шикала Блоку и его актерам ‹...›
(Мейерхольд 1968, 208)
Этот скандал, вероятно, был еще непреднамеренным и возник из-за того, что постановщик и публика придерживались различных эстетических принципов. Для футуристов же скандал позднее сделался неотъемлемой частью их публичных выступлений, едва ли не самоцелью. Мейерхольдовская постановка «Балаганчика» была первой ласточкой.
Мейерхольд также работал в жанрах сатиры и пародии, ставя пьесы в литературных кафе «Дом интермедий» (1910–1911) и «Бродячая собака» (1911–1915). Для этих постановок была характерна смесь достаточно разнородных элементов — „пестрота полунасмешливого, полусерьезного романтизма”, по выражению критика из числа современников1 . Тот же критик описывал мейерхольдовскую постановку «Обращенного принца»2
. Тот же критик описывал мейерхольдовскую постановку «Обращенного принца»2 в «Доме интермедий» следующим образом:
в «Доме интермедий» следующим образом:
Как в карнавальном шествии неслись уродливые маски монахов и рыцарей, нежные образы монахинь, открывалась таверна «Бычий глаз», кельи пустынников, мачта корабля — как будто в странном фантастическом и кошмарном сне
3
.
Критик выделяет в постановке элементы кошмарного сна, фантасмагории. Сценические персонажи — не люди, а маски, шаржированные фигуры “карнавальною шествия”.
В рамках той же театральной традиции, что и Мейерхольд, трудился в это время Николай Евреинов4 . В 1907–1908 гг. он работал в петербургском Старинном театре над возрождением средневекового фарса и нравоучительной пьесы. Одной из его постановок была пьеса Рутбефа «Miracle de Theophile» («Чудо Теофила», фр.); у этого словесного акробата черти и ведьмы изъяснялись звукоподражанием, наподобие ведьм и русалок хлебниковской «Ночи в Галиции». В 1911–1912 гг. театр Евреинова поставил несколько испанских барочных пьес, а в программу сезона 1914 года были включены итальянские комедии масок5
. В 1907–1908 гг. он работал в петербургском Старинном театре над возрождением средневекового фарса и нравоучительной пьесы. Одной из его постановок была пьеса Рутбефа «Miracle de Theophile» («Чудо Теофила», фр.); у этого словесного акробата черти и ведьмы изъяснялись звукоподражанием, наподобие ведьм и русалок хлебниковской «Ночи в Галиции». В 1911–1912 гг. театр Евреинова поставил несколько испанских барочных пьес, а в программу сезона 1914 года были включены итальянские комедии масок5 . В дополнение к этим постановкам, возрождающим традиции старых театров, Евреинов ставил также пьесы-пародии, многие из которых сатирически освещали современные темы. В сезон 1909–1910 гг. Евреинов и Ф. Комиссаржевский основали театр, довольно точно названный ими «Веселым театром для пожилых детей». Там были впервые поставлены пьесы Козьмы Пруткова, полные остроумных каламбуров, пародий и блесток абсурда. Со следующего сезона Евреинов начал работать в сатирическом театре «Кривое зеркало» (основанном в Петербурге в 1907 году), где в 1910–1917 гг. поставил больше сотни пьес. В этих постановках мишенью для сатиры и пародий служило теперь не только общество, но и сам институт театра. Наиболее знаменитой пародией явилась «Вампука, невеста африканская — образцовая опера в 2-х актах», в которой Евреинов высмеивал штампы оперы XIX века. В «Четвертой стене» Евреинов довел до абсурда условности натуралистического театра. Персонаж этой пьесы, режиссер, собирающийся ставить «Фауста», обнаруживает, что, дабы создать “впечатление реальности”, ему необходимо отказаться не только от возвращения Фаусту молодости, но и от персонажа Мефистофеля. Пародийные эксперименты Евреинова с театральными традициями достигли апогея в постановке гоголевского «Ревизора» (в театре «Кривое зеркало»). Первый акт пьесы отличался стилистической пестротой и пародировал Станиславского, Макса Рейнхардта, Гордона Крейга, а также манеру игры киноактеров. То есть, немаловажное значение для Евреинова имела автопародия (пародирование театром себя самого посредством “обнажения приема”), и аналогичная тенденция была заметна в произведениях поэтов-футуристов6
. В дополнение к этим постановкам, возрождающим традиции старых театров, Евреинов ставил также пьесы-пародии, многие из которых сатирически освещали современные темы. В сезон 1909–1910 гг. Евреинов и Ф. Комиссаржевский основали театр, довольно точно названный ими «Веселым театром для пожилых детей». Там были впервые поставлены пьесы Козьмы Пруткова, полные остроумных каламбуров, пародий и блесток абсурда. Со следующего сезона Евреинов начал работать в сатирическом театре «Кривое зеркало» (основанном в Петербурге в 1907 году), где в 1910–1917 гг. поставил больше сотни пьес. В этих постановках мишенью для сатиры и пародий служило теперь не только общество, но и сам институт театра. Наиболее знаменитой пародией явилась «Вампука, невеста африканская — образцовая опера в 2-х актах», в которой Евреинов высмеивал штампы оперы XIX века. В «Четвертой стене» Евреинов довел до абсурда условности натуралистического театра. Персонаж этой пьесы, режиссер, собирающийся ставить «Фауста», обнаруживает, что, дабы создать “впечатление реальности”, ему необходимо отказаться не только от возвращения Фаусту молодости, но и от персонажа Мефистофеля. Пародийные эксперименты Евреинова с театральными традициями достигли апогея в постановке гоголевского «Ревизора» (в театре «Кривое зеркало»). Первый акт пьесы отличался стилистической пестротой и пародировал Станиславского, Макса Рейнхардта, Гордона Крейга, а также манеру игры киноактеров. То есть, немаловажное значение для Евреинова имела автопародия (пародирование театром себя самого посредством “обнажения приема”), и аналогичная тенденция была заметна в произведениях поэтов-футуристов6 .
.
В поисках сущности театра — “театра как такового” — Евреинов выходит далеко за рамки того, что традиционно считалось театром. Весной и летом 1914 года Евреинов путешествует по отдаленным селам Тамбовской, Курской и Орловской губерний, изучая крестьянские праздники и обряды. В конце весны он наблюдал празднование “проводов русалки” в Спасском уезде Тамбовской губернии. Поскольку данный обряд фигурирует и в поэзии Хлебникова, описание Евреинова представляет определенный интерес:

На закате солнца я, вместе с помещиками, у которых гостил, и их соседями, отправился к близлежащей опушке леса, не доходя до которой стояла уже огромная толпа крестьян.
Как только сумерки стали спускаться, из леса показалась “лошадь”, очень примитивно изображаемая двумя парнями, которые, став один позади другого, держали на плечах оглобли, прикрытые холстом таким образом, что обрисовывалось как бы туловище лошади. Передний парень держал на палке “кобылью голову”, с которой дети были знакомы уже из сказок, какие им рассказывали, слегка путая их, их родители и нянюшки... Шея “лошади” была окутана холщевым мешком, к которому была пришита грива, сделанная из пеньки. Из пеньки же был сделан и хвост, прикрепленный сзади “лошади”, приблизительно на высоте шеи второю парня. На голове “лошади” красовалась “уздечка”, за поводья которой “лошадь” выводилась из лесу черномазым старообразным “цыганом”, для изображения какового исполнитель (один из крестьян-краснобаев) не пожалел, гримируясь, ни сажи, ни угля ‹...›
Старый “цыган” подвел “лошадь” близко к зрителям, образовавшим около него полукруг, и пустился краснобайничать, подражая цыганам лошадникам, покупавшим добрых коней и продававших коней с пороком. Расхвалив свой товар, “цыган” предложил прокатиться на нем, для испытания, кому-нибудь из присутствовавших. Тотчас же к нему подошел бойкий мальчишка, которого “цыган” не замедлил усадить верхом на “лошадь”. Кто-то из присутствующих заиграл на гармонике и “лошадь”, как в цирке, стала катать своего маленького всадника кругами по образовавшейся арене. Когда мальчик, под всеобщее одобрение и шутки, слез с “лошади”, “цыган” стал хвастать, что она умеет не только служить верховой, но и выучена, чтобы плясать “в присядку”. Снова заиграла гармоника и “ученая лошадь” пустилась — под музыку трепака — отплясывать “в присядку”. Но не долго бедная веселила публику: споткнулась, захромала и... растянулась на траве. “Цыган” стал ее и так, и эдак подбадривать кнутом, понукал встать: “лошадь” ни с места! ‹...› Наконец, провозившись, со своей “ученой лошадью”, минуты три и выведенный из себя, “цыган” причмокнул губами, присвистнул, потянул за уздечку, лошадь поднялась на ноги и сразу ускакала в лес, но, на этот раз, не направо, а налево. К этому времени почти совсем стемнело, и скрывавшаяся из глаз лошадь стала казаться исчезающим призраком. Я не помню точно, какую песню запели тогда девушки, присутствовавшие на этом “представлении”; помню только,что дело шло о весне, о благодатном солнышке и о надежде, что весна скоро вернется с цветами и пением птиц.
(Евреинов 1955: 35–36)
Изучая крестьянские обряды (в 1915 году он наблюдал празднование святок в белорусской деревне7 ), Евреинов углублялся в театральную традицию русской народной культуры, с ее скоморохами и ежегодными карнавальными празднествами (святки, масленица, проводы русалки, Иван Купала). Поскольку те же самые обряды фигурируют и в произведениях Хлебникова, разумно задаться вопросом, нет ли тут между Евреиновым и поэтом какой-либо связи. Дневниковые записи Хлебникова показывают, что осенью 1915 года он несколько раз встречал Евреинова (V, 333–334). Видимо, Евреннов был ему весьма симпатичен:
), Евреинов углублялся в театральную традицию русской народной культуры, с ее скоморохами и ежегодными карнавальными празднествами (святки, масленица, проводы русалки, Иван Купала). Поскольку те же самые обряды фигурируют и в произведениях Хлебникова, разумно задаться вопросом, нет ли тут между Евреиновым и поэтом какой-либо связи. Дневниковые записи Хлебникова показывают, что осенью 1915 года он несколько раз встречал Евреинова (V, 333–334). Видимо, Евреннов был ему весьма симпатичен:
Я поцеловал (лизнул) милого с средневековым лицом пажа Евреинова ‹...› Мужественный суровый человек с горячим и добрым сердцем. Я его люблю.
(V, 334)
Той же осенью (23 ноября 1915 года, по записи Хлебникова, который также отмечает, что был в этот день на евреиновском вечере; V, 333) поэт пишет «Ошибку смерти» — пьесу с заметным влиянием народного театра, пародирующую религию и вышучивающую театральные каноны.
Именно в игровом, театрально-пародийном контексте — наиболее красноречиво отраженном деятельностью Мейерхольда и Евреинова — следует рассматривать ранние выступления футуристов. Тем не менее, футуристы пошли дальше Мейерхольда и Евреинова. Они в самом буквальном смысле вывели искусство на улицы и сделались бродячими шутами, странствующими поэтами. Нелепо, вычурно разодетые, с размалеванными лицами, будто святочные ряженые, они разъезжали по России, пропагандируя новое искусство футуризма. Интересно отметить, что их “гастроли” (14 декабря 1913 — 28 января 1914 и 20 февраля — 29 марта 1914) более или менее совпадали со святками и масленицей по русскому народному календарю. Маяковский позже называл этот год их „веселым годом”. И действительно, представления футуристов проходили весело, зачастую бурно. Активное участие принимала аудитория — свистела, шикала, смеялась8 . Подобно актерам ярмарочного театра, футуристы переговаривались или даже переругивались с толпой. Выступление футуристов в Симферополе 7 января (на святки) было объявлено как «Олимпиада футуризма», и, согласно афише, футурист Игнатьев должен был выступить с “лекцией” на тему «Великая футурналия»9
. Подобно актерам ярмарочного театра, футуристы переговаривались или даже переругивались с толпой. Выступление футуристов в Симферополе 7 января (на святки) было объявлено как «Олимпиада футуризма», и, согласно афише, футурист Игнатьев должен был выступить с “лекцией” на тему «Великая футурналия»9 . Слово “футурналия” явно призвано напомнить о римских сатурналиях10
. Слово “футурналия” явно призвано напомнить о римских сатурналиях10 ; то есть, “лектор” или же автор афиши осознавал внутреннее сходство римских новогодних празднеств с программой футуристов, которая призывала отвергнуть старое („бросить с парохода современности”) и приветствовала новое (футуристическое искусство).
; то есть, “лектор” или же автор афиши осознавал внутреннее сходство римских новогодних празднеств с программой футуристов, которая призывала отвергнуть старое („бросить с парохода современности”) и приветствовала новое (футуристическое искусство).
С искусством и литературой прошлого11 футуристы боролись методом унижения. Ранняя футуристическая литература во многих отношениях представляет собой антилитературу, основанную на антиэстетике. Книги делались из “низменных” материалов (дерюга, обои) и подчеркнуто рассматривались как недолговечный, расходный материал:
футуристы боролись методом унижения. Ранняя футуристическая литература во многих отношениях представляет собой антилитературу, основанную на антиэстетике. Книги делались из “низменных” материалов (дерюга, обои) и подчеркнуто рассматривались как недолговечный, расходный материал:
‹...› речетворцы должны бы писать на своих книгах: ПРОЧИТАВ — РАЗОРВИ!
(«Слово как таковое». 1913)12
В поэзию вводились просторечие и вульгаризмы, “неканоническая” лексика:
Пускай судьба лишь горькая издевка,
Душа — кабак, а небо — рвань,
Поэзия — истрепанная девка,
А красота кощунственная дрянь.
(Д. Бурлюк. «Первый журнал русских футуристов». 1914)13
Желательным свойством стала “шершавость” — примитивизм, неотделанность:
Наша цель подчеркнуть важное значение для искусства ‹...› чисто первобытной грубости.
(«Новые пути слова», 1913)14
‹...› чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной ‹...›
(«Слово как таковое»)15
Все духовное подвергалось радикальной “материализации”. Искусство должно было стать конкретным и осязаемым, “телом” вместо “духа”. Характерное выражение этой тенденции — заглавие первого манифеста футуристов, «Пошечина общественному вкусу». Тот был опубликован 18 декабря 1912 года и явился аналогом своего рода карнавальной потасовки, но в литературной сфере.
Один из наиболее эффективных способов унижения — пародия, и во многих ранних футуристических произведениях ощутима явственная пародийная нота. Хотя в индивидуальном развитии большинства футуристов религия играла роль весьма незначительную, многое из пародируемого ими “возвышенного” было связано с религией. Так Хлебников в своей «Ошибке Смерти» пародирует Тайную вечерю и символический смысл смерти Христа (путь к жизни). Пролог трагедии «Владимир Маяковский» (1913) также содержит аллюзии на жизнь Христа, который пародийно конкретизируется как „царь ламп”:
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
(Маяковский 1955: 154)
(Курсивом я выделила слова, отсылающие к Христу. — Б.Л.)
Духовный свет превратился в гудящее электричество („наши новые души, гудящие, как фонарные дуги”). Конец пролога содержит еще одно любопытное снижение религиозного образа. Поэт удаляется к своему трону в небесах (этот образ напоминает Христа-Вседержителя на небесном троне), однако описание таково:
А я, прихрамывая душонкой
16
,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
(Маяковский 1955: 154)
В следующих строках — дальнейшие аллюзии на Христа, причем посредством футуристского каламбура “лён — лень” иисусовы льняные одежды трансформированы в “одежды из лени” поэта-пророка:
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза
17
,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.
(Маяковский 1955: 154)
Заключительный образ — аллюзия на поцелуй Иуды, следствием которого явилась смерть Христа. В пьесе Маяковского Спаситель имеет весьма “земной” облик. Антидуховный тон, которым проникнут пролог, получает дальнейшее развитие в первом акте, где карнавальный праздник завершается воздвижением памятника “красному мясу”. Элементы религиозной пародии в этих двух футуристских пьесах («Ошибка смерти» и «Владимир Маяковский») можно истолковать с чисто эстетических позиций как развитие пародийно-карнавальной традиции, присущей народному театру (ярмарочный балаган, шуты, балаганные деды)18 .
.
Другой интересный пример религиозной пародии — вдобавок, предложенный читателю под видом футуристического “языкового эксперимента” — это знаменитое стихотворение Крученых, состоящее из одних гласных:
о е а
и е е и
а е е ѣ
В. Марков совершенно верно подметил (Манифесты 1967: 64), что это гласные первых шести слов молитвы «Отче наш»:
Отче наш
иже еси
на небесѣх
Крученых исходил как из традиции буквенной игры в поэзии барокко, так и карнавальной parodia sacra (“священной пародии”, лат.)19 . Вдобавок, налицо ироническая игра с читателем, думающим, будто перед ним какая-то “футуристская чушь”.
. Вдобавок, налицо ироническая игра с читателем, думающим, будто перед ним какая-то “футуристская чушь”.
Если футуристы-поэты обосновывали свою антиэстетику традициями народного театра, выходившими за рамки устоявшихся театральных норм, — и, соответственно, разрабатывали пародию, стихи на случай, разговорный язык, — то футуристы-художники аналогичным образом исходили из традиций, целиком и полностью лежащих вне канонов русского искусства. На выставке «Мишень» (март–апрель 1913 года)20 вместе с собственными работами художников были представлены средневековые иконы, народный лубок, восточная скульптура, керамика и детские рисунки. Также экспозиция включала четыре картины грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани и уличные вывески производства «Второй артели живописцев вывесок». Желая дистанцироваться от “высоколобого” искусства, художники-футуристы заявляли в манифесте «Лучисты и будущники», опубликованном в сборнике «Ослиный хвост» (1913): „мы идем об руку с малярами”21
вместе с собственными работами художников были представлены средневековые иконы, народный лубок, восточная скульптура, керамика и детские рисунки. Также экспозиция включала четыре картины грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани и уличные вывески производства «Второй артели живописцев вывесок». Желая дистанцироваться от “высоколобого” искусства, художники-футуристы заявляли в манифесте «Лучисты и будущники», опубликованном в сборнике «Ослиный хвост» (1913): „мы идем об руку с малярами”21 . Лидером этого движения был художник Михаил Ларионов, окрестивший в 1912 году свою группу «Ослиный хвост» (очередная “пощечина общественному вкусу”). Возрождение неканонических форм искусства происходило как логическое развитие экспериментов с перспективой, композицией, цветом — альтернативные подходы к которым художники обнаруживали в средневековых иконах, народном искусстве и детских “примитивных” рисунках. Но народное искусство, особенно лубок, было плоть от плоти живой “подпольной” культуры, имевшей непосредственное отношение к традиции карнавала22
. Лидером этого движения был художник Михаил Ларионов, окрестивший в 1912 году свою группу «Ослиный хвост» (очередная “пощечина общественному вкусу”). Возрождение неканонических форм искусства происходило как логическое развитие экспериментов с перспективой, композицией, цветом — альтернативные подходы к которым художники обнаруживали в средневековых иконах, народном искусстве и детских “примитивных” рисунках. Но народное искусство, особенно лубок, было плоть от плоти живой “подпольной” культуры, имевшей непосредственное отношение к традиции карнавала22 . В рисунках художников-футуристов налицо не только гротескное искажение тел и предметов, свойственное карнавальному искусству, но также предрасположенность к его эротической и богохульной тематике. Показательный эпизод — запрет и конфискация сборника футуристов «Рыкающий Парнас» из-за рисунков Павла Филонова. Возрождаемая “лубочная” культура наиболее соответствовала литературным произведениям, которые, в свою очередь, отражали традиции карнавала. Когда, например, Гончарова, Малевич и Розанова иллюстрировали «Игру в аду» Хлебникова и Крученых (1912, 1913), то преисподняя изображалась ими в карнавальном духе. Страницы поэмы населяли сатиры, полулюди–полукозлы, гротескные двуликие персонажи.
. В рисунках художников-футуристов налицо не только гротескное искажение тел и предметов, свойственное карнавальному искусству, но также предрасположенность к его эротической и богохульной тематике. Показательный эпизод — запрет и конфискация сборника футуристов «Рыкающий Парнас» из-за рисунков Павла Филонова. Возрождаемая “лубочная” культура наиболее соответствовала литературным произведениям, которые, в свою очередь, отражали традиции карнавала. Когда, например, Гончарова, Малевич и Розанова иллюстрировали «Игру в аду» Хлебникова и Крученых (1912, 1913), то преисподняя изображалась ими в карнавальном духе. Страницы поэмы населяли сатиры, полулюди–полукозлы, гротескные двуликие персонажи.
В поиске изначальных, основополагающих форм художники-футуристы обращались к детскому рисунку. По их мнению, дети являлись существами неиспорченными, естественными, неоформившимися — а, значит, детское искусство должно было выражать более глубокую истину23 . Детское влияние на искусство и литературу заметно также и в игровой эстетике, неотъемлемой от футуризма. Искусство для футуристов более и более становилось игрой, правила в которой устанавливал сам художник, вне зависимости от того, признавал ли их кто-нибудь еше. Это особенно чувствуется в работе Хлебникова и Крученых, сообщая их стихам определенную непрофессиональность; такое впечатление, будто автор руководствовался исключительно сиюминутным капризом, чувством, настроением. В манифесте «Декларация слова как такового» (1913)24
. Детское влияние на искусство и литературу заметно также и в игровой эстетике, неотъемлемой от футуризма. Искусство для футуристов более и более становилось игрой, правила в которой устанавливал сам художник, вне зависимости от того, признавал ли их кто-нибудь еше. Это особенно чувствуется в работе Хлебникова и Крученых, сообщая их стихам определенную непрофессиональность; такое впечатление, будто автор руководствовался исключительно сиюминутным капризом, чувством, настроением. В манифесте «Декларация слова как такового» (1913)24 Крученых отстаивает право художника выражаться на собственном языке, не имеющем ничего общего с обыденным или общепринятым языком. «Заумь» Крученых — это язык hic-et-nunc (здесь и сейчас, лат.), изменчивый и недолговечный, это протест против установленных норм. В статье «Наша основа»25
Крученых отстаивает право художника выражаться на собственном языке, не имеющем ничего общего с обыденным или общепринятым языком. «Заумь» Крученых — это язык hic-et-nunc (здесь и сейчас, лат.), изменчивый и недолговечный, это протест против установленных норм. В статье «Наша основа»25 (параграф второй, «Заумный язык») Хлебников формулирует „понимание языка как игры в куклы”:
(параграф второй, «Заумный язык») Хлебников формулирует „понимание языка как игры в куклы”:
Как мальчик во время игры может вообразить, что тот стул, на котором он сидит, есть настоящий, кровный конь, и стул на время игры заменит ему коня, так и во время устной и письменной речи маленькое слово солнце в условном мире людского разговора заменит прекрасную, величественную звезду. Замененное словесной игрушкой, величественное, спокойно сияющее светило охотно соглашается на дательный и родительный падежи, примененные к его наместнику в языке. Но это равенство условно: если настоящее исчезнет, а останется только слово солнце, то ведь оно не может сиять на небе и согревать землю, земля замерзнет, обратится в снежок в кулаке мирового пространства. Также, играя в куклы, ребенок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен; устраивать свадьбу двух собраний тряпок, совершенно неотличимых друг от друга, в лучшем случае с плоскими тупыми концами головы. Во время игры эти тряпочки — живые настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, — участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы — просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла,словарь — собрание игрушек.
Итак, если язык аналогичен игре в куклы, правила в которой устанавливает сам “играющий”, то есть говорящий, — от этого один шаг к выдумыванию новых игр, созданию новых кукол-слов. Хлебниковские неологизмы и заумный язык можно уподобить лингвистической самодеятельности ребенка, изобретающего новые слова, экспериментирующего с возможностями языка и его границами26 . Однако, если цель ребенка — уяснить себе границы, то Хлебников как поэт стремится их расширить. Еще в 1908 году он ратовал за расширение русского языка (подобно тому, как расширил эвклидову геометрию Лобачевский) новыми словами, образованными на час и живущими веком мотылька:
. Однако, если цель ребенка — уяснить себе границы, то Хлебников как поэт стремится их расширить. Еще в 1908 году он ратовал за расширение русского языка (подобно тому, как расширил эвклидову геометрию Лобачевский) новыми словами, образованными на час и живущими веком мотылька:
И если живой и сущий в устах народный язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умнечество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная: права словотворчества? Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька.
(«Курган Святогора», 1908) (1940, 323) (1986, 580)
В противоположность Крученых, Хлебников создает свои неологизмы не произвольно. Внутри каждого слова он видит ядро, корень, несущий зародыш смысла:
‹...› назвав корни — божьим, слова же — делом рук человеческих.
(1940, 323) (1986, 580)
Стихотворение «Заклятие смехом» (опубликовано в 1910 году, но написано, вероятно, в 1908 году, одновременно с «Курганом Святогора») — яркая иллюстрация воплощения этих идей на практике. В качестве зародыша или корня выступает морфема СМЕ/х, из которой “вырастает” все стихотворение, подобно колосу из семени. Выбор Хлебниковым именно этого корня не случаен. Отмечалось, что глубочайший смысл смеха как явления связан с его жизнетворной, возрождающей, освободительной функцией27 ; у Хлебникова же подобную роль играет само слово ‘смех’, давая жизнь новым словам. Таким образом, в данном стихотворении размывается граница между словом и явлением: возможности самого смеха и слова ‘смех’ одинаковы. В связи с этим интересно отметить, что «Заклятие смехом» сделалось едва ли не программной декларацией футуристов — группы, стремившейся ни больше, ни меньше как „создать новую жизнь”.
; у Хлебникова же подобную роль играет само слово ‘смех’, давая жизнь новым словам. Таким образом, в данном стихотворении размывается граница между словом и явлением: возможности самого смеха и слова ‘смех’ одинаковы. В связи с этим интересно отметить, что «Заклятие смехом» сделалось едва ли не программной декларацией футуристов — группы, стремившейся ни больше, ни меньше как „создать новую жизнь”.
Далее будет показано, что Хлебников обнаруживал хорошее знакомство с карнавальной традицией русской народной культуры, и понимание им первостепенной функции смеха находит свое выражение в целом ряде работ. В следующем стихотворении смех тоже связывается с “новой жизнью”, т.е. воскресением:
Но кто он око темноты?
Кто просветил молчанье песней?
Зем в восхищеньи ник, но ты
Вторила песнью диких весен,
Ты воспевала сон ночей,
И поцелуй не мнимо чей,
И упоение борьбой,
И возглас милый, старый: — бой!
Тогда воскресли небеса,
Тогда рассмеялся голос, бог,
И совесть снова нам веса,
Расцвел, кто древле был убог.
(II, 288–289)
Тема этого стихотворения — возрождение, весна, триумф света и плодородия. Судя по всему, сон ночей — это хлебниковcкий перифраз света как времени, когда “ночь спит”. Стоит пробиться первым лучам света, и тотчас звучит смех — смеется Бог, происходит воскресение.
Сверхповесть Хлебникова «Зангези» содержит интересную персонификацию смеха. Под конец сверхповести возникают два новых персонажа, Горе и Смех: На плошадке [где Зангези проводит почти все свое время28 ] козлиными прыжками появляется Смех, ведя за руку Горе. Он без шляпы, толстый, с одной серьгой в ухе,29
] козлиными прыжками появляется Смех, ведя за руку Горе. Он без шляпы, толстый, с одной серьгой в ухе,29 в белой рубашке. Одна половина его черных штанов синяя, другая золотая. У него мясистые веселые глаза. Горе одета во все белое, лишь черная, с низкими широкими полями, шляпа. Они напоминают пару, часто встречающуюся в народном театре: толстый и веселый — худой и печальный. Будучи во всем противоположны друг другу, они в то же время неразрывно связаны30
в белой рубашке. Одна половина его черных штанов синяя, другая золотая. У него мясистые веселые глаза. Горе одета во все белое, лишь черная, с низкими широкими полями, шляпа. Они напоминают пару, часто встречающуюся в народном театре: толстый и веселый — худой и печальный. Будучи во всем противоположны друг другу, они в то же время неразрывно связаны30 . Оба произносят монологи, в которых описывают как себя, так и “партнера”. Из первого монолога Смеха:
. Оба произносят монологи, в которых описывают как себя, так и “партнера”. Из первого монолога Смеха:
Дровами хохота поленниц
Топлю мой разум голубой.
Ударом в хохот указую,
Что за занавеской скрылся кто-то,
И обувь разума разую
И укажу на пальцы пота.
Ты водосточною трубой
‹Протянута к глазам небес,
А я безумец и другой,›
Я — жирными глазами бес.
Курись пожарами кумирень,
Гори молельнями печали!
Затылок мой от смеха жирен,
Твои же руки обнимали,
Твои же губы целовали.
И, точно крыши твердой скат,
Я в непогоде каждой сух.
А ты — как та, которой кат
‹Клещами вынимает дух.›
(III, 361–362) (1986, 499–500)
Смех кажется пророком чувства в противовес разуму; а при том, что голубой цвет у Хлебникова нередко призван обозначать эмоциональную жизнь (в противовес рассудочной) и поэзию, голубой разум Смеха воспринимается скорее как антиразум — который, к тому же, топится дровами хохота. Вдобавок, Смех разувает обувь разума — то есть, избавляется от разума, словно от пары ботинок; не говоря уж о том, что он, как заявлено открытым текстом, безумец и бес (проказник, причем не без чертовщинки). Он выявляет скрытое, срывает все и всяческие маски (Ударом в хохот укажу, // Что за занавеской скрылся кто-то). Он щедр, если не сказать расточителен — при условии, что пальцы пота возможно интерпретировать как перифраз “потной руки”, разговорного выражения, обозначающего щедрость („Потная рука торовата, а сухая не податлива”; Даль, III, 356).
Горе, по описанию Смеха, водосточною трубой протянуто к [плачущим] глазам небес и вбирает в себя мировую печаль:
Ты водоем для звездных вод,
Ты мировой печали дева.
Себя же Смех, напротив, уподобляет громоотводу:
Я смех, громоотвод
От мирового гнева.
(III, 362) (1986, 500)
Будучи противоположностями, Смех и Горе имеют, тем не менее, сходную функцию — “разряжать” на себя мировые несчастья (гнев и печаль, соответственно). При этом Смех связан с огненной стихией31 (привлекает небесный огонь — молнию), тогда как Горе — с водной (дождь — влага небес). Они противоположны во всем: Смех в любой ситуации на коне (Я в непогоде каждой сух), тогда как Горе вечно не везет, иногда очень (А ты как та, которой кат // Клещами вынимает дух). Тем не менее, они подобны паре влюбленных (Затылок мой, от смеха жирен, // Твои же руки обнимали, // Твои же губы целовали), вечно влекомых друг к другу:
(привлекает небесный огонь — молнию), тогда как Горе — с водной (дождь — влага небес). Они противоположны во всем: Смех в любой ситуации на коне (Я в непогоде каждой сух), тогда как Горе вечно не везет, иногда очень (А ты как та, которой кат // Клещами вынимает дух). Тем не менее, они подобны паре влюбленных (Затылок мой, от смеха жирен, // Твои же руки обнимали, // Твои же губы целовали), вечно влекомых друг к другу:
И вечно ты ко мне влекома,
И я лечу в твою страну.
(III, 363) (1986, 500)
В совокупности они подобны грозе (дождь и молния):
Где гром ругается огнем,
Ты, горе, для потока вод
Старинный водоем.
И к пристани гроза
Летит надменною путиной.
(III, 365) (1986, 502)
Кроме огненной стихии, смех связан также со стихией мятежа32 . Монологи его проникнуты тем же бунтарским духом, что движет Стенькой Разиным (перифраз Разина — кистень на Волге):
. Монологи его проникнуты тем же бунтарским духом, что движет Стенькой Разиным (перифраз Разина — кистень на Волге):
Я слова бурного разбойник.
Мои слова — кистень на Волге!
(III, 365) (1986, 502)
Другая аллюзия на революционные возможности смеха возникает в строчках:
Железной радугой ножа
Мой смех умеет расцвести.
(III, 361) (1986, 499)
Смех способен вызвать настоящий бунт (символизируемый здесь ножом33 ). Смех — подстрекатель ко всевозможным потрясениям, переворотам34
). Смех — подстрекатель ко всевозможным потрясениям, переворотам34 . Он — бунтовщик, поборник иррационализма, срываюший маски и покровы, толстый, веселый, диковинно разодетый паяц, передвигающийся козлиными прыжками (это сравнение, по-видимому, намекает на древние праздники плодородия, т.е. на родство смеха и Пана). Итак, поэт был хорошо знаком с народной культурой и досконально разбирался в социальной и психологической функциях смеха. «Заклятие смехом» принадлежит к ранним стихотворениям Хлебникова, тогда как сцена «Горе и Смех» датирована 20 июня 1920 года (1986, 698). Другими словами, тема смеха интересовала Хлебникова на протяжении всей его творческой биографии, причем неизменно соотносилась с “философией инверсии”, отраженной в большинстве его произведений.
. Он — бунтовщик, поборник иррационализма, срываюший маски и покровы, толстый, веселый, диковинно разодетый паяц, передвигающийся козлиными прыжками (это сравнение, по-видимому, намекает на древние праздники плодородия, т.е. на родство смеха и Пана). Итак, поэт был хорошо знаком с народной культурой и досконально разбирался в социальной и психологической функциях смеха. «Заклятие смехом» принадлежит к ранним стихотворениям Хлебникова, тогда как сцена «Горе и Смех» датирована 20 июня 1920 года (1986, 698). Другими словами, тема смеха интересовала Хлебникова на протяжении всей его творческой биографии, причем неизменно соотносилась с “философией инверсии”, отраженной в большинстве его произведений.
Не исключено, что связь Хлебникова с футуризмом являлась наиболее тесной в первый, “бунтарский” период этого движения. Элементы карнавала в публичных выступлениях футуристов, вышучиванье ими общепринятых канонов, бунт против прошлого, выворачиванье наизнанку эстетических норм — все эти проявления “революционного духа” (“революционного” в буквальном смысле, а не в политическом, то есть речь о перевороте вверх дном всего и вся) были очень близки Хлебникову:
Тринадцать лет хранили будетляне
За пазухой, в глазах и взорах,
В Красной уединясь Поляне,
Дней Носаря зажженный порох.(I, 196) (1986, 290)35
1. Традиции народного театра в пьесах Хлебникова
Пусть я с неловкостью дикарки
Беру лишь те слова, что дешевы, но ярки.
«Маркиза Дэзес»
Футуристы именовались в своих манифестах „первыми творцами, протопоэтами” и вводили в поэзию нелитературный язык, но они творили все-таки еще внутри литературной традиции — в рамках которой их антиэстетизм часто принимал форму пародии на прежнюю эстетику36 . Ко времени появления футуризма (1912) пародия имела широчайшее распространение, особенно в театре37
. Ко времени появления футуризма (1912) пародия имела широчайшее распространение, особенно в театре37 . “Театр иллюзии” XIX века, вершиной развития которого явилась система Станиславского, с ее скрупулезной сценографией и упором на внутреннее переживание актеров, считался теперь безнадежно устаревшим. Необходимо было отыскать новые, не столь окостеневшие формы, и поиск этот привел постановщиков к полузабытым театральным традициям давних эпох, когда значительный вес имел смеховой, игровой элемент — например, скоморошество, ярмарочный театр, русский балаган. В данной главе речь пойдет о влиянии балаганной традиции на пьесы Хлебникова. Прежде, однако, вкратце рассмотрим отношение к ней двух ведущих реформаторов русского театра начала века — Мейерхольда и Евреинова.
. “Театр иллюзии” XIX века, вершиной развития которого явилась система Станиславского, с ее скрупулезной сценографией и упором на внутреннее переживание актеров, считался теперь безнадежно устаревшим. Необходимо было отыскать новые, не столь окостеневшие формы, и поиск этот привел постановщиков к полузабытым театральным традициям давних эпох, когда значительный вес имел смеховой, игровой элемент — например, скоморошество, ярмарочный театр, русский балаган. В данной главе речь пойдет о влиянии балаганной традиции на пьесы Хлебникова. Прежде, однако, вкратце рассмотрим отношение к ней двух ведущих реформаторов русского театра начала века — Мейерхольда и Евреинова.
В 1912 году Мейерхольд пишет полемическую статью «Балаган», направленную, главным образом, против Александра Бенуа, и в ней балаган описывается как народный театр — который происходит от римской ателланы (проникшей в Рим из Ателлы), получает дальнейшее развитие в искусстве сперва комедиа дель арте, а затем парижских уличных фигляров с рыночной площади Сен-Жермен и, наконец, порождает кабаре, театр-варьете и мюзик-холл. Таким образом, по Мейерхольду, народный театр имеет западноевропейское происхождение, и даже в провинциальном ярмарочном шутовстве ему слышится отзвук гастролей итальянских трупп комедиа дель арте:
Самые звонкие отголоски итальянских комедий, представлявшихся при дворе Анны Иоанновны, до сих пор звучат в балаганах средней полосы России.
(Мейерхольд 1968: 182)
Но что именно в народном театре, по мнению Мейерхольда, в состоянии оживить театр современный? „Маска, жест, движение”, — говорит он, выделяя „самодовлеющее значение актерской техники” (Мейерхольд 1968: 213). Театр создается актером; сцена — это любое место, где вокруг актера собрались зрители, а искусство его складывается из мимики и пластики. Новый актер Мейерхольда сродни циркачу — жонглеру, акробату и также, отчасти, клоуну. В своей статье Мейерхольд подчеркивает, что зритель обязан „смотреть на представление актеров не иначе, как на игру. И всегда, когда зритель вовлечен актером в страну вымысла слишком глубоко, актер стремится как можно скорее ‹...› напомнить зрителю, что то, что перед ним творится, только “игра”” (Мейерхольд 1968: 215). Театр не старается имитировать реальность, но вместо этого создает собственную реальность или некий параллельный мир.
Мейерхольда привлекает в народном театре безоглядное использование преувеличения, склонность к гротеску:
Гротеск, ищущий ненатурального, связывает в синтезе экстракты противоположностей, создает картину феноменального, приводит зрителя к попытке отгадать загадку непостижимого. ‹...›
Не в том ли задача сценического гротеска, чтобы постоянно держать зрителя в состоянии этого двойственного отношения к сценическому действию, меняющему свои движения контрастными штрихами?
Основное в гротеске это — постоянное стремление художника вывести зрителя из одного только что постигнутого им плана в другой, которого зритель никак не ожидал.
(Мейерхольд 1968: 226–227)
Гротеск объединяет самые разнородные явления, и абсурдность внезапных переходов призвана вышибить зрителя из привычной колеи, отворить дверь в неведомое. Эстетика, которую пропагандирует в своей статье Мейерхольд, была уже к тому времени опробована при постановке блоковского «Балаганчика» в 1906 году:
За столом сидят “мистики” так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук.
(Мейерхольд 1968: 228)
Превыше всего Мейерхольд ценит неожиданные перемены, фокусы; актеру следует быть иллюзионистом, а у зрителя должно захватывать дух. Неоднозначность, внутренне присущая «Балаганчику», делала эту пьесу удачным полигоном для проверки новых идей Мейерхольда на практике, и спектакль вызывал у зрителей оживление сродни тому, что возникает от уличной постановки: „Пусть часть зрительного зала шикала Блоку и его актерам, театр был театром” (Мейерхольд 1968: 208). Зрительское “участие” в представлении — характерная черта всех форм ярмарочного балагана — рассматриваюсь Мейерхольдом как доказательство того, что театр действительно выполняет свою функцию, ничью иную.
Ярмарочным театром активно интересовался также и Евреинов. В статье «Театр как таковой» он противопоставлял балаган “эстетическому вкусу” (который, по его мнению, персонифицировал Александр Бенуа) и декларировал свое предпочтение балагана:
Я видел балаганные представления, далекие от эстетических требований Александра Бенуа, но где был подлинный театр, потому что в нем обращались не к художественному чувству зрителей, а к чувству театральности, к тому, повторяю, анархическому чувству каждого из нас, которое всегда хочет настоящего и до безумия смелого преображения.
(Евреинов 1912: 30)
Несмотря на безвкусицу и грубость балагана, Евреинов рассчитывает обнаружить подлинный театр (согласно своему пониманию последнего как пародии, преображения, метаморфозы) скорее в ярмарочном павильоне, чем на современной ему сцене:
Ради Бога, не мудрите, если хотите порадовать нас театром, а не чем-нибудь другим. Ей-же-ей, в вывесках балаганов, украшениях тиров и народных каруселей больше театрального вкуса, чем в большинстве современных театров на новый фасон.
(Евреинов 1912: 106)
В отличие от Мейерхольда, связывавшего народный театр исключительно с западной традицией (особенно с комедиа дель арте), Евреинов интересовался отечественным вариантом народного театра и его источниками, особенно зимним и весенним карнавалами. Он указывает на „полумистическую, полуюмористическую” природу этих обрядов и приводит примеры элементов пародии в них:
Подобного же рода кощунственную в глазах духовенства пародию можно было наблюдать до недавнего сравнительно прошлого, и в поздне-весеннем обряде “похорон русалки”, в Рязанской губернии, когда куклу, величиной с шестинедельного ребенка, клали в гроб, убирали цветами и несли топить на берег реки. Девушки тогда наряжались кто священником, кто дьяком, делали кадило из яичной скорлупы, пели “Господи помилуй” и шли со свечами из стеблей конопли. У реки “русалке” расчесывали волосы и прощались с нею, притворно плача.
(Евреинов 1955: 34)
В то же время Евреинов сам писал пародии и ставил их на сцене. Будучи режиссером петербургского театра «Кривое зеркало» (1910–1917), он написал четырнадцать пьес, из которых семь характеризовались как пародии (“буффонада”, “пародия-гротеск”).
Также насквозь пародийна «Веселая смерть», написанная Евреиновым еше в 1908 году и поставленная шестью месяцами позже в «Веселом театре для пожилых детей» — просуществовавшем недолго и воспринимавшемся, в силу свойственной ему гротесковости, грубой сатиричности как своего рода ярмарочный павильон в самом сердце столицы — оплота рафинированной культуры. Пьеса Евреинова имеет определенное родство с хлебниковской «Ошибкой Смерти», поэтому я остановлюсь на ней подробнее.
Помимо стандартного для комедиа дель арте трио (Пьеро, Арлекин, Коломбина), действующими лицами «Веселой смерти» являются Доктор и Смерть, традиционные персонажи русского народного театра. Смерть описывается как „ярко белый скелет в прозрачном дымчатом платье фасона Коломбины; на черепе такая же треуголка” (возможное эхо девушки с косой из блоковского «Балаганчика»). „С ухватками балаганной героини”, она делает „трагические жесты”. В конце пьесы Смерть исполняет пародийный Totentanz:
Раздается вкусная музыка скрипок, аппетитно посыпанная острыми звуками ксилофона с кастаньетами.
Смерть пляшет...
(Евреинов 1914: 89)
Арлекин так и заявляет:
Но традиционный танец? Ваш танец доброго старого времени, когда люди не разучились еще умирать, как теперь, и сама Смерть была для них развлечением. Прошу вас покорно!
(Евреинов 1914: 89)
Сцена, в которой Доктор осматривает заболевшего Арлекина, изобилует речевыми штампами народного театра:
Доктор: Мне надо вас выслушать.
Арлекин: О чем я должен говорить?
Доктор: Нет, я говорю, мне надо вас выслушать.
Арлекин: Ну, а я спрашиваю: по какому вопросу?
(Евреинов 1914: 64)
Ср. следующие строки из репертуара народного театра:
Атаман (спрашивает Жида): За что его повесили?
Жид: За шею да веревочку.
Атаман: Да за какую-то вину-то?
Жид: Да не за вину, а за шею да веревочку.
(Богатырев 1923б: 39)
Лингвистические средства, дающие комедийный эффект в народном театре, обычно включают омонимию — общеязыковую или окказиональную, вследствие нарочитой “ослышки”, — а также внезапные переходы в диалоге от абстрактных значений к конкретным (Богатырев 1971: 450–496, Warner 1977: 232–236).
Другая черта, объединяющая «Веселую смерть» с народным театром, — наличие пролога и эпилога (Богатырев 1971: 163). Пьеса имеет следующий подзаголовок: «Арлекинада в одном действии с небольшим, но крайне занятным прологом и несколькими заключительными словами от имени автора, Н. Евреинова». В прологе и эпилоге Пьеро обращается непосредственно к зрителям, и зачастую издевательски, дабы спровоцировать полемику. Первейшее средство в его арсенале — представить в ином свете мотивы театралов:
И когда явится Коломбина, не аплодируйте ей, как сумасшедшие, только из желания показать соседям, что вы с ней знакомы, завели интрижку и умеете ж ценить кое-какие таланты...
(Евреинов: 1914: 57)
Играя на ожиданиях публики, Пьеро ни на минуту не позволяет зрителям забыть, что они в театре:
Скажу вам больше — я знаю, может быть, наверняка, что Арлекин скоро умрет, но какой же порядочный артист расскажет публике конец пьесы до ее начала!
(Евреинов 1914: 58)
В эпилоге Пьеро спешит занять место среди зрителей, подчеркивая тем самым, что предложенная их вниманию постановка была игрой, а отнюдь не эпизодом реальной жизни. По секрету он даже сообщает публике, что автор просто насмехался:
И что он хотел сказать своей пьесой... виновник этого странного, говоря между нами, издевательства над публикой.
(Евреинов 1914: 90)
Когда опускается занавес, Пьеро остается перед ним, дабы лишний раз показать, что все происшедшее на сцене было только веселой игрой, и что какая-либо серьезная реакция совершенно неуместна. Пролог и эпилог призваны рассеять театральные иллюзии. На это же направлен заключительный монолог Пьеро:
Господа, я забыл вам сказать, что как ваши аплодисменты, так и шиканье пьесе вряд ли будут приняты всерьез автором, проповедующим, что ни к чему в жизни не стоит относиться серьезно. И я полагаю, что если правда на его стороне, то вряд ли и к его произведению можно отнестись серьезно, тем более, что Арлекин наверно уже встал со смертного одра и, может быть, уже прихорашивается в ожидании вызовов, потому что, как хотите, а артисты не могут быть ответственны за вольнодумство автора.
(Евреинов 1914: 90)
Судя по всему, в контексте 1909 года «Веселая смерть» воспринималась как легкая пародия одновременно на реалистические иллюзии натурализма и возвышенные аллегории символизма. Средства для такой пародии предоставляла Евреинову традиция народного театра — в особенности, диалог между сценой и зрительным залом, дававший возможность иронизировать по поводу “театра иллюзии” и его “четвертой стены”38 .
.
На рубеже веков к народному театру обращались не только драматурги и постановщики. Этой ветвью народной культуры активно заинтересовались этнографы. Например, из двадцати известных вариантов «Царя Максимилиана», перечисленных в Warner 1977, пятнадцать были опубликованы между 1898 и 1914 годом, причем не менее восьми из них появились в 1910–1914 гг. Таким образом, когда писатель Алексей Ремизов составлял своего «Царя Максимилиана» (опубл. 1920), он мог опираться на несколько печатных источников. Тем не менее, статус народного театра был совсем иным, нежели у других жанров народной культуры (сказки, былины). С художественной точки зрения, он не принадлежал к эстетическому наследию и ассоциировался с дешевой, низкопробной культурой ярмарок и аттракционов, предназначенной для низших слоев общества39 . Именно такое отношение хотел передать Евреинов репликой Режиссера в «Четвертой стене»: „Мы здесь не для того, чтоб, извините, ломать комедию... Наше дело слишком серьезно! Это не балаган!” (Русская театральная пародия 1976: 696).
. Именно такое отношение хотел передать Евреинов репликой Режиссера в «Четвертой стене»: „Мы здесь не для того, чтоб, извините, ломать комедию... Наше дело слишком серьезно! Это не балаган!” (Русская театральная пародия 1976: 696).
В начале века отчетливо прослеживалась связь между балаганом и святочными или масленичными ряжеными (Савушкина 1976). Персонажи народного театра нередко имели карнавальную родословную — например, гротескная пара старик и старуха, которым в народном театре придается роль могильщиков. Сцена “игры в покойника”, происходящая от древних весенних обрядов смерти и воскресения, была включена в народную драму «Маврух», где герой воскресает из мертвых посреди пародийной церемонии погребения. Также налицо лингвистическое сходство между карнавальными забавами и культурой балагана. Например, “вожатый медведя” прибегает к языку, напоминающему раешный стих:
А ну-ка, Мишенька Иванец, родом казанец,
Не гнись дугой, как мешок тугой,
Развернись, встрепенись, добрым молодцам покажи,
Как теща про зятя блины пекла, а сама угорела?
(Савушкина 1976: 36)
Как я попыталась продемонстрировать, в эстетическом контексте начала XX века народный театр вдохновлял на протест против окостеневших форм; этот “антитеатр” располагал средствами для создания алогичных, потешных ситуаций и ставил своей целью ниспровержение авторитетов. Итак, приступим — в свете вышеизложенного о положении дел на русской театральной сцене в канун Первой мировой войны — к рассмотрению хлебниковских пьес (1908–1915)40 .
.
Драматургия Хлебникова до сих пор фактически обойдена вниманием исследователей41 , равно как и — даже в большей степени — его юмор. Мандельштам одним из первых заметил в произведениях Хлебникова иронию и комизм. Он писал в 1923 году:
, равно как и — даже в большей степени — его юмор. Мандельштам одним из первых заметил в произведениях Хлебникова иронию и комизм. Он писал в 1923 году:
Каков же должен быть ужас, когда этот человек, совершенно не видящий собеседника, ничем не выделяющий своего времени из тысячелетий, оказался к тому же необычайно общительным и в высокой степени наделенным чисто пушкинским даром поэтической беседы-болтовни. Хлебников шутит — никто не смеется. Хлебников делает легкие изящные намеки — никто не понимает. Огромная доля написанного Хлебниковым не что иное, как легкая поэтическая болтовня, как он ее понимал, соответствующая отступлениям из «Евгения Онегина» или пушкинскому: „Закажи себе в Твери с пармезаном макароны и яичницу свари”. Он писал шуточные драмы — «Мир с конца» и трагические буффонады — «Барышня смерть».
(Мандельштам 1971: 348–349)
“Шуточная драма” — хорошее определение, учитывающее иронию, с которой Хлебников обращается в своей пьесе с традицией натуралистической драмы. Также Мандельштам очень точно подмечает характерный для народного театра юмористический гротеск в пьесе «Барышня смерть». Из всех сочинений Хлебникова для театра эти две пьесы выделяются наиболее тщательной проработкой, и ниже я остановлюсь на них подробнее; однако, сперва хотелось бы коснуться некоторых пародийных черт и комических приемов, свойственных его ранним пьесам.
«Снежимочка»: обыгрывание литературной моды
Уже первая пьеса Хлебникова «Снежимочка» (1908) балансирует между стилизацией и пародией. Отмечалось, что основой ее послужила не только народная сказка как таковая, но также «Снегурочка» в обработке Островского (1873) и одноименная опера Римского-Корсакова (1881) (см. примечания в 1940, 396). То есть, Хлебников отталкивается от двойной культурной традиции. Помимо собственно фольклорного материала он использует фольклор “олитературенный” и даже освященный традицией “высокой” культуры — оперной. Двойственность эта мастерски применена им, дабы иронически дистанцироваться от множества фольклорных стилизаций, появившихся в России в начале века. Важный факт: в письме от 10 января 1909 года Хлебников интересовался у Каменского мнением Ремизова о «Снежимочке» (1940, 393). Ведь именно Ремизов более всех способствовал литературному возрождению русской народной культуры. Ироническое отношение Хлебникова к этой тенденции очевидно; нарушая традиции народной сказки, он вводит в сцену весеннего праздника молодого рабочего, который радостно, вдохновенно заявляет:
Так! И никаких, значит, леших нет. И все это нужно, чтобы затемнить ум необразованному человеку... Темному.
(1940, 65) (1986, 382)
На протяжении всей пьесы Хлебников напоминает нам, что сказочные персонажи были “узурпированы” книгами и превратились в литературные клише:
‹Ховун: › Нонче норовят всё из нас книги... Старых разбойников нет. Те, что свистнут в два пальца, и откуда ни возьмись сивка-бурка пышет ноздрями.
(1940, 69) (1986, 385)
Снежимочка — это не только персонаж русской сказки, но также и литературная условность, сценический образ:
1-й собеседник (недоверчиво): Что это, из «Снегурочки» Римcкого-Корсакова?
(1940, 70) (1986, 386)
Игра между “реальностью” (фольклором) и “вымыслом” (художественной стилизацией) достигает апогея в сцене прибытия Снежимочки в город, где ее приветствует толпа мальчишек:
Снегурочка! Снегурочка! Помнишь, видели в Народном доме.
(1940, 71) (1986, 387)
Эти инородные включения в сюжет народной сказки создают неоднозначность, препятствующую прочтению пьесы как простой стилизации. «Снежимочка» — традиционная рождественская сказка, но в то же время в ней налицо издевка над самим этим жанром.
«Маркиза Дэзес» и «Чёртик»: город как объект насмешки
В следующих двух драматургических работах, «Маркиза Дэзес» и «Чертик» (обе написаны в 1909 году; первая тогда же и опубликована, вторая — в 1914 году), Хлебников иронизирует над петербургскими литературными и окололитературными кругами. Действие «Маркизы Дэзес» происходит на столичном вернисаже, а что касается «Чертика», хотя в нем топография менее ясна, некоторые детали (скульптура Геракла на дворце княгини Дашковой, сфинксы у Невы) позволяют определить место действия тоже как Петербург. В обеих пьесах нарушается граница между одушевленным и неодушевленным, что характерно для традиции гротеска. В «Маркизе Дэзес» оживают птицы на дамских шляпах, спрыгивают с плеч и удирают прочь меховые воротники, в живой и синий лен распались женщин кружева, тогда как люди, напротив, обращаются в изваяния. В «Чертике» оживают и плавают по Неве сфинксы, сходит с карниза статуя Геракла, в городе появляется воскресший мамонт. Тон обеих пьес ироничен. В «Маркизе Дэзес» мишень иронии — искушенная публика на художественной выставке, а «Чертик» содержит насмешку над книжным знанием и философским дискурсом. Роман Якобсон усмотрел в «Маркизе Дэзес» влияние «Горе от ума» (1940, 398), и действительно в пьесе Хлебникова, как и в грибоедовском шедевре, налицо разговорные интонации, афористичность, сатира на городскую жизнь.
В рамках данного исследования наиболее интересен тот факт, что для создания комического эффекта Хлебников пользуется в обоих пьесах языковыми приемами народного театра. В «Чертике» для насмешки над философами и писателями (Огюст Конт, Иммануил Кант, Кнут Гамсун) в ход идут каламбуры и омонимия:
Черт: Какие прекрасные книги оставлены ею здесь. Целая куча. Всё Конт да Кант. Еще Кнут. Извозчик, не нужен ли тебе кнут?
‹Извозчик:› А? У меня и свой есть.
(IV, 202) (1986, 392)
В «Маркизе Дэзес» типичная для народного театра сцена превратного понимания возникает, когда распорядитель вечера говорит слуге принести Рафаэля (За Рафаэлем пошли; 1940, 79; 1986, 407), то есть бутылку французского аперитива «Saint-Raphael», — но появляется художник Рафаэль: Я слышал зов. Надеюсь видеть папу Пия и Анджело! (1940, 82) (1986, 409). Дабы акцентировать прием, Хлебников помещает в уста кого-то из публики следующую реплику:
Кто-то: О, Рафаэль-вино и Рафаэль живой! О, прибаутка ведем! Ну, что же, ты ошибся: домой, в путь обратный едем.
(1940, 83) (1986, 410)
Для «Маркизы Дэзес» вообще характерно смешение смысловых пластов. Например, восхищенные замечания приглашенных на вернисаж перемежаются репликами с выражением самых тривиальных нужд:
Все: Он чудо! Он прелесть!
Он милка!
От восторга выпала моя челюсть.
Соседка, передайте мне вилку!
Ценитель: О! Это тонко. Весьма!
Вы заметили, какая нежность письма?
Любитель: Да! Здесь что-то есть!
Не знаете, здесь можно поесть?
Писатель: Какой образ, какой образ! Пойду запишу.
Любитель: Пойду и что-нибудь перекушу.
(1940, 77) (1986, 406)
Аналогичное снижение всего высокого и классического наблюдается и в «Чертике». Взять, например, обращение черта к Гераклу:
Милый Геркуля, ты простишь мне, что твое изображение красуется на всех порошках с древле-овсяной мукой? Да, я винюсь, это была моя злая шутка. Но я думал оказать тебе услугу, что это тебя прославит, когда ты будешь везде в ходу, подобный средству, которое слабит. Что? Что? Ты недоволен сравнением?
(IV, 208) (1986, 395)
Современное назначение героя античности — рекламировать овсянку. Черт имеет в виду изображение Геракла, украшавшее в начале века пачки овсяной крупы, — что привело к образованию нового омонима. Согласно словарю Ожегова (1952), Геркулес: 1) силач, 2) овсяная крупа. Классическое наследие таким образом приравнено к тарелке овсянки.
Более того, в «Чертике» встречается непосредственная пародия на философский дискурс (монолог черта о воплях мартовских котов). Монолог начинается с каламбура, основанного на имени философа Соловьева:
Одна: Соловьев... отечественный мыслитель сказал...
Черт: Да, мы там послушаем и соловьев. Знайте, что недавно я должен был принять ходоков от городских кошек, жалующихся, что несметное количество их сестер погибает от предрассудков, что весенняя песнь кошек, их хвала восходящему солнцу менее приятна, чем песни их вкусных соперников по нарушению ночной тишины — соловьев, и что свод законов не ограждает их от летящих чернильниц — и просящих слезно рассеять этот предрассудок. Но я должен был им указать на ограниченность круга их миропонимания и заявить, что начало кошек, призванных заменить нечто мычашее или только еще хрюкающее (и здесь благородство имеет разделы), — есть мировое начало и восходит до звезд и даже дальше, за пределы сих светил, ибо сам мир — я должен это заявить голосом твердым и властным — есть лишь протяжное „мяу”, зажаренное и поданное нам вместо благородного „м-му”. Вы видите, что и я бываю способен на потрясение основ.
(IV, 207) (1986, 394)
Сложный синтаксис, придаточные предложения, специальная лексика относят этот монолог к жанру философской полемики. Однако применение подобных слов и конструкций в апологии кошачьей серенады снижает их и высмеивает.
Окончание «Чертика» напоминает сцену в погребе Ауэрбаха из «Фауста»42 . Эта параллель становится еще явственней, если заметить, что темы обеих пьес связаны с вызовом рациональному знанию. Кроме того в «Чертике» есть сцена, сильно напоминающая знаменитую Вальпургиеву ночь: Скачут голые ведьмы с буйным свитком волос и, оседлав ученого, мчат его на край видимого поля (IV, 201) (1986, 391). В сцене в чайной Хлебников обращается к ярмарочному фольклору, вводя фигуру разносчика:
. Эта параллель становится еще явственней, если заметить, что темы обеих пьес связаны с вызовом рациональному знанию. Кроме того в «Чертике» есть сцена, сильно напоминающая знаменитую Вальпургиеву ночь: Скачут голые ведьмы с буйным свитком волос и, оседлав ученого, мчат его на край видимого поля (IV, 201) (1986, 391). В сцене в чайной Хлебников обращается к ярмарочному фольклору, вводя фигуру разносчика:
Чулки вязаны, рукавицы теплые! Очень дешево, лучший товар!
(IV, 222) (1986, 402)
В чайной сидят сфинксы с набережной Невы. В ответ на вопрос Сидельца, что будут пить (Черного? Белого?), они говорят: Синего. Мы пьем только синее небо ‹...› Мы полним небом синим кружки, // Мы смотрим светло и спесиво, // На все иные пива (IV, 223) (1986, 402). Сиделец отвечает им в духе ярмарочного разносчика:
Края пенного стакана широки и облы,
О, не хотите ли, сфинксы, кусочка воблы?
Пиво взойдет до Овна и до Рака, —
О не угодно ли, сфинксы, рака?
Пиво не дороже копеек пяти,
Взметнет до Млечного Пути
(IV, 223–224) (1986, 403)
Сиделец превозносит свой товар до небес, и в следующее мгновение метафорический оборот, согласно логике волшебной сказки, воплощается буквально: Стакан пива принимает размеры вселенной (IV, 224) (1986, 403). Граница между игрой слов и реальностью стерта — реальность подчиняется изреченному слову. Такая “логика на случай” характерна для театра абсурда, и хлебниковский «Чертик» — один из первых образцов данного жанра.
В 1909 году Хлебников написал два стихотворения, тесно связанных с пьесами этого же года. Оба пародируют столичный литературный свет, и в обоих поэт использует приемы, характерные для ярмарочной культуры. «Карамора № 2-й» описывает художественную выставку в редакции журнала «Аполлон». В стихотворении фигурирует ряд петербургских литературных знаменитостей, в том числе модная поэтесса43 , изображенная в манере райка. Раешный стих Хлебникова построен на двусмысленной игре слов, материалом для которой послужило сравнение с Сафо:
, изображенная в манере райка. Раешный стих Хлебникова построен на двусмысленной игре слов, материалом для которой послужило сравнение с Сафо:
Вот новая Сафо; внучка какого-то деда,
Она начинала родовое имя с ‘де’, да.
Как Сафо, она, мне мнится, кого-то извела.
Как софа, она и мягка, и широка, но тоже не звала.
(1940, 202)
В стихотворении «Передо мной варился вар...» описываются встречи на знаменитой Башне Вячеслава Иванова. В письме отцу от 13 ноября 1909 года Хлебников так писал об этих вечерах: Я член “Академии стиха”, очень поглупел, два раза читал свои стихи на вечерах (V, 288). Иронизируя над торжественной атмосферой встреч на Башне, он использует такие грубые балаганные приемы, как омонимия и “ослышка”:
Другие сидели молча, не издав ни звука.
— Скажите, вы изволили вкусить блага наук?
— Паук?
— Ах, нет... Наук.
(1940, 198)
Или, в раннем варианте стихотворения:
— Извините — моя вина — я не знаю, в чем моя вина.
Ах, вы не желаете вина?
Ну, тогда, может быть, вы хотите чаю?
— Я чаю воскресения мертвых.
(1940, 422)
Ср. с народным театром:
— Паяц, тебя ищет полиция.
— Меня ищут в больницу. Зачем? Я здоровый, не хвораю.
— Нет, не в больницу, а в полицию. Тебя нужно отдать в солдаты.
— Меня в собаки?
(Русская народная драма 1953: 110)
В «Маркизе Дэзес» и «Чертике» Хлебников иронизирует над петербургской литературной и окололитературной средой44 , с ее вернисажами, книгами, модными философами, обыкновением “жить в литературе”, а не в реальности. И не случайно, дабы высмеять городских “высоколобых”, поэт прибегает к городскому же “низовому” фольклору, к балаганному зубоскальству. В «Свояси» (1919) Хлебников сам намекает, что игра слов в «Чертике» есть вызов логике и здравому смыслу: Так же внезапно написан “Чертик”, походя на быстрый пожар пластов молчания. Желание “умно” — а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение (II, 10) (1986, 37).
, с ее вернисажами, книгами, модными философами, обыкновением “жить в литературе”, а не в реальности. И не случайно, дабы высмеять городских “высоколобых”, поэт прибегает к городскому же “низовому” фольклору, к балаганному зубоскальству. В «Свояси» (1919) Хлебников сам намекает, что игра слов в «Чертике» есть вызов логике и здравому смыслу: Так же внезапно написан “Чертик”, походя на быстрый пожар пластов молчания. Желание “умно” — а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение (II, 10) (1986, 37).
«Победа над Солнцем» и «Госпожа Ленин»: пародирование символизма
В декабре 1913 года футуристы дали в Петербурге два представления «Победы над солнцем» — пародийного Gesamtkimstwerk45 . Текст “оперы” принадлежал Крученых и Хлебникову, музыка — Матюшину, а декорации — Малевичу. После грандиозного успеха евреиновской постановки «Вампуки, невесты африканской» в театре «Кривое зеркало» жанр “пародийной оперы” обрел немало адептов. В «Победе над солнцем» пародировалось “солнцепоклонничество” символистов, особенно Бальмонта и Иванова («Будем как солнце», «Гимн солнцу», «Хвала солнцу» и т.д.; см. Erbslöh 1976: 71–72). В прологе, написанном Хлебниковым, весь мир театра переиначен на новый лад: пьеса играется в созерцавеле, созерцебене или созерцоге, аудитория состоит из видухов, глядарей и созерцал, а то, что по ходу действия одни и те же актеры исполняют разные роли, подчеркнуто их общим наименованием обликмены; костюмы же их напоминают ряженых (Обликмены деебна в полном ряжебне пройдут, направляемые указуем волхвом игор, в чудесных ряжевых: «Победа над солнцем» 1913: 2). Также в прологе явственно различимы интонации балаганного зазывалы:
. Текст “оперы” принадлежал Крученых и Хлебникову, музыка — Матюшину, а декорации — Малевичу. После грандиозного успеха евреиновской постановки «Вампуки, невесты африканской» в театре «Кривое зеркало» жанр “пародийной оперы” обрел немало адептов. В «Победе над солнцем» пародировалось “солнцепоклонничество” символистов, особенно Бальмонта и Иванова («Будем как солнце», «Гимн солнцу», «Хвала солнцу» и т.д.; см. Erbslöh 1976: 71–72). В прологе, написанном Хлебниковым, весь мир театра переиначен на новый лад: пьеса играется в созерцавеле, созерцебене или созерцоге, аудитория состоит из видухов, глядарей и созерцал, а то, что по ходу действия одни и те же актеры исполняют разные роли, подчеркнуто их общим наименованием обликмены; костюмы же их напоминают ряженых (Обликмены деебна в полном ряжебне пройдут, направляемые указуем волхвом игор, в чудесных ряжевых: «Победа над солнцем» 1913: 2). Также в прологе явственно различимы интонации балаганного зазывалы:
Люди! Те кто родились но еще не умер. Спешите идти в созерцог или созерцавель... Созерцавель проведет вас... От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеяв и веселогов...
(«Победа над солнцем» 1913: 2)
Если вдохновляющее влияние «Вампуки» на пародийную оперу футуристов — лишь предположение, то между пьесой Хлебникова «Госпожа Ленин» и монодрамой Евреинова «В кулисах души» прослеживается куда более четкая зависимость. «В кулисах души» исполнялось в «Кривом зеркале» в 1912 году, «Госпожа Ленин» была опубликована в сборнике «Дохлая луна» в 1913 году. Мишенью сатиры Евреинова послужили новейшие психологические теории Вундта, Фрейда и Рибо, а также представление о том, будто человеческая душа разложима на составные части, которые противостоят друг другу. В трактовке “духовного разложения” Хлебников заходит еще дальше. Действующими лицами «Госпожи Ленин» являются обособленные Голос Зрения, Голос Слуха, Голос Рассудка, Голос Внимания, Голос Памяти, Голос Страха, Голос Осязания и Голос Воли46 . Своим тоном и фразеологией пьеса травестирует символистскую драму:
. Своим тоном и фразеологией пьеса травестирует символистскую драму:
Голос Зрения: Мокрый сад. Кем-то сделанный чертеж круга. Следы ног. Мокрая земля, мокрые листья.
Голос Разума: Здесь страдают. Зло есть, но с ним не борются.
Голос Сознания: Мысль победит. Ты, одиночество, спутник мысли. Нужно избегать людей.
Голос Зрения: Прилетевшие голуби. Улетевшие голуби.
(IV, 248) (1986. 415–416)
Бессвязность реплик отражает нарушение всех и всяческих связей. В подобном раздробленном контексте слова “обнажены”, показаны философски пустыми и банальными (здесь страдают, мысль победит). Демаскируя таким образом язык современных философских пьес, Хлебников высмеивает бессодержательность самой их философии47 .
.
«Мирсконца»: обыгрывание языковых клише
При первой публикации (в 1913 году) пьеса «Мирсконца» обращала на себя внимание благодаря, главным образом, вывернутой наизнанку временной перспективе; жизненный путь главных действующих лиц, Поли и Оли, прослеживается в ней от могилы и — буквально — до колыбели, словно в кинофильме, пущенном обратным ходом (см. Якобсон 1921: 27). Якобсон рассматривал эту пьесу как пример „обнаженного временного сдвига” (Якобсон 1921: 24); то есть, инверсия времени, никоим образом не мотивированная, используется якобы как прием ради самого приема. Такая интерпретация удовлетворяла эстетике раннего формализма и, очевидно, служила заявленной полемической цели. Однако если рассматривать «Мирсконца» в контексте прочих пьес Хлебникова и общей театральной ситуации 1912–1913 гг., то обратная хронология видится как прием, в первую очередь, пародийный. Перед нами разворачивается карикатура на «Жизнь человека»48 — житие мелкого буржуа в пяти картинах: I. Воскреснув на похоронах, престарелый Поля возвращается домой к Оле; II. Поля и Оля, теперь уже средних лет, поглощены воспитанием детей и обсуждают модные темы. III. Поля и Оля — юные влюбленные в лодке. IV. Поля и Оля по пути на школьный экзамен и после экзамена. V. Поля и Оля проезжают в детских колясках. От сцены к сцене диалог становится все лаконичнее, в последней сцене наступает полное молчание.
— житие мелкого буржуа в пяти картинах: I. Воскреснув на похоронах, престарелый Поля возвращается домой к Оле; II. Поля и Оля, теперь уже средних лет, поглощены воспитанием детей и обсуждают модные темы. III. Поля и Оля — юные влюбленные в лодке. IV. Поля и Оля по пути на школьный экзамен и после экзамена. V. Поля и Оля проезжают в детских колясках. От сцены к сцене диалог становится все лаконичнее, в последней сцене наступает полное молчание.
Пародийная нота звучит уже в самих именах героев, Поля и Оля, чье фонетическое сходство вызывает ассоциации с традицией комических парных имен (фольклорные Фома и Ерема, гоголевские Бобчинский и Добчинский, и т.д.); более того, когда в первой сцене Поля и Оля обсуждают похороны, они напоминают бурлескную пару старик и старуха из репертуара народного театра. Судя по всему, “воскресение” Поли также связано с фольклорными пародиями на похоронный ритуал, в которых мертвец оживает (Warner 1977: 74–78)49 . Описывая подобную “покойницкую игру”, Савушкина воспроизводит шуточные стихи, читаемые “гостями”:
. Описывая подобную “покойницкую игру”, Савушкина воспроизводит шуточные стихи, читаемые “гостями”:
Покойник, покойник,
Умер во вторник,
Стали кадить,
Он из-под савана глядит.
(Савушкина 1976: 43)
В «Мирсконца» воскресению дана “мотивировка” — похоронный ритуал кажется покойнику непереносимо чужим и странным:
Поля: Подумай только: меня, человека уже лет 70, положить, связать и спеленать, посыпать молью. Да кукла я, что ли?
Оля: Бог с тобой! Какая кукла!
Поля: Лошади в черных простынях, глаза грустные, уши убогие. Телега медленно движется, вся белая, а я в ней точно овощ: лежи и молчи, вытянув ноги, да посматривай за знакомыми и считай число зевков у родных, а на подушке незабудки из глины, шныряют прохожие. Естественно я вскочил, — бог с ними со всеми! — сел прямо на извозчика и полетел сюда без шляпы и без шубы, а они: „лови! лови!”
(IV, 239) (1986, 420)
Тон диалога — подчеркнуто разговорный50 , изобилующий повседневными клише. Оборот естественно я вскочил, употребляемый обычно для выражения сильного удивления или волнения, здесь использован буквально и обозначает событие по меньшей мере необычное — бегство Поли со смертного одра. Неожиданный комический подтекст приобретают и прочие фразеологические обороты; особенно это относится к выражениям бог с тобой, бог с ними со всеми, отчасти обнаруживающими в контексте похоронного обряда свой исходный смысл. Когда Оля запирает Полю — которого все считают мертвым — в шкафу, поскольку в дверь стучат, а затем обращается к визитеру с длинным монологом, то избитые выражения (ни за какие смерти, да при смерти) внезапно обретают новую жизнь и как бы уже относятся к ее “мертвому” супругу:
, изобилующий повседневными клише. Оборот естественно я вскочил, употребляемый обычно для выражения сильного удивления или волнения, здесь использован буквально и обозначает событие по меньшей мере необычное — бегство Поли со смертного одра. Неожиданный комический подтекст приобретают и прочие фразеологические обороты; особенно это относится к выражениям бог с тобой, бог с ними со всеми, отчасти обнаруживающими в контексте похоронного обряда свой исходный смысл. Когда Оля запирает Полю — которого все считают мертвым — в шкафу, поскольку в дверь стучат, а затем обращается к визитеру с длинным монологом, то избитые выражения (ни за какие смерти, да при смерти) внезапно обретают новую жизнь и как бы уже относятся к ее “мертвому” супругу:
Оля: А он умер, честное слово, а вы, может быть, куда-нибудь торопитесь, спешите, а? А то посидите, отдохните, если устали, уж уйду свечу поставить, знаете обычай, вы отдохните, посидите в гостиной, покурите, а ключа не дам ни за какие смерти: режьте, губите, волоките на конских хвостах белое тело мое, только не дам ключа, вот и весь сказ.
‹...›
Оля: ...Опять звонок! И отпирать не буду: прямо скажу — больна да при смерти!
(IV, 241) (1986, 421)
Подобно воскресшему Поле, окостеневшие и мертвые языковые формы также приходят в движение и меняют смысл. Контраст между абсурдным происшествием (чудо воскресения Поли) и механическим, “самоочевидным” обыденным языком порождает комические ситуации, в которых слова “разоблачаются”, остраняются.
В «Мирсконца» Хлебников не только обыгрывает клише повседневной речи, но также использует подчеркнуто разговорный синтаксис. Крученых это интуитивно осознавал, публикуя пьесу в авторском сборнике «Ряв» без каких-либо знаков препинания (IV, 339). Когда в конце двадцатых годов «Мирсконца» переиздали, отсутствие пунктуации было воспринято как типичный футуристский эпатаж, и в длинном монологе Поли в первой сцене (Нет ты меня успокой...) были расставлены знаки препинания, что лишь замутняло смысл51 . Монолог этот заслуживает самого пристального внимания, так как, по моему мнению, впервые являет пример чисто разговорного синтаксиса в литературном произведении52
. Монолог этот заслуживает самого пристального внимания, так как, по моему мнению, впервые являет пример чисто разговорного синтаксиса в литературном произведении52 . Казалось бы, речь Поли выглядит хаотическим нагромождением бессвязных фрагментов, однако при повторном чтении начинают различаться семантические комплексы. Для облегчения понимания предлагаю следующую разбивку по строчкам:
. Казалось бы, речь Поли выглядит хаотическим нагромождением бессвязных фрагментов, однако при повторном чтении начинают различаться семантические комплексы. Для облегчения понимания предлагаю следующую разбивку по строчкам:
Нет ты меня успокой
да спрячь вот сюда в шкап
вот эти платья
мы их вынем
зачем им здесь висеть
вот его я надел когда был произведен
гм гм дай ему царство небесное
при Егор Егоровиче
в статские советники
то надел его и в нем представлялся начальству
вот и от звезды помятое на сукне место
хорошее суконце
таких теперь не найдешь
а это от гражданской шашки место осталось
такой славный человек
тогда еше на Морской
портной был
славный портной
Ах, моль
вот завелась
лови ее
ах озорная
все бывало говорил
я вам здесь кошелек пришью из самого крепкого холста
никогда не разорвется
а вы мой наполните
дай Бог ему разорваться
Моль
А это венчальный убор
помнишь голубушка
Воздвиженье
так мы это все махоркой посыплем
и этой дрянью что пахнет и плакать хочется от нее
и в сундук положим
запрем знаешь покрепче
и замок такой повесим
хороший большой замок
а сюда знаешь подушек побольше
дай периновых
устал я знаешь сильно
чтобы соснуть можно было
что-то сердце тревожно
знаешь такие кошки приходят и когти опускают на
сердце
сама видишь
все неприятности
коляска
цветы
родные
певчие
знаешь как это тяжело
так если придут
скажи
не заходил и ворон костей не заносил
и что не мог даже никак прийти потому что врач уже
сказал что умер
и бумажку эту знаешь сунь им в самое лицо и скажи
что на кладбище даже увезли проклятые
и что ты ни при чем и сама рада что увезли бумага здесь главное
они знаешь того перед бумагой и спасуют а я того сосну
(IV, 239–240; 1986, 420;
без знаков препинания и с иной разбивкой по строчкам)
Монолог изобилует разговорными словами-паразитами (‘нет’, ‘вот’, ‘так’, ‘знаешь’, ‘того’)53 . Существительные-антецеденты нередко стоят после соответствующих местоимений или даже вовсе отсутствуют (вот его я надел когда я был произведен; гм гм дай ему царство небесное), что также характерно для устной речи. Синтаксически монолог не структурирован. Речевые фрагменты вклиниваются один в другой или выстроены в порядке, определяемом ситуацией (Ах, моль вот завелась лови ее) или же полиными ассоциациями и воспоминаниями (вот его я надел когда был произведен... вот от звезды помятое на сукне место... хорошее суконце... такой славный человек... портной был). Возникающий смысл также фрагментарен и неясно очерчен, что типично для разговорной речи (Гаспаров 1978: 91).
. Существительные-антецеденты нередко стоят после соответствующих местоимений или даже вовсе отсутствуют (вот его я надел когда я был произведен; гм гм дай ему царство небесное), что также характерно для устной речи. Синтаксически монолог не структурирован. Речевые фрагменты вклиниваются один в другой или выстроены в порядке, определяемом ситуацией (Ах, моль вот завелась лови ее) или же полиными ассоциациями и воспоминаниями (вот его я надел когда был произведен... вот от звезды помятое на сукне место... хорошее суконце... такой славный человек... портной был). Возникающий смысл также фрагментарен и неясно очерчен, что типично для разговорной речи (Гаспаров 1978: 91).
Зачем Хлебникову понадобилось передавать разговорный язык столь натуралистично? Полагаю, нарочитая разговорность монолога — это иронический выпад в адрес традиции “жизнеподобия” а-ля Станиславский. Кажется, что Хлебников с усмешкой говорит: вы хотите, чтобы на сцене все было, как в настоящей жизни? Вот и послушайте, как говорят люди на самом деле!
Во второй сцене объектом пародии являются светские беседы на модные темы (в данном случае, о дарвинизме). Банальность подобного дискурса выявляется смешением реплик, относящихся к дарвинизму, с пустыми любезностями. Таким образом, научная теория укладывается в прокрустово ложе речевого этикета:
Поля: Ты видишь, кстати, наш сосед приехал к нам и об естественном беседует подборе с Надюшей. Смотри да замечай: не быть бы худу.
‹...›
Поля: Приятно слышать! А, происхождение видов! Добро пожаловать к нам в гости! Нинуша, Иван Семенович здесь! Не правда ли, что у обезьян в какой-то кости есть изъян? Мы не учены, но любит старость начитанных умы.
(IV, 242 и 243) (1986, 421 и 422)
Третью сцену составляет короткий монолог. Вольноопределяющийся Поля катает на лодке свою юную возлюбленную Олю. Монолог Поли нарочито “литературен”, изобилует причастными и деепричастными оборотами; это куртуазная велеречивость в стиле символизма, доведенного до предела банальности:
Поля: ‹...› и лодка плывет, бросив тень на теченье; мы, наклоняясь над краем, лица увидим свои в веселых речных облаках, пойманных неводом вод, упавших с далеких небес; и шепчет нам полдень: „О, дети!” Мы, мы — свежесть полночи.
(IV, 244) (1986, 422)
Сцена очевидно пародирует известную литературную традицию стихотворений “на лодке”54 .
.
Четвертая сцена построена вокруг детского омонимического каламбура со словом кол. Возвращаясь с экзамена, Поля отвечает на вопрос Оли сколько?:
Кол, но я, как Муций и Сцевола, переплыл море двоек и, как Манлий, обрек себя в жертву колам, направив их в свою грудь.
(IV, 245) (1986, 423)
Дополнительная ирония в том, что Поля, видимо, и не подозревает о существовании двойной формы множественного числа “колы” / “колья” (двоечник!).
В пятой сцене диалог прекращен, и Поля с Олей молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.
«Мирсконца» — не просто пародия на символистскую драму о “жизни человека”, но также и прежде всего пьеса об эволюции языка. При помощи пародийного приема Хлебников подвергает сомнению то, как человек использует язык. Отправной точкой служит бессвязная старческая болтовня, мешанина речевых фрагментов из предыдущих этапов жизни (содержимое полиного сундука); затем — модные банальности среднего возраста, манерная, многословная “литературщина” юности, школьные каламбуры и, наконец, младенческая бессловесность. В фокусе драмы — язык как этикет и общественная условность. Таким образом, данной пьесой Хлебников предвосхитил театр абсурда.
«Ошибка Смерти»: обыгрывание символа смерти
Осенью 1915 года Хлебников был частым гостем в доме Евреинова. В это время, как он отметил в своем дневнике 23 ноября 1915 года, им была написана победа над смертью — “Ошибка смерти” (V, 333–334). Данная пьеса напоминает как «Веселую смерть» Евреинова, так и блоковский «Балаганчик», но вдобавок исполнена элементами народного театра. Само ее название, возможно, подразумевает полемику с пьесой Сологуба «Победа смерти». Если символист Сологуб разрабатывал западные мотивы («Победа смерти» воссоздает в драматической форме легенду, связанную с французским королем Пипином Коротким), то Хлебников отталкивается от традиции русского народного театра, где борьба со смертью отмечена весельем, простым грубым языком и игрой слов («Аника-воин», «Петрушка»). В философском диалоге «Учитель и ученик» (опубл. 1912) Хлебников изобразил современных ему модных авторов — Сологуба, Арцыбашева, Андреева, Сергеева-Ценского — пророками смерти (Сологуб даже удостоился эпитета гробокопатель). Противопоставлялись им жизнеутверждающие народная песнь и народное слово. Судя по всему, Хлебников имел в виду, что лекарство от пессимизма русских писателей следует искать в народной культуре (V, 180–181).
Главное действующее лицо пьесы — Смерть. В первых же строках поэт создает ироническую дистанцию между ней и зрителем, именуя ее барышней («Барышня Смерть»), а затем даже низводя до роли трактирной прислуги. Вместо традиционной косы при ней хлыст (укротительница среди своих зверей). Это сообщает пьесе элементы цирка, ярмарочного аттракциона55 .
.
В «Ошибке Смерти» прозаические строки чередуются со стихотворными, создавая стилистическую разноголосицу (Барышня Смерть: Кто там, кто там в этот час? // Кто прильнул сюда, примчась? Ср.: Барышня Смерть: Ах ты, напасть какая! На рынок что ли пойти?; IV, 253 и 255; 1986, 426 и 427). Столь же неоднородна пьеса и в тематическом плане: пир мертвецов переплетается с данс-макабр, обращаясь в пародию Тайной Вечери.
Действие начинается в обиталище Смерти — харчевне веселых мертвецов-трупов с волынкой в зубах (числом дюжина). По команде Смерти (Начало бала Смерти. Возьмемся за руки и будем кружиться) попойка переходит в пляску смерти:
Жив ли ты, труп ли ты, пой-ка!
Да славится наша попойка,
Пусть славится наша пирушка,
Где череп веселых — игрушка,
И между пирушки старушка,
И с пьяною рожей старец веселья,
Закутан рогожей, — он князь новоселья!
(IV, 251–252) (1986, 424)
Среди гостей присутствует пара персонажей народного театра — старец и старушка. Старец к тому же закутан рогожей — своего рода “антиматериалом”, связанным с карнавальной традицией56 . Он представлен как князь новоселья, и пирушку возможно интерпретировать как новогоднюю — обряд перехода для мертвецов, которым надлежит привыкнуть к существованию в новом, “мнимом” качестве. Собственно переход, от действительности к мнимости, выражен Хлебниковым через одну из его ключевых метафор — корень квадратный из минус единицы, дающий мнимое число i57
. Он представлен как князь новоселья, и пирушку возможно интерпретировать как новогоднюю — обряд перехода для мертвецов, которым надлежит привыкнуть к существованию в новом, “мнимом” качестве. Собственно переход, от действительности к мнимости, выражен Хлебниковым через одну из его ключевых метафор — корень квадратный из минус единицы, дающий мнимое число i57 :
:
Все, от слез до медуницы,
Все земное будет “бя”58
.
Корень из нет-единицы
Волим вынуть из себя.(IV, 252) (1986, 424)
Тот же переход выражают часы Барышни Смерти, останавливающиеся, когда бьет полночь:
Ты часы? Мы часы!
Нет, не знаешь ни аза,
Кверху копьями усы,
И закрой навек глаза!
Там, где месяц над кровлей повис,
Стрелку сердца на полночь поставь
И скажи: остановись!
Все земное — грезь и явь.
(IV, 252) (1986, 424)
На всем протяжении «Веселой смерти» Евреинова часы символизируют неминуемую гибель Арлекина, который сам то и дело твердит: „Мои часы сочтены... Который час? ‹...› А мои часы не врут? ‹...› Однако, который час? ‹...› Мои часы не отстают?! Они всегда шли в ногу со мной, но сейчас... Но она и без того скоро явится — мои часы сочтены. ‹...› Будем помнить о беге часов!” (Евреинов 1914: 59, 60, 73, 88). Вокруг часов же закручивается у Евреинова сюжетная интрига: Пьеро переводит стрелки часов жизни Арлекина на два часа назад и таким образом определяет его жизнь и смерть. Восклицание хлебниковской Барышни Смерти Ты часы? Мы часы! сродни ироническому комментарию ко всей суете вокруг часов в пьесе Евреинова.
Когда Барышня Смерть натанцевалась, она берет соломинку и пьет вишневый сок из стеклянного стакана. Гости следуют ее примеру: 12 гостей делают то же. Длинный стол, крытый белым. В стаканах красное, темное. Этим дополнительно акцентируется мотив веселого маскарада, бывший налицо и в пляске смерти. Подобно клюквенному соку, брызнувшему из головы раненого Паяца в блоковском «Балаганчике», вишневый сок в «Ошибке смерти» изображает кровь — то есть, сцена с Барышней Смертью и двенадцатью гостями, потягивающими вишневый сок, пародирует Святое Причастие.
Тема черепа (символа смерти) вводится уже в песне, которой начинается пьеса:
Ударим, ударим опять в черепа,
Безмясая пьяниц толпа.
‹...›
Мой череп по шов теменной
Расколется пусть скорлупой,
Как друга стакан именной.
Подымется мертвой толпой.
(IV, 251) (1986, 424)
Именно этот символ, конкретизированный как череп Барышни Смерти, является тем стержнем, вокруг которого развивается действие пьесы. В самом начале пира Барышня Смерть, потягивая красную сладкую воду, требует: Мне дайте голову Олега... Имя Олега в сочетании с черепом приводит на ум образ киевского князя, чья смерть крылась в черепе коня. Череп также является причиной гибели Барышни Смерти — причем, что самое смешное, ее собственный череп.
В разгар “вечери”»в дверь стучат, и на сцене появляется главный герой пьесы — губитель Смерти Тринадцатый посетитель. Назойливый и дерзкий, в борьбе со Смертью он напоминает персонаж народного театра Анику-воина59 . Барышня Смерть пытается не пустить Тринадцатого (дурная примета), но тот, несмотря ни на что, врывается в харчевню и восклицает в лучшей балаганной манере:
. Барышня Смерть пытается не пустить Тринадцатого (дурная примета), но тот, несмотря ни на что, врывается в харчевню и восклицает в лучшей балаганной манере:
Эй! Торговка смертью!
Я не читал про город Глупов,
Но я вижу много бледных трупов.
(IV, 254) (1986, 426)
Балаганные шуты, зубоскаля, нередко прибегали к игре слов, основанной на всевозможных именах собственных и географических названиях (Богатырев 1971: 468). Например, в одном из вариантов «Царя Максимилиана» гусар рассказывает о своих путешествиях по всей России:
Был я в Клину
Фсем дыркам дал па блину
Ани мне ничиво ни сказали
И гулять миня с сабой назвали
Был я ф Тули
Там меня атдули
Был я в Питири
Там мне бака повытирли
(Богатырев 1923а: 174)
Судя по всему, город Глупов Салтыкова-Щедрина упоминается лишь потому, что рифмуется с ‘трупов’. Подобные экспромты встречаются в пьесе сплошь и рядом.
В разговоре со Смертью Тринадцатый посетитель дерзок и докучлив; он посылает Смерть за пивом, как простую служанку: Слушай! Я требую пива мертвых... Эй! Я приказываю! (IV, 254) (1986, 426). Когда Смерть отвечает, что не осталось стаканов, гость произносит Это не мое дело и угрожает Смерти лишением лицензии (Да, или ты лишаешься права торговли смертью навсегда и повсюду). «Прение Живота со Смертью»60 восходит к народному театру, но современная лексика (“право торговли”) создает ироническую дистанцию.
восходит к народному театру, но современная лексика (“право торговли”) создает ироническую дистанцию.
Теперь стержнем развития действия служит стакан, из которого будет пить Тринадцатый. Пока идет препирательство со Смертью, среди мертвецов наблюдается некоторое оживление. Барышня Смерть щелкает хлыстом (Назад, проклятые! Назад, в смерть!), но теряет самообладание и проговаривается:
Сидите, ястребы. Голову я потеряла.
Тринадцатый коварно интересуется у Смерти, не пуста ли ее голова, раз в ту ничего не приходит (Я, тринадцатый, спрашиваю — голова пустая?), на что Смерть поспешно отвечает: Пустая, как стакан. Разговорное клише воспринимается Тринадцатым буквально, и он требует у Смерти ее голову вместо стакана: Вот и стакан для меня. Дай твою голову (IV, 255–256) (1986, 427). Подобные переходы от метафорического понимания слова к буквальному весьма характерны для балаганного юмора (Warner 1977: 235). Смерть необдуманно роняет реплику, решающую ее судьбу. Таким образом, сама судьба представляется функцией оборота речи61 .
.
Тринадцатый командует Смерти отвинтить голову. Это явно призвано напомнить, что мы в театре, а Смерть — просто маска, личина, остов, скрепленный проволокой и заклепками. Череп Смерти послужит чашей тринадцатого гостя. Тринадцатый же предлагает Смерти свой носовой платок, который еще не очень грязен и надушен. Обмен сопровождается взаимными любезностями, как при настоящей торговой сделке: Не обессудь, родимой — Не обессудь, родная (IV, 256) (1986, 427), и обыденность реплик лишь акцентирует абсурдность действия.
Теперь Смерть слепа (С носовым платком плохо видно) и просит у Тринадцатого пощады. Она не видит, в каком из бочонков вода жизни, а в каком вода смерти62 , и боится перепутать их:
, и боится перепутать их:
В черном бочонке, в черном твоя вода. Слушай, не обмани меня!
‹...›
‹...› горе мне, я слепа, я обнимаю ноги; ты хотел, угрожал, требовал квас мертвых. Он в бочонке, а мой в голубом.
Не перемешай их.
(IV, 257) (1986, 427 и 428)
Тринадцатый указывает Смерти Ты сама нальешь напитки, и когда та просит его выбрать между чашами жизни и смерти, отвечает с привычной дерзостью: Сама выбери (IV, 257) (1986, 428). Смерть ошибается, выпивает из чаши смерти63 и падает замертво. Двенадцать оживают толчками по мере ее умирания. Веселый пир освобожденных. Тринадцатому удалось обмануть Смерть, подобно Петрушке, который в представлениях театра марионеток выходит победителем и над смертью, и над чертом (Warner 1977: 112).
и падает замертво. Двенадцать оживают толчками по мере ее умирания. Веселый пир освобожденных. Тринадцатому удалось обмануть Смерть, подобно Петрушке, который в представлениях театра марионеток выходит победителем и над смертью, и над чертом (Warner 1977: 112).
Как и «Веселая смерть» Евреинова, «Ошибка Смерти» заканчивается разрушением театральной иллюзии; читателю / зрителю напоминают, что перед ним — не более чем игра. Барышня Смерть (подымая голову): Дайте мне “Ошибку г-жи Смерти” (перелистывает ее). Я все доиграла (вскакивает с места) и могу присоединиться к вам. Здравствуйте, господа! (IV, 258) (1986, 428). Хлебников вышучивает не только современное ему положение дел на сцене (“театр жизнеподобия”), но и драматическую структуру как таковую. Развитие действия в «Ошибке Смерти» не подчиняется жестко организованной интриге, но обусловлено случаем, произвольными ассоциациями. Поэтому заявление Барышни Смерти, будто она следовала сценарию, звучит иронично вдвойне.
Что можно сказать собственно об ошибке, которую совершила Смерть в пьесе Хлебникова? Очевидная ошибка, разумеется, в том, что она сделала неправильный выбор и выпила чашу смерти. Менее очевидная, но столь же судьбоносная ошибка кроется в ненароком оброненной ею реплике, словесном клише (пустая, как стакан), которое и оказалось фатальным. Итак, реальность — в данном случае, все драматическое действие — рождена словом. Балаганное препирательство жизни со смертью подано Хлебниковым как лингвистическое состязание, в котором Тринадцатый ловит Смерть в языковую западню.
Тема борьбы со смертью позаимствована Хлебниковым из репертуара народного театра, однако развивает ее поэт совершенно иначе, дистанцируясь рядом способов от предмета описания. Смерть у него — современная барышня, торгующая в харчевне квасом мертвых, голова ее отвинчивается, как у куклы, она имеет лицензию на сделки с мертвецами и т.д.
Главное, что Хлебникову дал народный театр, — это все многообразие языковых приемов создания комического эффекта: омонимическая игра слов, сдвиг абстрактное–конкретное (например, буквальное понимание метафоры), обыгрыванье имен собственных и географических названий. В народном театре таким образом стремятся рассмешить публику, и в своих пьесах Хлебников также задавался, главным образом, комическими целями. Однако, в других произведениях он пошел дальше и посредством тех же приемов исследовал границы и возможности самого языка64 .
.
Целью данного раздела являлось установить методику Хлебникова как драматурга; обнаружено, что это методика игры, пародии, художественной провокации. Хлебников и сам намекает на подобное прочтение — скажем, в подзаголовке «Чертика»: «Петербургская шутка на рождение Аполлона». Впрочем, шутливым тоном проникнуты все его пьесы. Более того, полагаю, что схожая пародийная нота свойственна и многим другим произведениям Хлебникова; тема эта, однако, заслуживает отдельного исследования. Достаточно отметить сверхповесть «Зангези», в которой пародируется даже сам поэт.
Как сложилась театральная судьба пьес Хлебникова? В полемической статье «Кружевенное варенье», написанной вскоре после революции, Шкловский поднял вопрос об “устарелом репертуаре” русских театров и рекомендовал ставить пьесы футуристов, особенно хлебниковскую «Ошибку Смерти» и «Мистерию-Буфф» Маяковского. Шкловский подчеркивал “народность” пьесы Маяковского65 , утверждая, что главным приемом, самой сутью народного театра является игра слов:
, утверждая, что главным приемом, самой сутью народного театра является игра слов:
Но по ходу диалога, почти целиком построенного на каламбуре, по мастерству, эта вешь [«Мистерия-Буфф»] заслуживает того, чтобы ее ставить ежедневно, несмотря на ее злободневность. ‹...› Владимир Маяковский взял, конечно, интуитивно, самый прием народной драмы. Народная драма же вся основана на слове как на материале, на игре со словами, на игре слов.
(Шкловский 1923: 49, 50)
Аналогичную мысль высказывал некий автор, скрытый под псевдонимом «Опояз»66 , в предисловии к работе Богатырева о параллелях между чешским театром марионеток и русским народным театром:
, в предисловии к работе Богатырева о параллелях между чешским театром марионеток и русским народным театром:
Анализ русского народного и чешского кукольного театра, развивавшихся совершенно независимо один от другого, показывают нам, что народная аудитория тяготеет именно к восприятию чисто словесных построений. Сюжет отступает в народном театре на второй план и часто служит только мотивировкой словесных игр. Народный театр — театр слова как такового.
(Богатырев 1923б: 8)
С одной стороны, упор на слово — вполне в духе эстетики формализма; с другой же, справедливо и то, что народный театр редко представляет хорошо закрученную интригу, ограничиваясь линейной комбинацией сцен, каждая из которых построена на диалоге, причем, как правило, юмористическом. Впрочем, в театре русского авангарда игра слов и комические сценки никогда не занимали видного места. Напротив, в краткий период экспериментирования (начало двадцатых годов) доминировала мейерхольдовская интерпретация балагана. Слово затмевалось действием, акробатическими трюками; театр приближался к цирку, а в некоторых случаях — например, в постановках Сергея Радлова — обходился без слов вообще67 .
.
В ноябре 1917 года Татлин намеревался поставить три пьесы Хлебникова, в том числе «Ошибку Смерти», но проект этот так и не был реализован. Когда наконец он поставил «Зангези» (Петроград, 1923), то сделал это в чисто конструктивистском духе: дабы конкретизировать и “овеществить” хлебниковские звуко-буквы, были использованы различные материалы, обработанные каждый по-своему. Конструктивистский минимализм не оставлял места игре слов и пародии. Даже паяц Смех из заключительной сцены был наряжен весьма аскетически (Татлин 1968: 68–72). Любительская постановка «Ошибки Смерти» в кафе Ростова-на-Дону (1920) также, по-видимому, не акцентировала диалога:
В кафе между столиками ходила барышня Смерть в соответствующем условном одеянии, в руке она держала шамбольер — большой хлыст, которым в цирке укрощают лошадей. За столиками среди зрителей сидели двенадцать ее гостей в причудливых полумасках.
(Березарк 1965: 176 | электронная версия: www.ka2.ru/hadisy/berezark.html)
Других постановок пьес Хлебникова не известно. Драматургия его так и осталась скорее для чтения, нежели для сцены. Судьба хлебниковских пьес аналогична печальной судьбе всей традиции народного театра. По мере того, как с течением двадцатых годов сама общественная атмосфера вводилась в недвусмысленные рамки, места для каламбуров, вышучивания речевых условностей и алогичного умствования больше не оставалось. Целый театральный жанр, для которого слово являлось не только средством, но и объектом выражения, был принужден уйти в подполье. Там он был сохранен и получил дальнейшее развитие в творчестве, например, Даниила Хармса и Александра Введенского, однако увидеть свет их произведениям удавалось разве что в качестве “детской литературы”.
2. Хлебников – имажинист
В 1920 году Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф опубликовали сборник стихотворений «Харчевня зорь»68 . Кроме стихов Мариенгофа и Есенина, книга включала три произведения Хлебникова: «Горные чары», «Город будущего» и следующее стихотворение (без заглавия):
. Кроме стихов Мариенгофа и Есенина, книга включала три произведения Хлебникова: «Горные чары», «Город будущего» и следующее стихотворение (без заглавия):
Москвы колымага,
В ней два имаго.
Голгофа Мариенгофа.
Город Распорот.
Воскресение Есенина.
Господи, отелись
В шубе из лис!
(1940, 174) (1986, 122)
Сотрудничество над сборником явилось результатом встречи трех поэтов в Харькове весной 1920 года. Приведенное стихотворение в зашифрованной форме повествует о событии, имевшем место в Харьковском городском театре, а именно о “коронации” Хлебникова как Председателя Земного шара, поставленной имажинистами. Также, однако, в нем любопытным образом обыгрывается поэтическое кредо имажинистов, согласно которому сущность поэзии заключена в образе, и задача поэта — “выявление жизни через образ”. Годом раньше мысль эта была высказана имажинистами в манифесте, опубликованном 10 февраля 1919 года (Nilsson 1970: 13):
Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапог, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов.
При анализе семантики данного стихотворения главным представлялось показать, как именно Хлебников обыгрывает имажинистский культ образа.
Прежде всего читателя поражает краткость стихотворения, едва ли не полностью состоящего только из попарно рифмуемых слов, — которые, будучи семантически далеки друг от друга, создают впечатление каламбура. Игра слов, ассоциирующаяся с традицией раешного стиха, прибаутки, усиливается ритмом стихотворения, похожим на ритм “сказового стиха” (также называемого “раешным” или “лубочным”; ср. Богатырев 1971: 485–486), — жанра, восходящего к народной культуре и особенно характерного для балагана. Своим ритмом и рифмами стихотворение соотносится с пародийно-сатирической традицией; таким образом, Хлебников, можно сказать, играет роль “балаганного деда”, вышучивающего имажинистов и их поэтику.
Репертуар ярмарочных шутов включал каламбуры, основанные на именах собственных и топонимах, особенно иностранных и зачастую искаженных (Богатырев 1971: 466–468, 485–489). Хлебников также выстраивает свое стихотворение вокруг двух имен собственных — Мариенгоф и Есенин, — к которым подбирает фрагменты из различных контекстов, что делает смысл стихотворения весьма непрозрачным. Дабы прояснить семантику стихотворения, необходимо восстановить эти контексты.
ЕСЕНИНСКИЙ КОНТЕКСТ
Имя Есенина посредством фонетической ассоциации связано с воскресением, возрождением («Воскресение Есенина»). Ассоциация с рождением усилена дословной цитатой из самого Есенина: Господи, отелись. Когда Хлебников писал свое стихотворение, данный оборот считался наиболее характерной “имажинистской цитатой”, и, чтобы выявить соответствующие коннотации, необходимо углубиться в ее историю.
Впервые этот оборот фигурирует в есенинском стихотворении «Преображение». Согласно авторской датировке, написано оно было в ноябре 1917 года и, таким образом, может рассматриваться как непосредственный отклик на октябрьский переворот, на происходившие в России перемены. С посвящением Иванову-Разумнику стихотворение было опубликовано в апреле 1918 года в эсеровской газете «Знамя труда» и в журнале «Наш путь» (Есенин 1961: II, 260). Образный строй стихотворения преимущественно религиозный. Впрочем, заявленное в заглавии преображение касается также и библейской символики.
Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!
Перед воротами в рай
Я стучусь;
Звездами спеленай
Телицу-Русь.
За тучи тянется моя рука.
Бурею шумит песнь.
Небесного молока
Даждь мне днесь.
Грозно гремит твой гром.
Чудится плеск крыл.
Новый Содом
Сжигает Егудиил.
Но твердо, не глядя назад,
По ниве вод
Новый из красных врат
Выходит Лот.
(Есенин 1961: II, 13–17, строфы 1–5)
Разворачивающаяся апокалипсическая картина сулит, тем не менее, новое рождение: лирическое “я” стихотворения взывает к Господу с мольбой отелиться, причем новорожденная телка — это революционная Россия, которую надлежит „спеленать звездами”. Таким образом, для лирического “я” стихотворения Господь воплощается в существе из плоти и крови — корове. Эта трансформация дополнительно расширяет смысл заголовка — «Преображение». Для Есенина, воспитанного в религиозной семье, данное слово несомненно означало, в первую очередь, “Преображение Господне” — церковный праздник, призванный увековечить первое явление Христа ученикам после вознесения, в бесплотной форме. У Есенина имеет место обратное преображение — дух Господень овеществляется. Вдобавок, когда лирическое “я” стихотворения взывает о „небесном молоке”, то использует церковнославянские слова ‘даждь’ и ‘днесь’ из текста ежедневной молитвы о хлебе насущном (Отче наш иже еси на небесех, ‹...› хлеб наш насущный даждь нам днесь). В библейском контексте хлеб имеет глубокое символическое значение:
Я — хлеб живый, сшедший с небес: ядуший хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
(Иоанн 6:51)
Однако, в стихотворении Есенина „небесное молоко” дарует не вечную жизнь, а земное богатство:
С небес через красные сети
Дождит молоко.
‹...›
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.
(строфы 17, 22)
Молоко символизирует материальное изобилие, щедрость, приближение праздника урожая:
Мудростью пухнет слово.
Вязью колося поля.
‹...›
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.
(строфы 18, 23)
Аналогично овеществлению Господа, его дар человечеству (вечная жизнь) становится источником пищи телесной (молока).
При реконструкции контекста выражения „Господи, отелись” важны еще два библейских образа из этого же стихотворения. Первый образ — это „светлый гость в колымаге”:
Светлый гость в колымаге к нам едет.
По тучам бежит кобылица.
‹...›
Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
(строфы 15, 21)
Едущим по небу в колеснице (точнее, возносящимся) иконы часто изображают пророка Илию69 . Согласно библейской традиции, Илия был предшественником мессии. Есенинский „светлый гость” — это, безусловно. Спаситель (ср. Светлый гость — Светлый Праздник — Пасха, Воскресение), явившийся освободить человечество от нашего „распятого терпенья”, причем освобождение выражено очень конкретным, земным образом: из креста, как при снятии тела мученика, извлекаются гвозди.
. Согласно библейской традиции, Илия был предшественником мессии. Есенинский „светлый гость” — это, безусловно. Спаситель (ср. Светлый гость — Светлый Праздник — Пасха, Воскресение), явившийся освободить человечество от нашего „распятого терпенья”, причем освобождение выражено очень конкретным, земным образом: из креста, как при снятии тела мученика, извлекаются гвозди.
Заключительный образ стихотворения связан с праздником Пасхи (Воскресения Христова), а именно с пасхальными яйцами:
И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом.
(строфа 25)
То есть, обновление, возрождение, преображение зависят также и от слова (пасхальное яйцо символизирует возрожденную жизнь); новая жизнь (птенец) рождена словом. Этот образ связывает древнюю традицию пасхальных яйце первыми строками Евангелия от Иоанна:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
(Иоанн 1:1)
Последнее четверостишие предполагает, что человеку предстоит сотворить мир заново; старый мир до основания разрушен революцией, новый же только нарождается (телица, птенец).
Таким образом, выражение „Господи, отелись” должно рассматриваться в контексте трансформированной библейской символики (Бог рождает “телицу”, небеса проливаются молочным дождем. Спаситель освобождает человечество, вынимая ржавый гвоздь из нашего „распятого терпенья”, и „сбрасывает [нам] Слово”, подобно пасхальному яйцу). Это придает заглавию стихотворения дополнительную глубину.
Преображение, которое пророчит Есенин, столь же революционно по природе своей, как Преображение Господне. А поскольку “Преображение” — частая тема русских иконописцев, заглавие также вызывает ассоциации с церковными образами.
Иные коннотации приобретает выражение „Господи, отелись” в связи с событием, происшедшим в центре Москвы 28 мая 1919 года, когда слова эти были написаны большими буквами на стене Страстного монастыря. «Известия» сообщили о происшествии в рубрике «На тему дня»:
«Художники».
Модным лозунгом дня стаю вынесение искусства на площадь и художественное преображение жизни нашей улицы. Весьма характерно поняли этот лозунг “имажинисты”. Они попросту проповедуют в искусстве то, что принято в общежитии называть “уличным”, “площадным” и т.п. (брань, цинизм, хулиганство, некультурность...) и свое “искусство” в этой области выносят на заборы и стены домов Москвы.
28-го мая, утром, на стенах Страстного монастыря объявились глазам москвичей новые письмена весьма “веселого” содержания: „Господи, отелись!”, „Граждане, белье исподнее меняйте!” и т.п. — за подписью группы имажинистов.
В толпе собравшейся публики поднялось справедливое возмущение, принимавшее благоприятную форму для погромной агитации...
Действительно, подобной стенной поэзии допускать нельзя. Придется серьезными мерами охранять Москву от уличного озорства этого нового типа веселой молодежи.
(«Известия» №116 [668], 31.05.1919. с. 1)
Репортер «Известий» характеризует сатирическое “граффити”70 имажинистов как хулиганство, кощунство и призывает к строгим мерам, дабы подобное не повторилось впредь. Серьезность столь убийственная (иногда буквально) очень показательна для послереволюционного времени. 1913–1914 годы, когда “иконоборческая” клоунада футуристов находила отклик у публики, остались в далеком прошлом, словно в иной жизни. Попытки имажинистов возродить пародийные игры и футуристскую буффонаду были встречены цензурными запретами. Так, например, когда в июне 1920 года имажинисты расклеили на стенах московских домов “приказ о мобилизации”, коим все „друзья действующего искусства” призывались выйти 12-го числа на Театральную площадь и продемонстрировать свою поддержку лозунга „Имажинисты всех стран, соединяйтесь!”, то вмешалась ЧК; Есенина, Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова забрали на Лубянку, дабы те объяснили свое поведение:
имажинистов как хулиганство, кощунство и призывает к строгим мерам, дабы подобное не повторилось впредь. Серьезность столь убийственная (иногда буквально) очень показательна для послереволюционного времени. 1913–1914 годы, когда “иконоборческая” клоунада футуристов находила отклик у публики, остались в далеком прошлом, словно в иной жизни. Попытки имажинистов возродить пародийные игры и футуристскую буффонаду были встречены цензурными запретами. Так, например, когда в июне 1920 года имажинисты расклеили на стенах московских домов “приказ о мобилизации”, коим все „друзья действующего искусства” призывались выйти 12-го числа на Театральную площадь и продемонстрировать свою поддержку лозунга „Имажинисты всех стран, соединяйтесь!”, то вмешалась ЧК; Есенина, Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова забрали на Лубянку, дабы те объяснили свое поведение:
А назавтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную плошадь отменять мобилизацию.
(Мариенгоф 1929: 105)
К пародированию официальных приказов и лозунгов новая власть относилась нетерпимо. Таким образом, контекст есенинского выражения „Господи, отелись” включает в себя элемент пародии и кощунства, имеющий немаловажное значение для понимания рассматриваемого стихотворения Хлебникова.
КОНТЕКСТ МАРИЕНГОФА
Если Есенин ассоциируется с воскресением и рождением, то фамилия Мариенгоф имеет противоположные коннотации, а именно страдание и смерть (Голгофа Мариенгофа). Она созвучна как Голгофе (месту Страстей Христовых), так и деве Марии, которую в этом контексте нетрудно представить у подножия креста. Следующий образ — Город Распорот — также связан со смертью и насилием. Не будучи буквальной цитатой, „распоротый город” тем не менее ассоциируется с известной поэмой Мариенгофа «Кондитерская солнц» (1919), с описанием кровавой анархии в Москве:
С злобою Окаянного Святополка
Города крови кубки
Залпом.
Воплей залп
Неба живот в дрожь.
‹...›
Площади до капельки крови кубки.
Клыками артерий,
Говядину человечью в куски.
Миряне,
Это — в небо копытами грозно конь русский.
‹...›
Шрапнели в брюхо земли,
И кишки по торцам, как вожжи, —
Этих бурь ломовая лошадь по ухабам червонной зари кули.
(Nilsson 1970: 108–111)
Прояснив контекст, в котором Хлебников воспринимал имена Мариенгофа и Есенина, можно теперь попытаться интерпретировать само стихотворение. Ключевым словом, очевидно, является ‘имаго’, означающее на латыни “образ” (откуда и происходит термин “имажинизм”). Москва уподоблена колымаге (ср. у Есенина „светлый гость в колымаге к нам едет”; данный образ, как показано, ассоциируется с пророком или Спасителем), везущей два образа (имаго). Что это за образы? Рискну предположить, что Хлебников обыгрывает здесь неоднозначность71 русского слова ‘образ’, имеющего, в том числе, смысл “икона”. Само слово ‘образ’ при этом явно не фигурирует, но оно безусловно скрыто в иноязычном ‘имаго’ — отсылающем, разумеется, к имажинистам и их теории художественного образа. Интерпретация ‘имаго’ как иконы подтверждается словами Голгофа (место Страстей Христовых) и Воскресение (Христово). Распятие и Воскресение — частые темы русской иконописи. Таким образом, колымага везет иконы с изображением Страстей Христовых, однако иконы как бы двусторонние, и на обороте — портреты имажинистов Мариенгофа и Есенина. При помощи семантической связки “имаго — образ” и фонетического сходства Голгофа — Мариенгофа, Воскресение — Есенина Хлебников создает новый семантический комплекс, в котором фамилии Мариенгоф и Есенин, претерпев, так сказать, функциональную этимологизацию, повествуют о смерти и воскресении Христа.
русского слова ‘образ’, имеющего, в том числе, смысл “икона”. Само слово ‘образ’ при этом явно не фигурирует, но оно безусловно скрыто в иноязычном ‘имаго’ — отсылающем, разумеется, к имажинистам и их теории художественного образа. Интерпретация ‘имаго’ как иконы подтверждается словами Голгофа (место Страстей Христовых) и Воскресение (Христово). Распятие и Воскресение — частые темы русской иконописи. Таким образом, колымага везет иконы с изображением Страстей Христовых, однако иконы как бы двусторонние, и на обороте — портреты имажинистов Мариенгофа и Есенина. При помощи семантической связки “имаго — образ” и фонетического сходства Голгофа — Мариенгофа, Воскресение — Есенина Хлебников создает новый семантический комплекс, в котором фамилии Мариенгоф и Есенин, претерпев, так сказать, функциональную этимологизацию, повествуют о смерти и воскресении Христа.
Судя по всему, эти библейские образы иносказательно описывают пародийную “коронацию” Хлебникова как Председателя Земного шара, проведенную имажинистами в Харьковском городском театре 19 апреля 1920 года (стихотворение датировано апрель 1920)72 . Мариенгоф описывал это событие следующим образом:
. Мариенгоф описывал это событие следующим образом:
Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщевой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в “Председатели”. После каждого четверостишия, как условлено, он произносит: — „Верую”. Говорит „верую” так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок: „Велемир, говорите громче. Публика ни черта не слышит”. Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: „Но при чем здесь публика?” И еще тише, одним движением рта, повторяет: „Верую”. В заключение, как символ “Земного шара”, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера — Бориса Глубоковского. Опускается занавес. Глубоковский подходит к Хлебникову: „Велемир, снимай кольцо”. Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину. Глубоковский сердится: „Брось дурака ломать, отдавай кольцо!” Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы: „Это... это... Шар... символ “Земного шара” ... А я — вот... меня... Есенин и Мариенгоф в “Председатели”...”. Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. “Председатель Земного шара”, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами.
(Мариенгоф 1927: 81–82)
Акафисты, “верую”, коронация и т.п. объясняют вышеупомянутую ассоциацию с Христом. Также налицо некоторое сходство описанного обряда со средневековой традицией короновать короля шутов.73
Последняя строчка стихотворения непосредственно свидетельствует об отношении Хлебникова к своей “коронации”. Есенинское „отелись” ассоциируется с лисьей шубой, символизирующей, видимо, двуличие, обман и лицемерие. То есть, обряд, который должен был возвести Хлебникова в “короли”, на поверку оказался издевательством. Воскресение (возрождение в новом состоянии), которое сулил Есенин, обернулось клоунадой и шутовством.
В своем стихотворении поэт отплатил имажинистам за их насмешку рядом каламбуров, основанных на их именах и “образах” („выявление жизни через образ”). В то же время, употребление здесь слова ‘имаго’ очень характерно, ввиду неизменного стремления Хлебникова избегать однозначности, вскрывать новые потенциальные смыслы и всячески их обыгрывать. Также данное стихотворение являет пример типичной для Хлебникова “этимологизации” имен собственных (о которой см. Парнис 1967: 162–163, Райт 1966: 267 и Дуганов 1974). Тенденция эта происходит от всеобъемлющей потребности рассматривать любое сочетание звуков как слово. Наконец, следует отметить, что стихотворение являет собой весьма своеобразный монтаж из цитат и “чужих слов”74 . Даже Голгофу и Воскресение можно рассматривать как цитаты, позаимствованные из религиозного или иконографического контекста и действующие наподобие театральных костюмов; то есть, можно сказать, что Хлебников лингвистически маскирует спектакль, в котором сам являлся действующим лицом, причем компоненты камуфляжа позаимствованы им у постановщиков — Есенина и Мариенгофа. Таким образом, Хлебников играет шута в словесном наряде, сшитом из имажинистских лоскутьев.
. Даже Голгофу и Воскресение можно рассматривать как цитаты, позаимствованные из религиозного или иконографического контекста и действующие наподобие театральных костюмов; то есть, можно сказать, что Хлебников лингвистически маскирует спектакль, в котором сам являлся действующим лицом, причем компоненты камуфляжа позаимствованы им у постановщиков — Есенина и Мариенгофа. Таким образом, Хлебников играет шута в словесном наряде, сшитом из имажинистских лоскутьев.
————————
Примечания
 1
1 «...пестрота полунасмешливого, полусерьезного романтизма»
Сергей Ауслендер. Петербургские театры. Дом интермедий. «Русская художественная летопись». 1911, №1. стр. 7. Цитируется по Коган 1974: 79. Коган дает хорошее описание атмосферы обоих литературных кафе, с. 78–79.
 2
2 «Обращенный принц» — пьеса Е.А. Зноско-Боровского.
 3
3 Ауслендер, там же (Коган 1974: 79)
 4
4 О театральной работе Евреинова этого времени см. Евреинов 1955: 365–409.
 5
5 Постановки были отменены из-за экономических причин и начала войны. Непосредственным результатом этих приготовлений явилась книга Константина Миклашевского «La commedia dell’arte или театр итальянских комедиантов XVI, XVII и XVIII столетий», опубликованная в 1914 году.
 6
6 Интересно отметить сходство заглавий у Евреинова («Театр как таковой») и Хлебникова с Крученых («Слово как таковое»). Обе работы вышли в 1913 году.
 7
7 Евреинов называет этот обряд “козлогласием” — от буквального значения греческого слова ‘трагедия’ — и подробно его описывает (см. Евреинов 1955: 29–32).
 8
8 Некоторое представление об атмосфере, в которой проходили эти спектакли, дают отзывы современников в периодике (см. Харджиев 1940: 401–427).
 9
9 Харджиев 1940: 407–408.
 10
10 Сатурналии, как и святки, праздновались во время зимнего солнцестояния.
 11
11 “Прошлое” для футуристов было более или менее равносильно XIX веку, от Пушкина до символистов.
 12
12 См. Манифесты 1967: 57.
 13
13 Цитируется по Харджиев и Тренин 1970: 65.
 14
14 См. Манифесты 1967: 70.
 15
15 Там же, с. 53.
 16
16 В народном театре хромота — пародийный элемент; напр., «Чтение хромого Марка» — пародия на евангелие (Богатырев 1971: 159–160). В фольклоре черт нередко хромает (Афанасьев 1969: III, 5–6), и это усиливает амбивалентность поэта-Христа у Маяковского.
 17
17 Не исключено, что “навоз” в поэме Маяковского означал аллюзию на “отбросы” общества. Беднейшие жители Петербурга обитали в «Горячем поле», месте сброса конского навоза. Это место фигурирует в стихотворении Хлебникова «Прачка» («Горячее поде») (1921):
Нищие тут.
Мы спим в снежных норах на диком морозе.
Мы ночные цари на обозе
Дворцовых нечистот.
Наш город — вторая столица — в навозе,
Наши дворцы в теплом кале.(III, 258) Также возможно, что данная строка из пролога «Владимира Маяковского» отсылает к конюшне (яслям) — месту рождения Христа.
 18
18 О влиянии народного театра на «Мистерию-Буфф» см. Тренин 1940: 434–435.
 19
19 Бахтин рассматривает parodia sacra в контексте традиций карнавала (Бахтин 1965: IX и Бахтин 1972: 215). В русской литературе “священная пародия” часто встречалась в XVII столетии (см. Лихачев, Панченко 1976: 12).
 20
20 Остается только гадать, был ли выбор названия выставки сознательно ироничным. Художники не могли не понимать, что подвергнутся осуждению респектабельных критиков и сделаются мишенью для насмешек искушенных зрителей.
 21
21 Об этой выставке и о публикациях художников см. Харджиев 1940: 373 и К истории русского авангарда 1976: 44–46.
 22
22 Связь лубка с карнавальной традицией (смеховой культурой) обсуждается в Лихачев и Панченко 1976.
 23
23 Знаменательно, что Хлебников упорно настаивал на включении в сборник футуристов «Садок судей» стихотворений 13-летней девочки и возражал против выделения для них какого-либо специального “детского отдела”. См. его письмо к Матюшину (1912). (V, 294–295).
 24
24 См. Манифесты 1967: 63.
 25
25 См. (V, 234) (1986, 627). В одном из хлебниковских блокнотов (97, 9) некая запись, озаглавленная «Наши основы», датируется 20 мая 1919 года.
 26
26 О неологизмах Хлебникова в связи с теоретическими возможностями русского языка см. Панов 1971.
 27
27 Эту функцию смеха исчерпывающе разъяснили Михаил Бахтин (1965, 1972), Владимир Пропп (1939, 1963), а также Дмитрий Лихачев (1976).
 28
28 Сидя в людном месте, где над ним смеются прохожие, Зангези играет роль юродивого “поэзии ради”.
 29
29 В поэме «Хаджи-Тархан» (опубл. 1913) серьгу носит Пугачев:
Мила, мила нам пугачевщина,
Казак с серьгой и темным ухом.
Она знакома нам по слухам.
Тогда воинственно ножовщина
Боролась с немцем и треухом.(I, 117) (1986, 246) 30
30 О противоположностях и их роли в творчестве Хлебникова см. соотв. гл. в разд. II, «Многоликая речь».
 31
31 Также ср. выше:
Дровами хохота поленниц //
Топлю свой разум голубой — то есть, Смех
топит антиразум, словно огонь.
 32
32 В поэме Хлебникова «Настоящее» (1921) бунтовщики
с улицы зовут себя
священники хохота (III, 266) (1986, 309).
 33
33 Аналогично, в «Настоящем» —
писатели ножом (III. 266) (1986. 309). В поэме «Хаджи-Тархан» народное восстание на Волге характеризуется как
ножовщина и направлено против духа Петербурга (“треуголка” Петра Великого,
немца):
Тогда воинственно ножовщина
Боролась с немцем и треухом.(I, 117) (1986, 246)  34
34 В «Маркизе Дэзес» восстание тоже ассоциируется со смехом:
Смеясь, урча и гогоча,
Тварь восстает на богача.
Под тенью незримой Пугача
Они рабов зажгли мятеж.(IV, 234) (1986. 411) Восстание происходит
под тенью незримой существа, которое поэт зовет
Пугачом. Это типичное для Хлебникова полисемантичное словообразование сочетает различные смыслы: пугач — пугало (вещь, назначение которой — казаться живой); пугач — лесной леший (существо, способное превращаться в любое лесное животное, и чьи крики и хохот считаются дурным предзнаменованием: „Пугач (филин) не к добру кричит (хохочет)”; Даль, III, 535. Эта поговорка фигурирует у Хлебникова в «Детях Выдры» в виде
опять, опять хохочет филин (3-й парус; II, 148; 1986, 434)). Будучи написанным с большой буквы, слово становится именем собственным, усеченной кличкой Пугачева. Хлебниковский
Пугач — это злой дух, предвещающий мятеж и общественные потрясения, грозный “Лжедмитрий” (пугало хоть и представляется живым, но на деле неодушевленное).
 35
35 По Хлебникову, именно
будетляне — футуристы — хранили после 1905 года огонь революции. Носарь (Хрусталев) Г.С. (1879–1919) был в 1905 году председателем петербургского Совета рабочих депутатов. Красная Поляна — имение сестер Синяковых на Украине, которое посещали футуристы. Строчка
В Красной уединясь Поляне, вероятно, содержит — как элемент игры — намек на толстовскую Ясную Поляну.
 36
36 О возрождении Крученых parodia sacra (“священной пародии”,
лат.) в его знаменитом стихотворении из одних гласных и о пародии Маяковского на Страсти Христовы в поэме «Владимир Маяковский» см. выше.
 37
37 См. «Русская театральная пародия XIX — начала XX века» (М.. 1976) и Harold Segel, «Russian Cabaret in European Context: Preliminary considerations» // Theater and Literature in Russia 1900–1930, Stockholm 1984.
 38
38 Позднее “четвертая стена” стала мишенью известной одноименной пародии Енреинова, поставленной им в «Кривом зеркале». Премьера состоялась 22 октября 1915 года; той же осенью Хлебников был частым гостем в доме Евреинова (V, 333–334).
 39
39 Об интересе Блока к этой культуре см. Лотман 1981.
 40
40 В данной главе не рассматриваются драматический фрагмент «Аспарух» (1908; опубл. 1914) и «Девий бог» (опубл. 1912), поскольку в них пародийный элемент выражен не столь явно, как в других пьесах. «Девий бог» возможно расценивать в качестве пародии на символистскую мистерию. Такое прочтение было предложено Жан-Клодом Ланном: „В “Девьем боге” реализуется пародия, возведенная в квадрат: под сомнение ставится не только форма “символистской” мистерии, но также применение (нехарактерное для символистов) определенных построений, заимствованных из классической традиции” (Lanne 1983: 372). Впрочем, отклонений от театральной нормы в «Девьем боге» чрезвычайно мало, поэтому об авторском замысле судить трудно: с равным успехом Хлебников мог иметь в виду как своеобычный вариант мистерии, так и пародию. См. «Свояси»:
В “Девьем боге” я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию (II, 7) (1986, 36).
Также за рамками рассмотрения осталась пьеса «Боги» (1921) — “заумный” разговор богов, тесно связанный со сверхповестью «Зангези» (1922), которая не поддается жанровой классификации. О зауми в «Богах» см. интересную статью Вроона (Vroon 1982).
 41
41 В своей книге о Хлебникове Ланн, кроме «Девьего бога», кратко рассматривает вдобавок «Снежимочку» и «Маркизу Дэзес». «Снежимочка» описывается им как „сценическая систематизация поэтических и лингвистических поисков, проводившихся поэтом в 1906–1908 годы. Славянская мифология в пьесе рождается процессами искажения и преобразования слов, происходящих от славянских корней”. Таким образом, он рассматривает пьесу как сочинение о языке („féerie langagière”) и главными действующими лицами ее полагает русские морфемы, из которых образуются неологизмы (Lanne 1983: 194–195). Тот же формалистский подход он применяет к «Маркизе Дэзес», видя главного героя пьесы в рифме (Lanne 1983: 208).
 42
42 Пьесы народного театра о Фаусте — в частности, кукольного театра — игрались по всей Европе (Богатырев 1923б: 208).
 43
43 Е.И. Дмитриева, писавшая вместе с М. Волошиным под псевдонимом Черубина де Габриак (1940: 427).
 44
44 В «Свояси» Хлебников говорит:
Город задет в “Маркизе Дэзес” и “Чертике” (II, 8) (1986, 36).
 45
45 Gesamtkunstwerk (
нем.) — “синтетическое произведение искусства”; чаще всего термин применяют к операм Рихарда Вагнера, в которых сочетаются элементы музыкальной драмы, театра, балета.
 46
46 Гораздо позже Хлебников связывал свою пьесу с Ульяновым-Лениным и его политической программой, полагая общим знаменателем процесс разложения (см. разд. IV, «Поэма “Поэт”»: разбор строк 365–418).
 47
47 «Госпожа Ленин» напоминает одну из самых удачных дадаистских пьес, «Le Coeur a Gaz» (“Газовое сердце”,
фр.) Тристана Тцара. Трехактная пьеса Тцара построена на сходном сюжете: „странная декламация персонажей, представляющих отдельные части тела — ухо, шею, рот, нос и бровь. ‹...› “Le Coeur a Gaz” — это произведение “чистого театра”, воздействующее исключительно тонкостями бессмысленного диалога, где обмен клишированными любезностями предвосхищает Ионеско” (Esslin 1980: 368). Первое представление пьесы Тцара состоялось 10 июня 1921 года в студии «На Елисейских полях» в Париже.
 48
48 Пьеса Андреева «Жизнь человека» была, возможно, самой знаменитой драмой символистского театра: ставилась как во МХАТе, так и в театре Комиссаржевской.
 49
49 «Снежимочка» также начинается с воскрешения, но эта сцена основана непосредственно на русских весенних обрядах:
Снезини: А мы любоча хороним... хороним...
Глянь-ка... глянь-ка: приотверз уста... призасмеялся — приоткрыл глаза — прилукавился.(1940, 64) (1986, 381) 50
50 Для замены иноязычного слова ‘драма’ Хлебников изобрел два интересных неологизма —
беседень и
говоряна. Возможно, «Мирсконца» лучше характеризуется словом
жизнуха, которым Хлебников предлагал заменить “бытовую пьесу” (V, 299).
 51
51 Якобсон, воспроизводя этот монолог в своей работе о Хлебникове, опустил большую часть пунктуации (Якобсон 1921: 24–25).
 52
52 О специфике синтаксиса русской разговорной речи см. Гаспаров 1978.
 53
53 О применении “слов-паразитов” в литературных текстах см. Even-Zohar 1978.
 54
54 О традиции стихотворений “на лодке” в русской поэзии см. Nilsson 1976.
 55
55 В народном театре и среди ряженых часто фигурировал персонаж с хлыстом — “цыган”, торгующий лошадью (Warner 1977: 98).
 56
56 О рогожном наряде скомороха см. Лихачев, Панченко 1976: 20–22.
 57
57 Образ мнимого числа
i фигурирует у Хлебникова в самых различных контекстах, но всегда символизирует некую метаморфозу, зачастую парадоксального толка.
 58
58 Междометие ‘бя’, судя по всему, выражает безразличие, то есть фразу следует понимать в том смысле, что все земное станет неинтересным. В статье об акмеизме Тименчик отметил, что это же самое междометие употребляет Анненский в стихотворении «Человек»:
Я завожусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На “да” и “нет”, на “ах” и “бя”.
(Анненский 1979: 136) По Тименчику, у Анненского и Хлебникова
бя выражает потребность вернуться к словесной „упрощенности и недоумелости” (Тименчик 1977: 287). Впрочем, не следует забывать, что здесь у Анненского тон иронический: «Человек» — третье стихотворение из «Трилистника шуточного» в «Кипарисовом Ларце».
 59
59 Ср. «О храбром воине Анике и смерти», где Аника говорит:
От меня, Аники-воина, умереть желали...
Ну, наслышал я, какая-то есть смерть
И с той стычку бы изыметь...
Что ж ты, старая старуха,
Мякинное твое брюхо.
Из-под винной бочки шлюха...
(Русская народная драма 1953: 176) 60
60 О происхождении балаганной сказки «Аника-воин и смерть» Уорнер пишет: „В шестнадцатом веке в России появились сказки на тему о споре Жизни и Смерти — “Прение Живота со Смертью” или “Сказание о некоем человеке богобоязнике”, — которые, будучи переведенными с немецкого, постепенно освоились в новом окружении и приобрели специфически русские черты. В этих поздних вариантах налицо безошибочное сходство с драматической сценой “Аника-воин и смерть”” (Warner 1977: 165).
 61
61 В поэзии нонсенса имя персонажа часто является определяющим и содержит всю его сущность; в имени уже заключена судьба. Об интерпретации Хлебниковым в подобном духе фамилий Мариенгоф и Есенин см. след. гл.
 62
62 В «Победе Смерти» Сологуба тоже есть сцена с двумя видами воды:
Дульцинея: Они заставляют меня ходить к источникам мертвой и живой воды,
и когда я приношу наполненные ведра, они говорят, что эта вода моя не годится для питья.
(Сологуб. Драматические произведения, с. 16) 63
63 Чаша смерти ассоциируется с беленой (
Я налью две чаши — жизни и смерти — и сделаюсь иной, невкусной, беленой у дороги. ‹...›
Я пью — ужасный вкус (IV, 257) (1986, 428). Взаимосвязь белены и смерти — довольно частый мотив в творчестве Хлебникова. В сверхповести «Зангези» Старик правит жизнью (смехом) и смертью (беленой) при помощи ножниц:
Вот ножницы со мной,
Зловеще лязгая, стригу
Дыханье мертвой беленой
И смеха дикое гу-гу.
(III, 364) (1986, 502)См. также разд II «Многоликая речь», гл. 1 «Противоположности», прим. 8.
 64
64 О значении омонимии в поэзии Хлебникова см. главу «Два в одном».
 65
65 О ярмарочном фольклоре в «Мистерии-Буфф» см. Харджиев и Тренин 1970.
 66
66 Вероятно, Юрий Тынянов (Лотман 1981: 20).
 67
67 Об экспериментах Радлова см. Lövgren 1984.
 68
68 В образе “харчевни зорь” “низкая” (непоэтическая) стихия повседневности объединяется с традиционно поэтическим и “возвышенным”. Образная система имажинистов была направлена как раз на создание подобных словесных “мезальянсов”: „Одна из целей поэта вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже всадить в ладонь читательского восприятия
занозу образа. Подобные
скрещивания чистого с нечистым служат способом заострения тех заноз, которыми в должной мере щетинятся произведения современной имажинистской поэзии” (Мариенгоф 1920: 3–4).
 69
69 Ср. следующий отрывок из есенинских «Ключей Марии» (1918): „Люди должны научиться читать забытые им знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илию в облака” (Есенин 1962: V, 44).
 70
70 В новом контексте (на монастырской стене) выражение “Господи, отелись!” могло показаться двусмысленным. Если поставить ударение на второй слог, данный императив можно считать окказионализмом от “тела” со значением “воплотись” (по аналогии, к примеру, с “ославься”). Оппозиция дух–плоть усиливалась контекстом (Страстной монастырь).
 71
71 Об увлечении Хлебникова полисемией, омонимией,
скрытыми словами и т.д. см. разд. II, «Многоликая речь»: гл. 2. «Два в одном».
 72
72 После роспуска футуристов Хлебников основав вымышленную группу
Председателей земного шара и в апреле 1917 года вместе с Григорием Петниковым опубликовал ее манифест (V, 162–164) («Воззвание председателей земного шара»; 1986, 609–614).
 73
73 В декабре 1917 года (97, 2) Хлебников написал стихотворение
Я, носящий весь земной шар //
На мизинце правой руки (II, 256–257) (1986, 463), которое любопытным образом предвосхитило события апреля 1920 года.
 74
74 Ср. Минц 1973 и ее интерпретацию цитат, основанную на работах Бахтина:
“Чужое слово”, воспринимаемое как представитель какого-либо текста, есть цитата. Поэтому цитата всегда берется из текста на том или ином “вторичном” языке (языке литературы, науки, публицистики и т.д.), другие же виды “чужого слова” соотносятся с речью на каком-либо естественном языке и связаны со стилевыми, социальными и др. его разновидностями. ‹...› цитаты приобретают в литературном произведении особо сложный смысл. Значение “своих” (нецитатных) слов в художественном тексте определяется, как известно, сложным соотношением их общесловарных и окказиональных значений. В цитатах же оно осложнено еше и теми окказиональными смыслами, которые цитируемый отрывок приобрел ранее — “в тексте-источнике”. Обилие смыслообразуюших факторов, воздействующих на текст цитат, способствует особенно резкому сдвигу их значений (по сравнению с общеязыковым смыслом составляющих цитату слов). Это сближает цитату с тропами — символами (не в символистском, а в теоретико-литературном значении этого термина).
(Минц 1973: 387, 396)
Воспроизведено по:
Барбара Леннквист. Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова.
Спб., 1999. С. 75–127, 214–222
Заглавное изображение заимствовано:
Francisco Leiro Lois (b. Cambados, Pontevedra, 1957).
El Nadador.
Escultura expuesta en la Plaza de la Estrella del puerto de Vigo como monumento a los bañistas.
www.flickr.com/photos/gberrio/
Окончание 


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 На закате солнца я, вместе с помещиками, у которых гостил, и их соседями, отправился к близлежащей опушке леса, не доходя до которой стояла уже огромная толпа крестьян.
На закате солнца я, вместе с помещиками, у которых гостил, и их соседями, отправился к близлежащей опушке леса, не доходя до которой стояла уже огромная толпа крестьян.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()