

У меня нет государевой шляпы,
У меня нет государевых бот.
Небо светлая шляпа моя.
Земля серая обувь моя.
(98, 18)
1919 год — один из наиболее смутных в полной белых пятен биографии Хлебникова. Где был поэт в этом году, что он писал? Согласно биографам (Спасский 1935: 195–196), (Степанов 1975: 179–180), весну и лето 1918 года Хлебников провел в Нижнем Новгороде и других местах Поволжья. Ближе к осени он отправился в Астрахань, где оставался, вероятно, до начала 1919 года. 28 ноября 1918 года в астраханской газете «Красный воин» была опубликована его статья «Открытие народного университета» (1940, 465) (1986, 616). Впрочем, в марте и апреле 1919 года Хлебников снова был в Москве, где его друзья Маяковский и Якобсон готовили к публикации собрание его стихотворений. Маяковский упоминает об этом в своем некрологе Хлебникову (1922):
Среди бумаг Маяковского находятся две расписки за подписью Хлебникова:
Итак, в апреле 1919 года Хлебников отправляется на юг, на Украину. Судя по всему, до сентября 1920 года поэт оставайся в Харькове и его окрестностях (Степанов 1975: 201).
Сохранились два письма Хлебникова Г.Н. Петникову, датированные 1919 годом, когда тот жил в Харькове. Первое написано в Красной Поляне, загородном имении сестер Синяковых в Харьковской губернии:
Судя по всему, Хлебников посещал сестер поздней весной 1919 года. Второе письмо написано осенью, причем на коробке от гильз (I, 14):
В октябре 1919 года Хлебников был на «Сабуровой даче», ожидая посещения Петникова (28 октября — день рождения поэта). В 1935 году профессор В. Анфимов следующим образом описал пребывание Хлебникова в лечебнице:
Статья Анфимова не лишена отдельных несообразностей, но вполне ясно, что Хлебников был на этой “даче” осенью 1919 года и проходил психиатрическую экспертизу. В стихотворении «Полужелезная изба, // Деревьев тонкая резьба...» (III, 47–52) лечебница упомянута открытым текстом. Сравнивая жизнь там с гражданской войной, бушующей вовне, Хлебников спрашивает:
Среди бумаг Хлебникова сохранилась записная книжка с пометкой 29 XII 21 Волеполк Хлебников, в которую поэт заносил некоторые важные даты своей жизни; например, следующая запись, непосредственно увязываемая со вторым письмом Петникову:
С 25 июня до 11 декабря 1919 Харьков был под властью белых (1940, 483). Таким образом, в психиатрической лечебнице Хлебников находился, дабы избежать мобилизации в Белую Армию, — о чем говорит сам в письме Осипу Брику (февраль 1920):
Согласно Анфимову, Хлебников был освобожден от воинской службы, хотя и не считался психически больным. Тем не менее, он был очень „своеобразен“:
Анфимов сообщает, что исследовал ассоциативные способности Хлебникова, и что отвечал тот необычно медленно:
Некоторые из „высококачественных“ ассоциаций, приведенных Анфимовым в своей статье, отчетливо напоминают поэзию Хлебникова:
Например, ассоциация “спичка — прирученное пламя” развивается в стихотворении «Как стадо овец мирно дремлет...», построенном на параллели “приручение пламени — приручение судьбы”:
В наиболее интересной части своей статьи Анфимов сообщает, что давал Хлебникову тест на творческое воображение — поэту предстояло написать сочинения на темы охоты, лунного света и карнавала. На первую тему был написан короткий рассказ «Охота» (впервые опубликован в статье Анфимова, позднее включен в 1940, 296), на вторую — стихотворение «Лунный свет» (полностью воспроизведено в статье Анфимова), являющееся, судя по всему, ритмизованным отрывком из «Досок судьбы». Однако, наибольший интерес в данный момент представляет для нас третья тема, карнавал, поскольку таким образом была написана поэма «Поэт»:
Впрочем, в опубликованном варианте поэмы строки, процитированные Анфимовым, звучат несколько иначе:
Эти строчки (клятва поэта русалке и Богоматери в конце поэмы) органично вписываются в семантическую структуру произведения, тогда как вариант Анфимова несколько диссонирует. Аналогично дело обстоит и с утверждением, будто длина поэмы 365 строк; в опубликованном варианте — 457 строк, и даже если допустить несколько иную форму записи, все равно ритмическая структура поэмы едва ли допускает объем 365 строк. Если свидетельство Анфимова все же достоверно, необходимо предположить существование раннего варианта поэмы, под названием «Карнавал» и значительно короче опубликованного. Первая публикация имела место в 1928 году в собрании сочинений Хлебникова и основывалась на рукописном тексте из «Гроссбуха». Н. Степанов, под чьей редакцией издавалось собрание сочинений, снабдил поэму следующим комментарием:
Говоря в 1935 году, что поэма была опубликована „под заглавием «Русалка»“, Анфимов, судя по всему, имел в виду это примечание Степанова. Однако, в своей последней книге о Хлебникове Степанов неожиданно заявляет, будто “окончательный вариант” поэмы назывался «Карнавал» (Степанов 1975: 199). Впрочем, источников он не приводит, и не исключено, что это была статья Анфимова1![]()
Что говорил о происхождении поэмы и ее датировке сам Хлебников? В архивах поэта встречаются эпизодические свидетельства того, что он был ею очень доволен. Несколько раз он упоминает поэму в связи с попытками определить ритм собственного творчества и отыскать нумерологическую зависимость между своими произведениями:
На одной из диаграмм, отображающих собственное творчество, Хлебников поместил в вершины кривой «Русалку и поэта», «Ладомир» и «Разина−1» (152, 52). Также поэма упоминается в набросках к «Доскам судьбы»:
Эту хлебниковскую запись можно читать как подтверждение предположения о том, что первый вариант поэмы «Карнавал» действительно содержал 365 строчек, а существующая сегодня поэма — это результат „повторного прочтения“ поэтом в марте 1921 года. Из рукописей Хлебникова видно, что поэт постоянно перерабатывал уже написанное, и этот случай вряд ли был исключением.
Дата 3–4 марта 1921 года имеет значение также в связи со стихотворением «Новруз труда» (III, 124–125) (1986, 137). С октября 1920 года Хлебников жил в Баку (Степанов 1975: 202–204). В апреле 1921 года он покинул город вместе с солдатами Красной Армии, отправлявшимися в Персию на помощь народному восстанию в ее северных провинциях. Стихотворение «Новруз труда» было опубликовано 5 мая 1921 года в газете «Красный Иран» (III, 378), и отдельные места его напоминают «Поэта», что дает основание для вопроса: не был ли «Новруз труда» вдохновлен перечитыванием поэмы? В стихотворении описан праздничный парад революционеров-освободителей, с красными флагами, музыкой, ружейным салютом, причем происходит освобождение весной. Хлебников связывает его с древним иранским новогодним праздником, Новрузом, который отмечается в день весеннего равноденствия. Описание парада в «Новрузе труда» сродни описанию в «Поэте» Масленицы — также праздника весеннего равноденствия. Весенний праздник имеет в поэме центральное значение; однажды Хлебников даже назвал ее «Масляница Русалка» (125, 62).
Итак, архивные данные подтверждает, что поэма была написана 16–19 октября на «Сабуровой даче». Что до различных названий, судя по всему, Хлебников предпочитал «Русалку».
Какова все же связь между «Русалкой» и первоначальной “темой сочинения” — карнавалом? Судя по количеству посвященных им строк, в поэме доминируют следующие три мотива: карнавальная процессия, русалка, поэт. Эти же образы фигурируют в различных вариантах названия поэмы — «Весенние святки», «Русалка», «Поэт». Впрочем, слово ‘русалка’ имеет несколько значений. Кроме водяной нимфы, оно связано с майским карнавальным праздником “проводов русалки”, позже известным как Семик (семь недель после Пасхи):
Даль называет праздник не только “русалкой”, но и “зелеными святками”; это название близко к хлебниковским весенним святкам. Обычно слово ‘святки’ ассоциируется с новогодними праздниками — и, судя по всему, применяется к весеннему карнавалу ввиду сходства обрядов:
Обращение полов (женщины переодеваются мужчинами) и маски (лица мажутся сажей) типичны для всех карнавалов. Но весенний праздник также имеет свои отличительные черты. Даль приводит любопытное описание празднования Русалки в астраханской губернии:
Итак, по Далю слово ‘русалка’ имеет три различных значения: весенний карнавал, карнавальная “лошадь” и водная нимфа. Впрочем, все они взаимосвязаны. Согласно народному верованию, русалки — это души женщин или детей, погибших внезапной смертью, не способные обрести покой2![]()
![]()
Возникает вопрос, как много знал Хлебников о различных формах празднования проводов русалки, и практиковались ли соответствующие обряды, когда поэт странствовал по России и Украине. Как отмечалось ранее, театральный постановщик Николай Евреинов присутствовал в 1914 году на русальном карнавале в Тамбовской губернии, причем центральную роль в праздновании играла карнавальная “лошадь” — как это описано и у Даля. Согласно этнографическим источникам, в Воронежской области данная традиция (“вождение русалки”) сохранялась, но крайней мере, до начала тридцатых годов (Гринкова 1947 и Крюкова 1947). В одной из деревень в карнавальной процессии было замечено изображение лошади (“русалка-конь”), тогда как в другой деревне использовалась камышовая кукла, напоминающая русалку (водную нимфу) или же кукол, связанных с весенними обрядами плодородия (Масляна, Кострома, Купала). О праздновании проводов русалки Хлебников мог слышать от Евреинова, с которым часто встречался в 1915 году (V, 333–334). Впрочем, с тем же успехом он мог наблюдать соответствующий обряд лично, в своих странствиях по России и Украине. Также источником мог явиться Даль4![]()
Как бы то ни было, заглавие поэмы является неоднозначным — под русалкой может пониматься как весенний карнавал, так и водная нимфа. Взаимосвязь этих мотивов с мотивом поэта будет рассмотрена при семантическом анализе поэмы (см. далее).
Поэма «Поэт» имеет объем 457 строк и представляет собой единое целое, без разбиения на строфы. Она полиритмична: ямб, хорей, амфибрахий. Наиболее часто встречается четырехстопный ямб (56% строк) в сочетании с ямбом трех-, пяти- и шестистопным. В общей сложности, ямбом написаны 62% строк. На этом фоне контрастно выделяются хорей и амфибрахий. 20% строк написаны регулярным четырехстопным хореем. Амфибрахические строки (18%) весьма разнообразны — доминируют трех- и четырехстопные, однако также бывают дву- и шестистопные. Среди амфибрахических строк встречаются редкие вкрапления анапеста или дактиля. Таким образом, поэма написана классическими стихотворными размерами, однако чередование их жесткой системе не подчинено. Объем участков текста, написанных каким-либо одним метром, заметно разнится — от одной строки (амфибрахий) до семидесяти (ямб). Однако, налицо определенная зависимость метрики от доминирующего мотива. Две трети хореических строк описывают хмельную, бесшабашную карнавальную процессию, тогда как половина всех амфибрахиев связана с поэтом и русалкой (водной нимфой). Тем не менее, наиболее характерная черта поэмы — постоянное чередование стихотворных размеров, зачастую обусловленное не новым лейтмотивом, а простой сменой точки зрения.
Возможно ли на основании подобной метрической схемы отнести поэму Хлебникова к какой-либо поэтической традиции? Частое чередование размеров напоминает полиметрическую эпику Некрасова («Современники», «Пир на весь мир»)5![]()
![]()
![]()
Первые две строки отрывка вторят, ритмически и семантически, блоковскому:
Сочетание “флаг — впереди” повторяется и в конце 12-й части:
Параллель между «Двенадцатью» и «Поэтом» становится особенно любопытной, если вспомнить, что Хлебников связывал смех со стихией бунта. Четырехстопные хореи хлебниковской карнавальной процессии вне всякого сомнения родственны хореям Блока8![]()
Впрочем, отнюдь не исключено, что эти выражения просто были тогда в активном ходу. Аналогично и с оборотом старый мир:
Как бы то ни было, и ритмически (полиметрика, четырехстопный хорей), и тематически (карнавальная процессия — революционеры) поэма Блока — одна из ближайших “родственниц” хлебниковской. Также налицо параллели с поэзией XVIII века и романтической балладой, но они менее важны и будут рассмотрены при семантическом анализе поэмы.
В «Поэте» преобладают традиционные рифмы. 40% из них мужские, 50% — женские, 8% — дактилические (которые иногда чередуются с женскими: “водопадом — падая — Ладою”), и 2% строк нерифмованы. Впрочем, во многих случаях отсутствие конечной рифмы компенсируется ассонансом с другими словами в той же строке или в соседних. Например:
Собственно, сочетание “волнами — рогами” являет пример внутренней рифмы. А, скажем, нерифмованные слова на концах строк 254 и 257 (“плечам”, “оленей”) также включены в общую структуру:
“Плечам” ассонирует со следующим словом, “оленей”, (ле–ле) а окончание на “-м” служит своего рода фонетическим лейтмотивом: “плечам — стадом — пропастям — водопадом — ночным — табуном”). Нерифмованное слово “оленей” составляет часть инверсного синтаксического параллелизма: оленей сбесившихся стадом — табуном сумасшедших оленей. Сходной объединительной функцией обладает синтаксический параллелизм в строках 279–281:
Параллелизм “полный — пьяный” связывает нерифмованное слово ‘пьяный’ с предыдущей строкой. Итак, нерифмованные строки в «Поэте» существуют отнюдь не изолированно; отсутствие рифмы на конце строки компенсируется иными структурирующими приемами, как то синтаксический параллелизм или ассонанс.
Ассонансы также важны для акцентирования рифм, разделенных длинными промежутками. В связи с поэмой Хлебникова встает вопрос: насколько велик может быть этот интервал, чтобы связь между рифмуемыми строками не утратилась? Например, слово ‘мордой’ (строка 250) лишь через девять строк рифмуется со словом “гордый” (строка 260). Однако, преемственность поддерживается частым повторением звуков “о”, “р” и “д” в различных сочетаниях:
Схема рифмовки «Поэта» интересна во многих отношениях и заслуживает обстоятельного сравнительного исследования в контексте как истории русской рифмы, так и остального творчества Хлебникова. Здесь я ограничусь лишь кратким описанием. 51% строк поэмы сгруппированы в двустишия (23%) или четверостишия (28%). Среди четверостиший преобладают схемы рифмовки АbАb (32%) и АВАВ (22%). 49% строк включены в более сложные структуры, как то: пятистишия (12), шестистишия (6). семистишия (4), восьмистишия (3), десятистишия (1), одиннадцатистишия (1), двенадцатистишия (1) и семнадцатистишия (1). Последнее образует семантическое целое, содержа мольбу русалки к поэту (строки 402 –418). Рифма “-но” задает лейтмотив всему отрывку (“окно” — “но” — “суждено”). Длинный интервал между рифмами “лучей” — “очей” едва заметен, поскольку промежуточные восемь строк содержат частые звуковые повторы:
| Собранием лучей, | a |
| Что катятся в окно, | b |
| Ручей-печаль, чей бег небесен, | С |
| Иль нет из да — в долине песен, | С |
| Иль разум вод — сквозь разум чисел, | D |
| Где синий реет коромысел, — | D |
| Из небытия людей в волне | x |
| Ты вынул ум, а не возвысил | D |
| За смертью дремлющее “но”. | b |
| Или игрой ночных очей, | a |
| Всегда жестоких и коварных, — | E |
| На лоне ночи светозарных, | E |
| И омутом, где всадник пьет, | f |
| Иль месяца лучом, что вырвался из скважин, | G |
| Иль мне быть сказкой суждено? | b |
| Но пощади меня! Отважен, | G |
| Переверни концом копье! | f / b |
Иногда конечная рифма может вовсе отсутствовать; также встречаются трехстишия и внутренняя рифма. В «Поэте» роль рифмы отчетливо связующая. Рифмы не всегда подчиняются метрической схеме, а зачастую, напротив, связывают строки, написанные различным размером, сглаживая резкость полиметрии:
Поэма сопротивляется любым попыткам иерархического упорядочения исходя из рифмы или метра. Симметричные текстовые структуры, предполагаемые таким разбиением, для «Поэта» не характерны. Скорее, схема рифмовки, как правило, подстраивается под синтаксические периоды, в значительном большинстве своем асимметричные.
Сходный полицентризм наблюдается также на уровне семантики. В поэме доминирует тема карнавала, но конкретизируется она в разнородных фрагментах, претендующих на самостоятельность. В го же время смыслы, заключенные в отрывках, тяготеют друг к другу и по мере развития поэмы начинают взаимодействовать. Механизм этого взаимодействия будет рассмотрен при семантическом анализе «Поэта». Для удобства рассмотрения я разбила поэму на следующие подразделы, исходя из соображений синтаксиса и семантики.
| Число строк | Номера строк | Метр | |
| 14 | 1 — 14 | Ямб | Осень — переход в природе от жизни к смерти |
| 15 | 15 — 29 | Ямб | Ритуальные весенние празднества, пе реход от смерти к жизни |
| 13 | 30 — 42 | Ямб | Обновление и перерождение человека (мужск.) |
| 20 | 43 — 62 | Ямб (11) Хорей (9) | Пробуждение весны (женск.) |
| 13 | 63 — 75 | Хорей | Начало карнавала |
| 2 | 76 — 77 | Хорей | Двое на скамейке |
| 11 | 78 — 88 | Ямб | Карнавальные персонажи |
| 13 | 89 — 101 | Ямб (4) Амфибр. (2) Ямб (7) | Леший и лесные русалки |
| 10 | 102 — 111 | Ямб | Карнавальные маски |
| 10 | 112 — 121 | Ямб | Белена, пляска чертей |
| 14 | 122 — 135 | Хорей | Смех во главе карнавальной процессии, отшельники-пророки в пасти кита |
| 10 | 136 — 145 | Ямб | Карнавальные персонажи, шум, вьюга |
| 31 | 146 — 176 | Ямб (24) Амфибр. (4) Ямб(3) | Богоматерь идет, приемля подаянье; испуг гуляк |
| 32 | 177 — 208 | Хорей | Но вот веселие окрепло: маски, крики, прыжки, смоляных пламен костры |
| 12 | 209 — 220 | Амфибр. (4) Ямб (8) | Двое на скамье: инок и женщина |
| 4 | 221 — 224 | Амфибр. | Толпа беснуется |
| 9 | 225 — 233 | Амфибр. | В раздоре с весельем, поэт наблюдает гуляние |
| 39 | 234 — 272 | Амфибр. (5) Ямб (4) Амфибр. (30) | Плащ поэта, его брови, рот; уподобление волос оленьему стаду |
| 13 | 273 — 285 | Хорей | Причесывание волос поэта |
| 14 | 286 — 299 | Анапест (1) Амфибр. (1) Анапест (1) Дактиль (1) Ямб (10) | Поэтическое вдохновение; поэт покидает свое тело |
| 12 | 300 — 311 | Амфибр. (3) Хорей (4) Анапест (1) Амфибр. (4) | Привлеченная пением поэта, у ног его рыдает русалка |
| 32 | 312 — 343 | Ямб (27) Амфибр. (5) | Ночное жилище неуловимой русалки |
| 21 | 344 — 364 | Амфибр. (6) Ямб (15) | Русалка является к поэту в городе |
| 54 | 365 — 418 | Ямб (8) Амфибр. (2) Ямб (5) Амфибр. (1) Ямб (38) | Русалочьи мольбы и обвинения |
| 39 | 419 — 457 | Ямб (33) Хорей (4) Ямб (2) | Ответ поэта: сопоставив Богоматерь и русалку (вы сестры), он решает раз делить их судьбу. Троица изгоев. |
Поэма начинается описанием природной метаморфозы, осеннего перехода от жизни к смерти. Данный фрагмент написан классическим четырехстопным ямбом, неторопливый темп которого способствует умиротворяющему настрою (из четырнадцати строк полноударны четыре). Впечатление классического благородства усилено схемой рифмовки, напоминающей пушкинскую (четверостишие с перекрестной рифмовкой плюс двустишие с попарной). Синтаксически начальные строки ассоциируются с традицией XVIII века: в Снегов предшествует победе и Стволы украшены березы грамматический синтаксис напоминает использовавшийся Ломоносовым („Обширного громаду света // Когда устроить я хотел“) или Сумароковым („Не вижу никакия славы // Одна реками кровь течет“)9![]()
В данном фрагменте наступление осени отражено семантическим развитием от тепла и красочности к холоду и прозрачности. В лексическом плане налицо аналогичная тенденция — к безмолвию и недвижности. Осенний багрец, уподобленный синей меди, приобретает коннотации с “жидким металлом”. Своего рода металлический оттенок наблюдается и в слове самоцветный (строка 3), которое предвосхищает трансформацию водопада в прозрачную застылость льда. В строках 5–6 яркая белизна березовых стволов выделяется на фоне осеннего сада (И жаром самой яркой грезы // Стволы украшены березы), причем греза имеет здесь значение горячки, последнего лихорадочного припадка перед всеобщим оцепенением. Движение к смерти и наготе продолжается в строках 9–12: наряженный в тонкую золотую шаль откос холмов крутой ведет к призрачным и нагим белым оврагам равнины. В этом мире метаморфоз появляется птица (строки 7–8), возвещая конец лета и начало зимы. Птица (в фольклоре часто символизирующая душу умершего10![]()
Ответ дается в следующих 15 строках, являющих собой вторую половину расширенного сравнения (Как осень... — так праздник масленицы...). Масленица выступает антиподом осени — праздником смерти зимы, прихода весны, воскресения солнца. И если в первом отрывке упор делался собственно на процесс смены времен года, то в данном — на соответствующую обрядовую традицию, точнее, на то, как метаморфозы природы отражены в русских весенних обрядах.
Ритмически данный отрывок, с его регулярным четырехстопным ямбом и простой схемой рифмовки, напоминает предыдущий. Строка 21 словно бы вторит лермонтовскому «Демону» („несется конь быстрее лани“) или «Беглецу» („Гарун бежал быстрее лани“), однако трудно сказать, является это цитатой или же непреднамеренным заимствованием11![]()
В данном отрывке праздник масленицы вечный // Души отрадою беспечной // Хоронит день недолговечный, // Хоронит солнца низкий путь (строки 15–18). В контексте весеннего праздника масленицы слово хоронит употреблено отнюдь не случайно:
Столь же не случайно применен Хлебниковым оборот чтобы время обмануть (строка 20), ведь в русском фольклоре некоторые поговорки именуют масленицу обманщицей:
В фольклорном варианте масленица — обманщица, так как сулит, что карнавальное изобилие будет вечным, но отпускает ему лишь неделю сроку. По Хлебникову, масленица обманывает время, преждевременно празднуя приход весны — и действительно, к масленой неделе снег еще, как правило, не сошел. Не исключено, что строка 21 — бежит туда быстрее лани — связана с лихой ездой на санях, обычно сопровождавшей праздник масленицы. Что до направления бега (туда), то на основании строк 22–25 возможно заключить, что имелось в виду лето: Когда над самой головой // Восходит призрак золотой // И в полдень тень лежит у ног, // Как очарованный зверок. Эта аллюзия, витиеватая и перифрастическая, подразумевает время очередного верховенства солнца. Масленица, исходно праздновавшаяся на весеннее равноденствие (Велецкая 1978: 131), отмечает начало солнечного правления.
В строках 26–29 также празднуется возвращение солнца на небо. В них отражены обряды майского праздника Семик: танцы босиком (дабы впитать силу от земли), плетенье венков из березовых ветвей и “завивание” самой березы12![]()
Целью обрядовой магии являлось передать человеку творческую силу, которой изобилует весенняя природа. Аналогично и у Хлебникова — весенний праздник характеризуется смешением черт, свойственных человеку и миру растений: Тогда людские рощи босы // Ткут пляски сердцем умиленных // И лица лип сплетают косы // Листов зеленых. Впрочем, вместо традиционно полагающейся березы здесь липа. Возможно, это отражает хлебниковекую интерпретацию липы как символа весны и любви:
Итак, липа связывается Хлебниковым с богами и богинями “весны и веселья”, но также со звуком “Л”. Как было показано ранее (см. раздел II, «Многоликая речь»: гл. 1, «Противоположности»), смягченное “Л” представляет, по Хлебникову, движение, легкость, полет, каковые семантические свойства вполне отвечают “весеннему ощущению”. И в строках 26–29, описывающих праздничный обряд пробуждения весны и любви, смягченное “Л” фонетически доминирует (“людские — пляски — умиленных — лица — лип — сплетают — листов — зеленых”), вплетено в строки подобно листьям — в ритуатьный венок. Размывание границы “человек — растение”, характеризующее эти строки семантически, отражено также в смешении фонетики и семантики. Крайне существенно, что для описания Семика Хлебников избрал липу (слово, начинающееся со смягченного “Л”).
Связь между Масленицей и Семиком прослеживается в целом ряде пословиц, имеющих определенное отношение к рассматриваемому предмету:
Взаимосвязь двух этих весенних карнавалов приобретает особое значение ввиду того, что Масленица женского рода, а Семик — мужского. У Хлебникова масленица бежит быстрее лани к весне, а затем следуют четыре строки, посвященные обрядам плодородия, Семику — так что не исключена эротическая подоплека13![]()
Если при описании осени поэт в значительной степени опирался на классическую традицию, то, ведя речь о весеннем пробуждении, он обращается к фольклору. Масленица выступает посредником при переходе от смерти к жизни. Подобное слияние классической традиции и фольклора составляет важную особенность всей поэмы в целом.
По сравнению с регулярными ямбами первых 29-и строк, строка 30, начинающаяся хореем и оканчивающаяся сверхсхемным ударением, выглядит как некое ритмическое сальто-мортале: Род человечества, игрою легкою дурачась, ты. Последнюю стопу (местоимение “ты”) можно было бы расценивать как ударную, что дает два стиха четырехстопного ямба (с хореической анакрусой), но тогда страдала бы составная рифма “дурачась, ты — начисто”. Эта рифма — самая сложная во всей поэме — дополнительно подчеркивает резкость ритмического перехода, имеющего место в данной строке. Своим ритмом и составной рифмой отрывок этот напоминает поэзию Маяковского, каковое впечатление усиливается рядом лозунговых императивов: (“Род человечества... Иди...! ...долой! Греми...!”). Если для описания природных метаморфоз поэту служил ровный классический ямб, то изменение, происходящее в человеке, отражено внезапной ритмической встряской.
В данном отрывке Хлебников сводит воедино революцию природную (бунт весны против зимы во время весеннего равноденствия) и революцию людскую, социальную. По примеру природы, человек зимы холодной смоет начисто // пустые краски и обиды (строки 32–33), и этот бунт уподоблен борьбе весны против зимы. Более того, оба переворота (в природе и в человеческом обществе) связаны с карнавалом: весна приходит на смену зиме во время масленицы, когда человек, игрою легкою дурачась и в себе самом меняя виды, стремится к свободе.
Строки 36–40 изображают нового, освобожденного человека: ‹...› иной, чем прежде, // В своей изменчивой одежде, // Одетый облаком и наг, // Цветами отмечая шаг, // Летишь в заоблачную тишь (подобно ангелу на живописном полотне эпохи барокко). Эти же образы символизируют свободу и в других произведениях Хлебникова:
В своем новом, летучем состоянии человек, «с весною быстрою сам-друг», славит «солнца летний круг» (от зимнего до летнего солнцестояния; строки 41–42). Его освобождение — лишь подражание освобождению солнца при весеннем равноденствии. В стихотворении, написанном в апреле 1917 года и включенном в сверхповесть «Война в мышеловке», Хлебников заявляет, что свободный человек подвластен только Солнцу:
Итак, освобождение человечества связано с пробуждением весны, образ которой в данном отрывке изобилует антропоморфными чертами. Первые одиннадцать строк организованы посредством метра и схемы рифмовки в единое целое, причем во вступительной (43-й) и заключительной (53-й) строках рифма идентична (“цветов”). Ряд рифм “современный — растений — вдохновенный — колен — сновидений” характерен для поэзии символистов, и возникающий перед мысленным взором читателя женский образ напоминает аллегорию весны в стиле модерн. Портрет весны исполнен Хлебниковым в смешанном антураже — налицо элементы, свойственные как водному, так и растительному царству (Широким неводом цветов // Весна рыбачкою одета; строки 43–44). Благодаря такому соседству, цветы приобретают черты пойманных неводом рыб (И этот холод современный // Ее серебряных растений; строки 45–46). Строки 49–50 становятся яснее, если допустить, что речь в них также о рыбачке, которая стоит в воде с подвернутой юбкой (узел ткани у колен), а кольца чистых сновидений — это расходящиеся по воде круги. Так и кажется, будто она выходит из пены морской, подобно богине любви Афродите. Впрочем, ее цветочное одеяние приводит на ум другую богиню, а именно Флору (с картины Ботичелли «Весна»), усыпающую землю цветами. Ассоциация с классической мифологией дает нам ключ к строкам 47–48: ветер вдохновенный из полуслов и полупения — это Зефир, западный ветерок, под чьим теплым дыханием распускаются весенние цветы.
Снова ветер упомянут — впрочем, зашифрованно — в строках 51–53: Вспорхни, сосед, и будь готов // Нести за ней охапки света // И цепи дыма и цветов. За ней — очевидно, за весной. Но кто этот сосед, которому предлагается вспорхнуть, как птице? Осмелюсь предположить, что налицо сдвиг с уровня семантического на фонетический. “Сосед” весны — ветер: ВЕсна — ВЕтер. Интерпретация эта отнюдь не столь произвольна, как может показаться на первый взгляд. В коротком стихотворении «Сон — то сосед снега весной...» Хлебников также использует слово ‘сосед’ в смысле “фонетический сосед” (см раздел II, «Многоликая речь»: гл. 2, «Два в одном»). Более того, звук “В” имеет первостепенную важность в хлебниковском “звездном языке”, где символизирует круговое движение:
Это движение “кругом оси” небезынтересно в контексте рассматриваемой поэмы. Ветер (“сосед” весны) призывается нести за ней охапки света и цепи дыма и цветов (строки 52–53). Слово цепи предполагает кольцевое, круговое движение, а цепи цветов могут быть интерпретированы как еще одно слово на “В” — ВЕнки. То есть, цепи дыма и цветов воскрешают в памяти весенние обряды, когда жгут костры и бросают с речного берега венки.
В следующих строчках (54–57) происходит переход от ветра к воде; ветер сливается со своей соседкой волной (см. выше: Вэ ветра и волны), перифразированной как потоки, моря свежего взволнованней. Смена стихий сопровождается резким изменением ритма. Посередине строки 54 ямб сменяется хореем (![]() ), каковой метр далее выдерживается в течение 23 строк подряд. Такое впечатление, будто вода в семантической плоскости приводится в движение скачком в ритмической плоскости. Поэт обращается к воде напрямую: ‹...› своего я потоки ‹...› ты размечешь на востоке (“я”, очевидно, стоит здесь в родительном падеже; строки 54, 56). В контексте слов на “В” оборот на востоке ассоциируется с Волгой (особенно если учесть, что Волга — излюбленная река
), каковой метр далее выдерживается в течение 23 строк подряд. Такое впечатление, будто вода в семантической плоскости приводится в движение скачком в ритмической плоскости. Поэт обращается к воде напрямую: ‹...› своего я потоки ‹...› ты размечешь на востоке (“я”, очевидно, стоит здесь в родительном падеже; строки 54, 56). В контексте слов на “В” оборот на востоке ассоциируется с Волгой (особенно если учесть, что Волга — излюбленная река
Хлебникова)14![]()
В строках 58–59 снова упоминается ветер: Сини воздуха затеи. // Сны кружились точно змеи15![]()
Соответственно, последнюю строку отрывка (62-ю) следует рассматривать как своего рода двойной текст. С одной стороны, речь о пробуждении весны от зимнего сна (Так весна встает от сна). Также, однако, допустимо прочтение на металингвистическом уровне: слово весна избавляется от сна, и остается “ве” — круговое движение хлебниковского звездного языка. В контексте поэмы (приход весны, праздник весеннего равноденствия) данная строка может содержать зашифрованную аллюзию на возвращение в небеса светила (вращающегося диска).
Далее следует пространное описание карнавальной стихии, дающее понять, насколько глубоко влияет приход весны и воскресение солнца на чувства людей. Такое впечатление, будто весенние праздники масленицы, Семика (Русалки) и Ивана Купалы смешались в одно большое торжество. Описание карнавала составлено из фрагментов, каждый из которых по-своему выражает какую-нибудь его особенность. Строки здесь четырехстопные, однако хорей чередуется с ямбом, и чем дальше, тем нерегулярней. Впрочем, когда карнавал достигает апогея, колебания метра “устанавливаются” на четырехстопном хорее (строки 177–208). Можно подумать, карнавал обнаруживает наиболее адекватное выражение в этом размере, который обычно ассоциируется с народной поэзией или детскими стихами.
Участники карнавала пребывают в весьма необычном состоянии (строки 63–68). Они отринули привычную рутину, которую здесь символизирует счет (счет дней, счет денег и труда), и начали, так сказать, новую жизнь, слившись в общность, подчиненную единой вере в то, что праздник будет вечным. Строки 69–75 живописуют яркую, шумную панораму празднества: Крик шута и вопли жен, // Погремушек бой и звон, // Мешки белые паяца, // Умных толп священный гнев, // Восклицали: Дева — Цаца! // Восклицали нараспев, // В бурных песнях опьянев. Этот монотонный запев напоминает песнопения, которыми сопровождались потешные “похоронные” обряды весенних праздников16![]()
Слово цаца, распеваемое участниками карнавала, подразумевает, что те сродни новорожденным детям, чья звукоподражательная речь носит обобщенный характер. Цаца — слово праязыка, зачаточное и аморфное, которое может означать все, что угодно. Вдобавок, Хлебников связывает его с радостью, ликованием (мы веселы, как детское слово цаца) и прослеживает родство между Цацой и богиней весны Лялей (см. выше, в связи с разбором строк 15–29). Таким образом, Цаца связана с карнавалом и солнцем, причем в контексте поэмы последняя ассоциация наиболее любопытна: масленица — это праздник воскресения солнца, освобождение человека также связывается с солнцем, и все слова на “В”, имеющие отношение к весне, напоминают о круговращении. Не является ли Дева Цаца очередным воплощением солнца? Подтверждает эту интерпретацию слово верноподданный, употребленное Хлебниковым в поэме и в отрывке «Свобода приходит нагая...». В строках 66–68 поэмы карнавальные гуляки объявляются верноподданными Девы Цацы, и во фрагменте «Войны в мышеловке» слово это фигурирует в сходном контексте: освобожденные, независимые люди подвластны лишь солнцу, в том смысле, что жизнь их определяется солнечным ритмом. Итак, если Цаца связана с солнцем, каковы коннотации Девы? Судя по тому, что оба слова написаны с заглавных букв, в первую очередь здесь подразумевается Пресвятая дева. Богоматерь. То есть, в сознании людей Деву Марию как бы заменила Дева Цаца. Вместо того, чтобы молиться Богоматери, они поклоняются другому небесному символу — Солнцу. Так проявляется язычество, свойственное весеннему карнавалу. Цаца — божество новорожденных гуляк, отмечающих свой веселый праздник.
В творчестве Хлебникова Цаца неоднократно фигурирует в карнавальном контексте — например, в связи с праздником Ивана Купалы. Так, в неоконченной поэме «Сестры-молнии» последний голос17![]()
Итак, карнавал уничтожает и иерархичность, и индивидуальность; также стирается грань между человеком и вещью. Происходит материализация духа, умножение уникального. Лик Божий заменяется корзинкой овощей (“безликое множество”) — то есть, духовная субстанция сводится к пище телесной.
Инициатор карнавала, его “душа” — это “я” первой и последней строки отрывка. Заключительная строка объясняет, кто же имеется в виду: веселый корень из нет-единицы. Как было показано выше (см. разд. I, «Космос и слово»: гл. 2, «Мир чисел»), данное выражение означает русалку. То есть, последний голос принадлежит водной нимфе, которая призывает своих “сестер” броситься в реки и уподобиться ей (стать русалками волны). Впрочем, при исполнении обряда все участники сливаются в единое “мы”, символом которого служит мира кольцо. Очевидно, это же кольцо (то есть, солнце) подразумевается под “великим” в строке великого мы девушка-цаца. Такое впечатление, будто цаца употреблено здесь в смысле “кукла”. Сестры подобны куклам в игре великого. Обряды праздника Ивана Купалы отражают тот факт, что день летнего солнцестояния — апогей солнечной “власти”.
Целью данного отступления было утвердиться в понимании семантических особенностей Девы Цацы в рассматриваемой поэме. Итак, Цаца связана с ребячеством и игрой, с весельем и обрядами плодородия, с зачаточным и недифференцированным (коллективное мы). Цаца — это воплощение языческого солнца, подменяющее Богоматерь на время карнавала. На детском языке ‘цаца’ обозначает что угодно. Этим словом ребенок сводит воедино и уравнивает между собой все природные явления — но тем же признаком обладает и карнавал.
Строка 72 содержит неожиданное определение: Умных толп священный гнев. Толпы дают выход священному гневу — то есть, карнавал приобретает характер бунта. Но почему толпы умные? В контексте хлебниковской философии это вполне может означать, что во время карнавала толпа усваивает “ритм вселенной”, определяющий смену противоположных состояний. Недаром же весенний карнавал приветствует возвращение небесной власти к солнцу.
Посреди карнавальной процессии внезапно возникают двумя занятая лавка, // темный тополь у скамейки. Пара всецело поглощена друг другом, не замечая окружающего гвалта и гомона; это действует как своего рода структурная пауза, противовес бурлению толпы. Возникший мотив конкретизируется в строках 211–212: Скамья. Голо выбритый инок // Вдвоем с черноокой женой. Такое впечатление, будто инок решил под шумок отринуть привычную аскезу и немного порезвиться. Подобное введение нового мотива, получающего развитие значительно позже, напоминает прием музыкальной композиции. В самом деле, если сравнивать общую структуру поэмы Хлебникова с каким-либо иным видом искусства, то лучше всего подходит музыка.
Описание карнавального гулянья продолжается, но размер, оставаясь четырехстопным, меняется с хорея на ямб. Впрочем, среди четырехстопных строк попадаются пяти- (строка 78) и шестистопные (84). Строка 83 вообще написана одностопным ямбом — Шалун. Начиная отсюда, метрика ямба становится все более нерегулярной, хотя по-прежнему преобладает четырехстопный.
Карнавальная процессия описывается быстрыми, импрессионистскими мазками. Фигуры и сцены мелькают одна за другой; царят шалуний смех, нечаянная давка (строка 78). Неодушевленные предметы перемешиваются с одушевленными и обретают независимое существование. Такова, например, проказой пролитая лейка (строка 79). Этот образ, видимо, ассоциируется с карнавальным обычаем поливать друг друга водой, что призвано обеспечить плодородие. В наряде праздничном цыган, // Едва рукой касаясь струн, // Ведет веселых босоножек (строки 80–82) — это, очевидно, ряженый, ведущий хоровод девушек на весеннем празднике. Аналогично: Черноволосый, черномазый мальчуган // Бьет тыквою пустой прохожих (строки 84–85). Тыква эта напоминает карнавальную маску (Глаза и рот ей сделал ножик; строка 86), роль которой двояка (Она копье и ловкий щит; строка 88). Все сводится к игре и шутке; семантическое ядро отрывка заключено в ритмически выделенном слове шалун.
С ряжеными смешиваются нечеловеческие существа (леший, лесные русалки). Последние зовутся женами или сестрами (ср. с сестрами в «Сестрах-молниях»), и речь их в значительной степени носит разговорный, простонародный характер (дружок, ну, добрый путь, какой кисляй, какая жуть). Наиболее характерные их черты — резвость и прозрачность одеяний (Потоком пляски пробежали // В прозрачных одеяньях жены; строки 89–90). Под прозрачностью одеяний может пониматься отсутствие таковых18![]()
![]()
Здесь же впервые в поэме появляется прямая речь (строки 91–96). Лесные русалки спрашивают друг друга, почему их брат — леший — не танцует с ними. Благодаря изменению метра (ямб — амфибрахий — ямб), явственно слышны три различных голоса, последний из которых обращается непосредственно к лешему, пытающемуся скрыться от своих сестер (строки 95–96).
Медведь в строках 97–101 — это тот же самый леший, который, согласно народному поверью, может принимать облик любого лесного животного. Слово медведь выделено ритмикой и синтаксисом: синтаксически оно принадлежит к 99-й строке, а ритмически составляет часть 100-й. Тем не менее, данная строка написана пятистопным ямбом, в то время как ряд предыдущих и последующих — четырехстопным. Благодаря анжамбману, “лишняя” стопа приходится на слово ‘медведь’, которое таким образом оказывается между двух пауз: И скрыться от сестер стремится, / Медведь, / и вдруг свободнее, чем птица, Долой от злых шатуний мчится.
Итак, наказанный щипками20![]()
Таким образом, леший-оборотень по существу своему связан с духом карнавала, а карнавал сам по себе есть праздник перехода из одного состояния в другое. Появление лешего среди гуляк мотивировано вдвойне. С одной стороны, он принадлежит к “нечисти”, которой дозволено сосуществовать с живыми лишь в переходное время наподобие карнавального (ср. когда „гуляют русалки”; Даль, IV, 114). С другой стороны, он владеет искусством перевоплощения (что явно выражено его вторым именем, “оборотень”), и это связывает его с карнавалом как праздником инверсии, переворота. Не исключено, что для Хлебникова большое значение имело фонетическое сходство слов ‘оборотень’ и ‘переворот’.
За лешим следует ряженый, лицо которого, черное с ярко-красными губами, напоминает карнавальную маску: Волшебно-праздничною рожей, // Губами красными сверкнув, // Толпу пугает чернокожий, // Копье рогожей обернув. (разговорное выражение „не лицо, а рожа”.) Рогожа — это своего рода “антиматериал”, часто использовавшийся ряжеными, скоморохами:
На семантическом уровне слова рожей, чернокожий, рогожей — все обозначают некий род маскировки, и связь между ними усилена благодаря фонетическому сходству. Черная маска пугает толпу своим обернутым в рогожу копьем. Повторение ПУ — ПУ (“толпу пугает”) фонетически выражает угрозу и в то же время обращает ее в шутку.
За ряженым следует престранное зрелище: рука воздушных продавщиц ‹...› корзину держит овощей. Сами продавщицы невидимы, и рука с корзиной движется сквозь толпу будто бы сама по себе. Вероятно, эта корзина — своего рода символическая дань еде. Тот же образ (см. выше, в связи с разбором строк 63–75) фигурирует в неоконченной поэме «Сестры-молнии», где, противопоставленный лику Божьему, символизирует безличное целое. Не исключено, что данный смысл присутствует и в «Поэте», поскольку контекст аналогичен (карнавал).
Теперь среди карнавальных гуляк появляются силы зла. Граница между реальностью и ирреальным становится менее отчетливой, с ряжеными смешиваются черти и ведьмы. Ключевым словом данного отрывка является белена (Hyoscyamus niger — растение, вызывающее галлюцинации). Судя по всему, что касается белены, Хлебников был настоящий знаток21![]()
Черти пляшут и скачут во славу весны, лезут в окно красавице весне, подобно тому, как лесные русалки — в людские жилища. Карнавал — это время нарушения всех и всяческих границ: черти проникают в человеческий мир, люди обращаются в чертей, а весенний праздник становится похож на Вальпургиеву ночь, с оргиастическими плясками ведьм22![]()
Пляски чертей сменяет восхваление смеха. Метрически это отмечено переходом к четырехстопному хорею. Первая строка данного отрывка носит декларативно-лозунговый характер: Слава смеху! Смерть заботе! Смех немедленно оживает и становится во главе карнавальной процессии: Выбегает, смел и рьян, — // Жрец проделок и буян (строки 127–128). Шествие же, из-за знамен и полотен, что качались впереди (строки 123–124), становится вдруг похоже на революционную политическую демонстрацию. Это призвано напомнить, что смех — подстрекатель ко всевозможным потрясениям, переворотам, отнюдь не умаляя, впрочем, его более традиционной роли веселого проказника. Но каков смысл осьминога (Смех, красиво беззаботен, // С осьминогом на груди; строки 125–126)? В контексте поэмы данный образ возможно интерпретировать как очередную аллюзию на солнце — точнее, на его стилизованное изображение в виде круглого лица с восемью лучами-щупальцами. То есть, смех выступает в роли вестника солнечной революции (“революции” в буквальном смысле как полного оборота) — возвращения солнца “во власть” на небесах. Таким образом, освобождение и возрождение солнца связаны со смехом и его подстрекательской функцией.
Сразу за смехом в карнавальной процессии наблюдается следующая фантастическая картина: Пасть кита несут, как двери, // Отворив уста широко, // Два отшельника-пророка, // В глуби спрятаны, как звери, // Спорят об умершей вере (строки 129–133). Конструкция эта напоминает специальный ящик, именуемый “вертеп”, в котором ряженые носили на святках куклу младенца Иисуса. Может быть, пророки — это тоже миниатюрные куклы? Пасть кита несомненно имеет определенное религиозное значение (ср. книгу пророка Ионы). Общей чертой всех мифов, в которых чудовище проглатывает кого-либо, а затем исторгает наружу, является то, что чрево чудовища представляется царством мертвых, где смех под запретом (Пропп 1939: 159). То есть, у Хлебникова пророков возможно расценивать как антиподов смеха. Смех воплощает свободу и жизнь, тогда как отшельники, заточенные в пасти кита, спорят об умершей вере. Рьяность смеха (выбегает смел и рьян) контрастирует с пассивностью пророков и кита, которого несут участники процессии.
Мертвая вера, о которой спорят пророки, противопоставлена вере в чувственное исступление карнавала: Все летит к вере в прелести и негам (строка 135)23![]()
Мельканье карнаватьных персонажей продолжается — но уже размером четырехстопного ямба. Фонетическая структура строк 136–137 отражает завыванье волынки (ВОпит задумчиВО ВО-лынка) и кукареканье старика (КРИчит стаРИК “кукаРЕКу”). Начинается вьюга, но снег подобен карнавальному конфетти: И за снежинкою снежинка // Сухого снега разноцветного // Садилась вьюга на толпу (строки 138–140). К общему веселью присоединяются еще двое персонажей, не менее необычных. Во-первых, одетый бурой шкурой волка, // проходит воин, медь и щит (строки 142–143). Кто это — ряженый, или же в толпу гуляк затесался оборотень? В силу врожденной амбивалентности (волк — человек) оборотень отнюдь не чужд карнавалу. Даже если это всего лишь ряженый в волчьей шкуре, дуализм человек — животное отражает карнавальный дух. Во-вторых, отринув привычную серьезность, жаровней-шляпой богомолка // старушка набожных смешит (строки 144–145)24![]()
Карнавал — это время перемены ролей и всевозможных трансформаций; например, Дева Мария нисходит на землю и становится простой нищенкой. Для ее описания служит ряд восклицаний, вопросов и ответов, которые все выражают изумление и благоговение. Первый возглас — Какие синие глаза! — призван подчеркнуть наиболее приметную особенность небесного создания. Следующие строки напоминают об иконе Богоматери и пасхальном крестном ходе (Пасха перифрастически названа “праздником поцелуя”): Сошли ли наземь образа — // Дыханьем вечности волнуя, // Идут сквозь праздник поцелуя // Священной живописью храма, // Чтобы закрыл глаза безбожник, // [Как] дева нежная ислама, // Иль в руки кисти взял художник?. То есть, оживает бывшая икона, служившая предметом вдохновения для живописцев, и на которую не осмеливались глядеть неверные.
Реакция гуляк на появление Богоматери разнится от непринужденных просторечных возгласов до развернутых реплик, синтаксис которых нарочито литературен и близок к архаичному. Не исключено, что первое замечание (строки 144–145) принадлежит вышеупомянутой старушке-богомолке, паясничающей со сковородкой на голове, и адресовано какой-нибудь ее набожной товарке:
“Соседка” — довольно просторечная форма обращения, а восклицание мой Создатель! (использованное в значении разговорного „Боже мой!”) звучит иронично ввиду близости к слову Богоматерь, употребленному в буквальном смысле. Ответ же дается в совершенно ином стиле, значительно более “благочестивом”:
Таким образом, для описания прежней роли Святой девы служит высокоштильная, архаичная лексика (очами, был покорен страстей язык, род человеческий) и синтаксис XVIII века (Ее шептать святое имя). Собственно, едва ли не наиболее характерный признак данного отрывка — подобный контраст между высоким и низким. Например, сперва Святая дева представлена существом возвышенным, божественным:
Но тут же (происшедший сдвиг выражен восклицанием И что ж!) она выступает в новой роли — нищенки:
Итак, с самых высот она низринута на самое дно. Судя по тому, что в новой роли ее спутник — шут, не исключено, что она присоединилась к бродячему племени скоморохов. Впрочем, даже в обличье нишенки она сохраняет небесные черты: Но нищенки нездешний лик, // Как небо синее, велик. Последние четыре строки ее портрета (170–173) — амфибрахические; видимо, роль их сродни музыкальной вариации. Повторяется образ белого платья Святой девы, и подчеркнуто, что путь ее далек: О, нищенка дальних окраин, // Забывшая храм Богоматерь!
В строке 174 точка зрения меняется (что сопровождено возвратом к ямбу), и мы снова оказываемся посреди карнавальной толпы; на сей раз это толпа детей, толпа дивчат, которая охвачена благоговением и белым светом залита. Свет, очевидно, исходит от Богоматери (ср. бела, белее изваяния, казалось, из белого камня изваян // поток ее белого платья) и является выражением ее неземной духовной сущности. Сцена с гуляками, охваченными смятением и залитыми белым светом, напоминает распространенный сюжет иконописи, а именно Преображение Господне, когда Христос изображается в светящихся белых одеждах и в окружении преисполненных благоговения апостолов. Подобная параллель вполне допустима ввиду религиозного контекста рассматриваемого отрывка, а также предыдущей ссылки на иконы (строка 147). Увидев небесную Деву в ее земном обличье нищенки, карнавальные гуляки ошеломлены в точности подобно апостолам, удостоенным лицезреть преображение телесной оболочки Иисуса Назаретянина в Христа.
С возникновением в поэме мотива Святой девы карнавальный катаклизм начинает приобретать вселенские масштабы. Речь о куда большем, нежели о простом ежегодном празднике возвращения солнца, возрождения плодородия и жизни. Карнавал повлиял на религию человека, на его представления о вселенной. Если Богоматерь покинула небесную обитель, дабы присоединиться к нищим и шутам — своей противоположности, — налицо глобальный переворот вверх дном.
Недолго помедлив при виде Богоматери, толпа возобновляет прерванное буйство. Метрически этот переход обозначен возвращением к четырехстопному хорею, причем данный отрывок является наиболее длинным чисто хореическим фрагментом во всей поэме (31 строка). Карнавал здесь достигает апогея. Фантасмагорическое гулянье набирает ход, ряженые смешиваются с кошками и ведьмами. Все бегут, прыгают и пляшут; воздух полнится стоном, ревом, писком, плачем, гиком, воем и смехом.
Эта неразбериха отражена как синтаксически, так и семантически. Хлебников нанизывает на нить повествования одно субстантивное выражение за другим, причем синтаксическая связь между ними достаточно условна. Единственным связующим принципом кажется непосредственное соседство, что приводит к целому ряду формальных несообразностей. Так местоимение “ней” (“за ней”) в строке 183 грамматически относится к последнему слову предыдущей строки (присядка), хотя по смыслу должно относиться к прохожим» (следовательно, правильно было бы “за ними”). Такое впечатление, будто описываемая этими строками беготня повлияла на их формальную структуру. Сходное несоответствие возникает в строке 186: причастный оборот пролетевшие по улице формально относится к вою кошачьему и бою котов из предыдущей строки, однако по смыслу должен относиться к самим котам. Впрочем, синтаксис синтаксисом, а семантическая неразбериха в данном отрывке еще сильнее. Тем не менее, возможно выделить ряд “смысловых полей”, каждое из которых связано с празднованием карнавала:
Этот обряд косвенно отражен в целом ряде элементов, ассоциируемых с огнем. Таким образом, строки 196–206 дают фрагментарную картину плясок и прыжков вокруг весеннего костра.
Как показано, отдельные семантические поля разбиваются на фрагменты, которые сочетаются вновь самым неожиданным образом (например, хохот пепла). Элементы различного происхождения как бы уравнены в правах, вольны свободно соединяться и перемешиваться. Своего рода карнавал также имеет место на словесном уровне, порождая целый ряд нетрадиционных образов, вычурно-замысловатых или загадочных донельзя. Например, сажа плачущих усов (строка 190) означает, что сажа, которой начернено лицо, стекает по мокрым усам, словно слезы. Другой пример — строка 198: Близорукие очки текут копотью по лицам. То есть, от витающей в воздухе копоти (ср. мокрой сажи непогода, строка 196) у гуляк слезятся глаза, и слезы смешиваются с покрывающей их лица сажей. Иные образы, напротив, перифрастичны: По кудрявых влас столицам (строка 199), очевидно, относится к лицам или головам (под “столицей” в этом контексте — особенно в форме по столицам — может вдобавок подразумеваться карнавальная “столикость”: лица постоянно изменяются, двоятся, троятся, и т.д.). “Перевернутость” карнавального мира подчеркнута оксюморонами: Говор рыбы, очи сов (строка 189). Другими словами, во время карнавала слепой прозревает (совы обычно ассоциируются со слепотой, во всяком случае днем), а немой обретает дар речи.
В противоположность синтаксическому и семантическому уровню, фонетический уровень хорошо структурирован. Все строчки рифмованы (за исключением 192-й и 196-й), причем нередки более сложные схемы рифмовки, чем парная, перекрестная или охватная. В трех случаях звуковая структура соответствует семантическому содержанию. Строки 181–182 описывают танец вприсядку, а рифмы и ассонансы являют звуковой ряд “лядки — ля — ки — ри — ядки — ри — ляк” (“оглядки — пляске — присядке — кривляк”), отвечающий ритму танца. В строках 185–186 упомянута кошачья драка; соответственно, в рифмах “шутов — котов — скотов” будто бы слышны глухие удары: “тов — тов — тов”. Далее ряженый бьет жестянкою в бочонок (строка 194), что отражено звуковой структурой “бье — бочонок — чонок” (“бьет — бочонок — девчонок”).
Отрывок завершается возгласом кого-то из гуляк: Смеху время! Звездам час! Это инверсия поговорки “Делу время, потехе час”. Во время карнавала справедливо обратное: время и жизнь принадлежат смеху, тогда как серьезной стороне вещей (по Хлебникову, звезды связаны с судьбой) уделяется лишь мимолетное внимание. В свободном мире карнавала нет места предопределенности.
Следующая сцена значительно более спокойна, что отмечено изменением метра — сперва на амфибрахий, затем на ямб. Перед нами вновь пара на скамье, мельком упомянутая в строках 76–77; теперь она представлена подробней: ‹...› голо выбритый инок // Вдвоем с черноокой женой. Волосы женщины описываются сложным перифрастическим рядом:
Если голубое здесь метонимически выражает “небо”, то голубого богомольцы — это, видимо, поклоняющиеся небесам. Другими словами, женские волосы лежат волнами, подобно движениям молящегося, который отбивает поклоны перед иконой. Следующий образ содержит аллюзию на цвет женских волос: И полночь красным углем жег // В ее прическе лепесток; то есть, в черной, как полночь, прическе блестит лепесток. Не исключено, что сравнение вьющейся прически с богомольцами обусловлено тем, что спутник женщины — монах. Возможно, во время карнавала ее волосы оказывают на него то же магнетическое воздействие, что и некогда молитвы — на истинно верующих. Сложные образы эти сменяет ряд романтических клише, посвященных женским глазам: И что ж! Глаза упорно-синие // Горели радостью уныния // И, томной роскоши полны, // Ведут в загадочные сны. Предваряющее восклицание И что ж! сигнализирует о стилистическом сдвиге. Можно подумать, будто, завершая ряд сложных метафор выражениями настолько избитыми, Хлебников дает понять, что на деле сцена эта — скорее банально-романтического свойства: красивая женщина пытается соблазнить монаха.
Очередная перемена точки зрения (сопровождаемая изменением метра на амфибрахий) — и читателю последний раз представляется карнавальное гулянье:
Не исключено, что под другим, не этим ликом подразумевается дьявольский, противопоставленный “этому” лику (Божьему или Богоматери); да и в слове “бесновалась” явственно слышится “бес”.
И тут, резко контрастируя с буйством карнавальной стихии, появляется поэт. В отрывке с его описанием (строки 225–299) доминирует амфибрахий, однако нерегулярный: то двух-, то трех, а то четырехстопный. Отдельные строки написаны анапестом; также налицо вкрапления хорея и ямба. Начиная с этого места, метрическая неоднородность выражена отчетливей.
В портрете поэта первые девять строк написаны амфибрахием, за исключением 231-й (свой давно уж измученный ум — явный анапест), которая семантически выражает страдание, усталость и безнадежность, так что смена метра, вероятно, неслучайна26![]()
Это наиболее трудное место во всей поэме, и отнюдь не случайно речь здесь идет о поэте (творчество Хлебникова как загадка рассмотрено в разд. II, «Многоликая речь»: гл. 4, «Загадки»; там же см. о скрытых значениях). Разгадать тайну этих строк поможет анализ их фонетической структуры.
В начальных пяти строках доминирует гласный звук “О”, особенно в первой строке и в рифмах (“около — мертвых — богов — пророки — востоки — шагов — уроки”); шесть раз “О” стоит под ударением — или семь, если читать “мёртвых” как “мьортвых”. Среди согласных доминируют “Р” и “К”, причем наиболее часто они встречаются в сочетании с “О”: “около — мертвых — пророки — востоки — уроки”. Таким образом, в фонетической структуре скрыто слово ‘рок’.
В следующих четырех строках наиболее выделяется гласный звук “У”, стоящий под ударением семь раз (во всех рифмах и в словах, непосредственно предшествующих рифмованным: “задумчиво — мучая — измученный — ум — узник — созвучия — дум”). Как правило, “У” встречается в сочетании с “М”, что дает слово ‘ум’. Звуковая структура порождает еше три морфемы, а именно “муч”, “звуч-” и “заум-”, причем соответствующий семантический комплекс являет автобиографическую аллюзию на “звездный” (иначе “заумный”) язык, составление которого шло одновременно с работой над поэмой «Поэт» (см., напр., «Художники мира», 13 апреля 1919; V, 216–221; 1986, 619–623). В этом “универсальном” языке каждый звук семантизирован; содержание и форма полностью слиты.
Ключ к интерпретации всего отрывка содержится в словах ‘рок’ и ‘ум’, сочетание которых отсылает к «Доскам судьбы». Для этого произведения Хлебников составлял параллельные списки исторических личностей и событий, либо отвечающих одному и тому же началу, либо противоположных. Целью выкладок являлось установить соотношение между такими личностями и выразить его в численном виде. По словам Хлебникова, получившийся перечень напоминает четки:
Образно говоря, в «Досках судьбы» исторические личности уподоблены костяшкам счетов. В стихотворении «Были вещи слишком сини...» (опубл. 1914), посвященном цусимскому разгрому — который, по свидетельству Хлебникова, подтолкнул его к размышлениям о понятии исторической справедливости, или равновесия, — фигурирует слово ‘ожерелье’, призванное означать “цепочку” погибших русских, которые будут отомщены когда-нибудь в будущем:
В сходном контексте это слово использовано в раннем прозаическом отрывке (1908):
Здесь Хлебников сравнивает судьбу с мавой, лоно которой таит гибель. Украшением ей служит ожерелье смертей, а жертвами, видимо, — соблазненные юноши. В мистерии «Скуфья скифа» (1916) образ четок ассоциируется со временем, календарем:
Теперь можно предложить вариант интерпретации строки 230, Ожерелье, коим поэт мучает свой давно уж измученный ум, состоит из нитей времен, на которые нанизаны даты исторических событий, а также смертей и рождений, фигурирующие в «Досках судьбы». На те же личности и события должно, соответственно, указывать местоимение “их” в строке 230. Как выглядят эти “нити” в «Досках судьбы»? Список исторических личностей включает, главным образом, пророков, религиозных реформаторов, философов, математиков и поэтов. Иногда Хлебников называет их богами. Например, под заголовком «Уравнение богов уравнения» (89, 20) значатся следующие имена: Гаусс, Декарт, Лобачевский, Эйлер. Хлебников сопоставляет их с математиками древности и увязывает между собой даты их смерти и рождения. Гаусса, Декарта и Эйлера он соотносит с Эвклидом, а в качестве предшественника Лобачевского рассматривает индийца Брахмапутру (598–660 гг. н.э.). То есть, он разграничивает западную и восточную математическую мысль, относя Россию к Востоку.
Несколько раз в «Досках судьбы» фигурирует ожерелье из проповедников равноправия, особенно интересовавших поэта:
Это отступление дает возможность увидеть все тех же персонажей «Досок судьбы» в богах и пророках, пребывающих, где запады — с ними востоки (строки 225–227). Столь же значимая тема «Досок судьбы» — отношения Востока и Запада, неизменно определяемые Хлебниковым как борьба противоположностей, и заметная часть его выкладок посвящена определению их взаимозависимости в тех или иных областях:
Встреча этих волн нередко принимает форму исторического противостояния, и в первую очередь Хлебникова занимало равновесие побед и поражений (см. V, 487–488)27![]()
Таким образом, запады и востоки в строке 227 могут относиться к тем или иным воплощениям “Запада” и “Востока” в «Досках Судьбы». Не совсем понятно, что означает усталый ветер шагов (строка 228); шаг может быть интерпретирован как этап математического вычисления, что снова отсылает к «Доскам Судьбы». Как бы то ни было, строками 228–229 подразумевается некий беспорядок, сумятица. В настоящем контексте (фонетическая структура скрывает слово ‘рок’) могут иметься в виду автобиографические обстоятельства, а именно усталость Хлебникова от попыток упорядочить «Доски судьбы».
В последних четырех строках (230–233) разрабатывается тема поэтических мучений. Поэт, как на дыбу, вздергивает свой давно уж измученный ум на нити пророков и “западно – восточных” взаимосвязей. Явная автобиографичность заглавного персонажа поэмы подчеркнута в строке 232, где фигурирует вечный узник созвучия. Данный оборот, вдобавок, напоминает о неустанном стремлении Хлебникова связывать воедино самые разнородные явления. О том же свидетельствует корневая цепочка “(за)думч — муч(а) — (из)муч — ум — звуч — дум”, образующая семантический комплекс, который характеризует поэта. Такое впечатление, что имелась в виду непосредственная аллюзия на поиски Хлебниковым универсального языка (подкрепленная скрытым в фонетической структуре словом “заумь”).
Поэт, жертвенник дум (строка 233), сторонится карнавального гулянья, будучи в раздоре с весельем. Не исключено, что и здесь налицо автобиографический элемент, отражение поэтом своих ощущений по поводу времен, в которые довелось жить. Не будем забывать, что рассматриваемую поэму Хлебников писал в сумасшедшем доме, как буквально, так и метафорически. Его окружали умалишенные, а за стенами харьковской психиатрической лечебницы бушевала безумная бойня Гражданской войны (Где сумасшедший дом? // В стенах, или за стенами?; см. «Об истории поэмы»).
С учетом автобиографичности образа поэта в поэме, немалое значение приобретает анаграмматическая структура строк с его описанием (скрытые ключевые слова рок и ум), которая как бы характеризует поэта дополнительно и подчеркивает одну из целей художественного творчества — создание скрытых значений.
За описанием внутреннего состояния поэта следует его портрет; особенно выделены плащ, брови, рот и длинные волосы. Ритмически отрывок разбивается на три фрагмента: пять строк амфибрахием, четыре — ямбом, и 30 — снова амфибрахием. Семантическое членение отрывка соответствует метрическому: первые пять строк посвящены плащу поэта, следующие четыре — его бровям и рту, а последние 30 описывают прическу. Данный отрывок насыщен метафорами — за портретом поэта возникает целый пейзаж. Словно при двойной экспозиции, на темный плащ и буйную шевелюру поэта накладываются панорама гор и стадо бегущих оленей.
Из амфибрахического ритма строк 234–238 резко выбивается слово плащ, расположенное в их “геометрическом” центре (до и после него — по восемь стоп амфибрахия). Ритмическое выделение данного слова соответствует его семантической значимости. Посредством синтаксического параллелизма (“складками падая — горой, холмами, рекою, водопадом”) плащ уподоблен горному пейзажу. Аналогично, описание поэта от начала и до конца насыщено синонимами — сравнение громоздится на сравнение, а метафоры, разворачиваясь, порождают новые. Образ поэта в длинном, ниспадающем складками плаще ассоциируется с романтическим стилем, равно как и система природных сравнений, ‹...› голубые цветы, // В петлицу продетые Ладою (русской богиней любви) снова порождают ассоциации с поэзией романтизма, в частности с «Blaue Blume» Новалиса. Хлебников также соотносит голубой цвет с поэзией, эмоциональным началом, творчеством; аналогичную символическую нагрузку несут у него голубые цветы. В данном случае цветы едва заметны в складках плаща; это может означать, что поэзию затмили иные цели и замыслы поэта.
Брови поэта уподоблены сну, полету дикой ласточки. Аналогичный образ бровей, “написанных” птичьим полетом, встречается в другом стихотворении Хлебникова, и тоже о поэте-романтике, а именно Лермонтове («На родине красивой смерти, Машуке...»):
Рот поэта, гордый и закутанный судорогой безбожия, также вполне “лермонтовский” и призван напомнить расхожее романтическое представление о поэте как еретике и гордом бунтовщике.
Наиболее пристальное внимание уделено волосам поэта, которые сравниваются со стадом бегущих оленей. На эту метафору Хлебникова могла вдохновить библейская фраза:
Метафора эта обретает собственную жизнь и повторяется с незначительными вариациями, на манер музыкального мотива. Строка 255 — Оленей сбесившихся стадом — почти без изменений повторяет строку 244 (Оленей сбесившимся стадом); эта же метафора повторена в строках 257 и 270, где она синтаксически инвертирована (Ночным табуном сумасшедших оленей, Рекой сумасшедших оленей). Если рассматривать отрывок, в котором волосы уподоблены оленям, как целое (строки 243–272), бросается в глаза, что эти четыре строки, задающие тему, расположены на удивление симметрично и задают структуру всего отрывка (“т” обозначает первую строку и ее вариацию, “у” — инвертированные вариации):
Стадо бегущих оленей уподоблено штормовым волнам (беснуясь морскими волнами), каковая метафора, видимо, порождена предшествующим словом волнуясь. Окказиональной синонимией Хлебников воскрешает его первоначальное значение: “волноваться” = “бесноваться морскими волнами”. В то же время сохраняется привычное значение этого слова — звери встревожены и напуганы. Звукоподражание “д–р–о–ж”, дважды возникающее в строке 251 (Все дрожат, дорожа и пылинкой времени), — фонетическое эхо дрожи страха, которая охватывает черные доверчивые морды оленей, их рога. Последние уподоблены растению “каменная липа” (Phillyrea media или Steinlinde, нем.). Эта ассоциация (как и все хлебниковские экскурсы в ботанику) очень точна: Phillerya media представляет собой кустарник с настолько твердой древесиной, что иногда используется для изготовления древесного угля (отсюда прилагательное ‘каменная’)28![]()
Бег оленей по пропастям и водопадам напоминает описание плаща поэта (горой темноты ... речным водопадом ... складками падая). Другими словами, волосы его ниспадают на складки плаща подобно стаду, прыгающему через ущелья и горные потоки.
Эти три строки лишь повторяют, с некоторыми видоизменениями, прежние; в последних двух речь снова о страхе зверей (ср. все дрожат) и о быстроте их бегства (ср. дорожа и пылинкою времени).
После третьей вариации на тему оленьего бега следуют строки, подводящие итог разобранному отрывку:
Итак, впервые поэт упомянут открытым текстом (в строке 232 был применен перифраз — вечный узник созвучия). Теперь он зовется певцом, что напоминает о средневековых менестрелях или бардах, а эпитеты сумасшедший и гордый — снова о поэте-романтике, одиноком и не от мира сего.
Строки 261–267 добавляет новые детали к описанию одежды поэта. Вокруг его шеи обвит шарф, заколотый булавкой (я считаю кут сокращением от “лоскута”29![]()
![]()
![]()
В следующих строках вопрос адресован девушке, и последний раз встречается метафора “волосы — олени”:
Метафорическое описание волос поэта как стада оленей, низвергающегося, подобно реке, в крутую и снежную пропасть, сменяется предметным образом: в пропасти белеет воротничок! Сдвиг этот отражен и в ритмической плоскости: амфибрахий — анапест.
Итак, портрет поэта соткан из двух образов. С одной стороны, поэт стоит перед нами, по его широкому плащу и голубому шарфу ниспадают длинные волосы, и шарф украшен булавкой с драгоценным камнем. С другой же стороны, за ним разворачивается горная панорама, с ущельями, водопадами, ледниками, и по горам скачет оленье стадо с красной подсветкой. Поэт — это бард, в котором заключена целая вселенная. Своим внешним видом он обязан романтической традиции, и отнюдь не случайно в отрывке с его описанием преобладает амфибрахий — метр романтических баллад.
Столь детальное рассмотрение Хлебниковым волос поэта особенно значимо в свете его автобиографической поэмы «Труба Гуль-Муллы», в одном из вариантов которой длинные волосы соотносятся с творческой силой и даром пророчества:
Другими словами, волосы выступают посредниками при контакте с потусторонним миром, который дарует способность пророчить (темных голосов жилье) и творить (черной пшеницы стога символизируют плодородие, в том числе творческое). “Волосяная” метафора соединяет земное (водопад, река, конский хвост, сено, пшеница) с небесным (ночные вдохновения, звездные полночи, птичьи полеты). Волосы поэта есть точка соприкосновения неба и земли (провода к небесам для разговоров с богом), проводник вдохновения.
Следующие 13 строк снова посвящены волосам поэта, а именно их причесыванию. Деву с гребенкой Хлебников именует панной. В данном отрывке метр изменяется на “плясовой” четырехстопный хорей. Причесыванье волос и украинское слово ‘панна’ ассоциируются с русалкой (ср. строки 319–320 и 330). Более того, душа у девы — голубого цвета (с голубой душою панна), что связывает ее как с русалкой (из строк 379–380), так и с поэзией (ср. голубые цветы, голубой темноты строгий кут, голубые труды в портрете поэта). В другом произведении Хлебникова, сверхповести «Зангези», главный персонаж сравнивает себя с голубокрылой бабочкой:
Синее зарево стертой с крыльев пыльцы символизирует то, что поэт оставляет позади в борьбе за расширение границ комнаты человеческой жизни, — а именно, свои песни и стихи. Таким образом, с голубой душою панна, причесывающая поэта, может быть интерпретирована как его муза, причем вдохновение передается через волосы. Такую интерпретацию подтверждает образный строй отрывка. Панна уподоблена клонящемуся к земле колосу (этот образ дополнительно усложнен сравнением зерна с жемчугом — наклонясь, как жемчуг колоса), тогда как у поэта усы темнеют нивой // пашни умной и ленивой. Между этими образами, сочетание которых являет традиционный символ плодородия — падающие на вспахиваемое поле зерна, — заключен ряд других метафор гребенки, расчесывающей волосы поэта. Она уподоблена ветру, который делит волны (здесь может обыгрываться двойное значение слова ‘гребень’), песне свежей бури и пронзительному крику чайки. То есть, образный строй отрывка содержит элементы, относящиеся как к водной, так и земной стихии:
| земля | вода | |
| дева | колос | жемчуг |
| гребенка | плуг | ветер |
| поэт | пашня | волны |
Уподобление девы колосу интересно еще и потому, что согласуется с народным поверьем о влиянии русалок на плодородие:
Поскольку русская русалка — хтоническое существо (Зеленин 1916), то возникает дополнительная ассоциация с греческой богиней плодородия Деметрой и ее дочерью Персефоной, роль которых примерно аналогична.
Данный фрагмент демонстрирует результат действий музы — на поэта нисходит вдохновение. Метр изменяется с хорея на анапест, и это придает отрывку торжественное, классическое звучание. Впрочем, анапест здесь не вполне регулярный, что порождает ощущение своего рода ритмического беспокойства. В середине строки 286 анапест сменяется амфибрахием, а в строке 289 появляется дактиль. Начиная со строки 290, метр — четырехстопный ямб, однако строка 292 отклоняется от схемы, будучи семистопной (3+4). Заключительная ямбическая строка (299) — трехстопная. Метрически этот отрывок — наиболее нерегулярный во всей поэме, что, видимо, отражает творческое возбуждение поэта.
Возвышенность поэтического вдохновения подчеркнута тремя отрицаниями — не спал, не грезил и не жил (строка 286). Поэт пребывает в трансе, где отсутствует граница между сном и бодрствованием: багровым лучом озаренный, // ‹...› он бежал, каким-то светом привлеченный, // Какой-то грезой удивленный (строки 287, 292–293). Он напоминает пророка, пораженного видением. Другие детали приводят на ум образ отшельника и пустыне. В строке 291 поэт — прижатый к груде камней призрак. Он руки на груди сложил (строка 290), словно умерший, и тело ждало у стены // его души шагов с вершин, // его обещанного спуска, // как глина, полная воды, // но без цветов — пустой кувшин (строки 294–298).
Поэт, багровым лучом озаренный, // узор стен из камней голубых // черными кудрями нежил (строки 287–289). Здесь допустимо как реалистическое, так и символическое прочтение. Можно сказать, что поэт просто приклонил голову к стене (ср. строку 291). Но, с другой стороны, голубые камни символизируют поэзию, а волосы поэта суть проводник, по которому передается вдохновение. То есть, в данных строках скорее заключено символическое изображение творческого процесса.
И вот появляется русалка: она рыдала у ног поэта (строка 300).
Данный отрывок образует ритмическое и синтаксическое целое. Метр (за исключением четырех строк хореем) — амфибрахий. Первая строка начинается двумя стопами ямба (У ног его ‹...›), но, стоит возникнуть русалке, делается амфибрахической (рыдала русалка. Она ‹...›). Этот метр, да и сама тема русалки, напоминают одноименное стихотворение Лермонтова; и действительно, строка 301 (Неясным желаньем полна) перекликается с лермонтовским „Полна непонятной тоской” (см. М.Ю. Лермонтов, «Русалка», строка 26). Таким образом, хлебниковская русалка связана с романтической традицией (как и образ поэта в поэме), однако большинство своих черт заимствовала непосредственно из фольклора (на который, впрочем, опирался и романтизм)32![]()
В хлебниковском описании жилища русалки (строки 302, 307–311) налицо все традиционные элементы русского “русалочьего” фольклора: мельник, сведущий в колдовстве и заключивший договор с чертом, скрипучие мельничные колеса, ночные подводные игрища. Но что-то смущает душевный покой русалки — ведь, дабы найти поэта, она оставила шум колеса ‹...› забыв про ночные леса (строки 302, 307). Здесь следует отметить, что, согласно народному верованию, в период праздника Семик (“русальная неделя”) русалка выходит из воды, бродит по лесам и полям, лазает по деревьям и качается на ветках33![]()
Зачем русалка искала поэта? Это выяснится позже, из ее мольбы-обвинения. Здесь же лишь упомянуто, что они встречались прежде (вечерами русалки часто слушали его песни). Эти строки (303–306), написанные челырехстопным хореем, резко выделяются на амфибрахическом фоне и связаны с фрагментом, где панна (русалка), расчесывала волосы поэта.
Во многих отношениях поэма Хлебникова напоминает головоломку, собрать которую — задача читателя. Так и здесь рассказ о странствии русалки прерывается длинным отступлением на тему русалочьего быта и ее взаимоотношений с поэтом. Это отмечено переходом к четырехстопному ямбу, который выдерживается на протяжении почти всего отрывка, и только последние пять строк снова написаны амфибрахием. Синтаксически отрывок состоит из трех длинных предложений; первые два начинаются союзом ‘когда’ и длятся одно семь, а другое восемнадцать строк. Заключительная, также семистрочная, фраза вводится союзом ‘тогда’ и, соответственно, контрастирует с первыми двумя.
Первые же строки отрывка (312–313) задают мотив, который вскоре становится доминирующим, а именно соприкосновения земного и небесного: Когда рассказом звездным вышит // Пруда ночного черный шелк. Метафора отражения небосвода водной гладью также устанавливает соответствие между звездной и водной стихиями, в данном контексте немаловажное.
Смысл следующих пяти строк (314–318) не столь ясен, но, видимо, также основывается на оппозиции “земное — небесное” и ее разрешении:
Кто такой кто-то, и что за тайна мира? Если мир слов означает в настоящем контексте поэзию, скорее всего, кто-то — это поэт, отринувший ее и вознесшийся на ночное небо, где сияют звезды (ср. с пред. строками). Ключом к отгадке может послужить выражение звездный рассказ; то есть, “тайна мира”, услышанная поэтом на небе, — это, видимо, “звездный язык”, который универсальнее языка слов (очередная автобиографическая отсылка). Эпитет нежный, которым характеризуется второй кто-то, также призванный отринуть мир слов (умолкнуть) и вознестись на небо (умереть), ассоциируется с русалками (см. строку 305: Души нежные русалочьи ‹...›). Соответственно, не может ли под вторым “кем-то” снова подразумеваться поэт, однако уже в роли певца русалок? Это подчеркивало бы его амбивалентность, влечение как к небесам, так и к русалкам. Впрочем, судя по всему, в настоящий момент его всецело занимают звезды34![]()
Следующие 18 строк (319–336) воссоздают картину традиционного русалочьего быта согласно народному поверью. Русалки расчесывают свои волосы, прячутся в листве35![]()
Голос выпи фонетически передан рядом звуковых повторов: тОЛьКо ГУЛ Кий ГОЛос ‹...› вОЛ. По народным верованиям он ассоциировался с водным духом мужского пола — братом русалки, водяным:
Не исключено, что именно водяной “мычит”, в то время как утехой тайной сердце тешит // усталой мельницы глагол, // и всё порука от порока (строки 325–327). Видимо, здесь обыгрывается устойчивое сочетание “круговая порука”: гарантией вращения мельничного колеса является катание на нем соблазнительных русалок36![]()
Слово морока (строка 328) означает фосфоресцирующую полосу на воде37![]()
Два последних образа (очи синие за паутиною лучей и ручей, сокрытый в шелесте) призваны подчеркнуть двойственность, неуловимость и неоднозначность. Синие очи и вода ассоциируются с самой русалкой, и не исключено, что поет она о себе самой; ведь наиболее характерные ее черты — неуловимость, призрачность.
В строках 337–343 по-новому детализируется портрет русалки на фоне привычного ей пейзажа; даже метр меняется на амфибрахий (со строки 339).
Первые две строки (ср. вечный узник созвучия, строка 232) опять выводят на автобиографический уровень и ассоциируются со “звездным языком” Хлебникова, с его попытками свести все многообразие явлений к счетному ряду символов38![]()
Итак, отмечено противоречие между русалкой и поэтом в его “небесной” ипостаси. Апологет “звездного языка” словно бы вытеснил певца, милого русалочьему сердцу.
После отступления, вводящего русалку в “звездный” контекст, поэма возвращается к прежнему “сюжету” — об ее путешествии из леса в город. Данный отрывок написан амфибрахием и ямбом, причем смена метра происходит, когда русалка оказывается у поэта (И входит к нему; строка 349).
Здесь также налицо структурные элементы головоломки. Например, строки 352–355 связаны со строками 344–345 (они написаны в прошедшем времени, в отличие от остальных, которые в настоящем): строки 346–351 получают продолжение в строке 356.
Строки 352–355 описывают город, как тот представляется русалке:
Оборот сердце вещее, видимо, подразумевает русалкин пророческий дар (см. Даль, 1, 349: “вещунья, вещица”). Ночная жизнь большого города оставляет русалку равнодушной; напротив, это ночные барышни и щеголи напуганы ее мертвенно синеющим телом (строки 347–348). И вот она входит к поэту. Отчего-то на сердце у нее неспокойно (В душе у девы что-то // Неясное уму; строки 350–351). Нага и смущена39![]()
Глаза ночей, зовущие в отчизну лебедей, ассоциируются с царством мертвых; ведь русалка — хтоническое существо. А вот сравненье глаз ее с одуванчиком (Taraxacum officinalis), на первый взгляд, неожиданно. В течение всей поэмы глаза у русалки — синие, цвета воды, в которой она обитает. Противоречие снимается, если вспомнить, что под одуванчиком может подразумеваться цикорий полевой (Cichorium intybus). имеющий голубой цвет (Даль, II, 574). Эту интерпретацию подтверждает другое стихотворение:
Итак, русалка смотрит на поэта синими глазами (цвета поэзии) и упрекает его в слепом восхвалении науки.
Далее следует длинный монолог, в котором русалка возлагает на поэта вину в своих нынешних горестях. Метрически доминирует четырехстопный ямб, однако встречаются нерегулярные вкрапления трех-, пяти- и шестистопного ямба; ритмическая разноголосица усугублена отдельными амфибрахическими строками.
Как часто мой красивый разум, // На мельницу седую приходя, // Ты истязал своим рассказом // О празднике научного огня, — жалуется русалка. Праздник научного огня символизирует наступление нового века, причем научный огонь есть явный перифраз электричества, что дает ключ к пониманию следующих строк:
Сошедшие с небес месяцы суть уличные фонари; второй же образ призван означать электрические трамваи, заменившие конки. Аналогично, в поэме «Ладомир» символом новой эпохи служит молния, низведенная до роли слуги:
Наступление новой эры сопровождается триумфом не только электричества, но и разума:
В творчестве Хлебникова образ перемалывания отнюдь не единичен, и, дабы понять все его коннотации в рассматриваемой поэме, нужно сделать небольшое отступление. В одном из последних, фрагментарных произведений поэта («Что делать вам...»; V, 111–118) “перематывание” эквивалентно делению или разложению на мельчайшие частицы. В “звездном языке” это семантическое понятие выражается буквой “М”40![]()
Одна из хлебниковских рукописей (ед. хр. 98) содержит вариант этого стихотворения, снабженный следующим комментарием:
Хлебников здесь имеет в виду свою пьесу «Госпожа Ленин»41![]()
В «Поэте» же мельником, перемалывающим старый мир в муку, является рассудок. Выражение “старый мир” принадлежит к лексикону революции (ср. поэму Блока «Двенадцать»; см. «Ритмическая структура», разд. «Метр») и призвано характеризовать время, предшествующее новой эпохе. Таким образом, описание нового мира русалкой весьма злободневно: тот сотворил себе кумира из электричества (ср. ленинский план электрификации) и вдобавок безоглядно следует рационализму как путеводному принципу, что приводит к распаду всего и вся. Это означает, что изображенный в поэме карнавал непосредственно связан с революцией 1917 года.
Итак, согласно русалке, поэт истязал ‹...› рассказом о празднике научного огня ее красивый разум (строки 365, 367–368), то есть яро отстаивал новый рационалистический порядок. Также он предрекал ей исчезновение вместе со старым миром (строки 382–385). Этого, тем не менее, не происходит: И над покойником [старым миром] синеет незабудка, // Реки чистоглазая дочь (строки 379–380). Вопреки пророчеству поэта, русалка выжила и теперь предстала перед ним, воплощенное доказательство его ошибки.
Впрочем, отношение русалки к поэту не столь однозначно:
Столь противоположные эмоции порождены, видимо, двойственностью самого поэта — апостола науки, с одной стороны, и в то же время певца. Как поборник воображения и поэзии он близок русалке, однако ее отталкивают его “наука” и “рассудок”. Учитывая определенную автобиографичность образа поэта, можно заключить, что ненависть русалки вызывает именно его “научная”, вычислительная работа — другими словами, «Доски судьбы». Аналогичное обвинение разуму содержится в другой поэме Хлебникова, «Сердца прозрачней, чем сосуд...» («Любовь приходит страшным смерчем...»), где один из голосов (женский) говорит следующее:
Поскольку русалка тесно связана с поэзией, то ее конфликт с поэтом как апостолом науки можно интерпретировать — на автобиографическом уровне — как отражение внутреннего конфликта в отношении Хлебникова к поэтическому творчеству и выкладкам для «Досок судьбы».
В строках 394–397 русалка возобновляет свои нападки на поэта:
Последняя метафора допускает как буквальное толкование (утопленница на дне реки), так и символическое. Сходным образом клешни фигурируют в шестом парусе «Детей Выдры», в связи с Карлом и Чарльзом:
Теории Маркса и Дарвина уподоблены рачьим клешням, сокрушительной хваткой стиснувшим нежные умы и тело веры. Выражение нежные умы возвращает нас к рассматриваемой поэме — ср. души нежные русалочьи (строка 305) и нежный [певец] (строка 318). В процитированном отрывке из «Детей Выдры» нежные умы стали добычей, у которой осталось только право висеть, быть замученной, петь в тисках железных. В моей интерпретации добыча и нежные умы ассоциируются с русалкой, которая принуждена петь в тисках, поскольку является ошибкой и нуждается в исправлении. Стискивающие русалку рачьи клешни персонифицируют марксизм и дарвинизм с их рационалистическим подходом к жизни. Рационализм и русалки — веши несовместные.
Следующее обвинение, которое русалка швыряет поэту (строки 398–400), сводится к тому, что он заключил ее во мрак (облек чертой ночной мороки), задушив все ее спонтанные порывы (Порывы первые ломая). Аналогичное обвинение выдвигалось против разума в «Гибели Атлантиды»:
Порывы первые и побеги страсти молодой — очевидные синонимы спонтанности и эмоций. Фраза же зачем, чертой ночной мороки // порывы первые ломая, // ты написал мою судьбу? порождает ассоциации с геометрией, расчетливым планированием — то есть, с рациональным действием. Поэт, палач русалки, — геометр и вычислитель.
Далее (строки 401–418) русалка переходит от упреков к мольбе. Начав с перечисления своих многочисленных имен и личин (Как хочешь назови меня), она заканчивает просьбой: Но пощади меня! Отважен, // Переверни концом копье!
Как было показано выше (см. «Ритмическая структура», разд. «Рифма»), схема рифмовки здесь такова, что строки 402–418 образуют единое целое. Рифма “-но”, задающая лейтмотив всего фрагмента (“окно” — “но” — “суждено”), несет, как будет показано ниже, значительную семантическую нагрузку.
Автопортрет русалки состоит из последовательности образов, представляющих различные се формы. Сперва она — собрание лучей, что катятся в окно (строки 402–403); этот же образ варьируется в строке 415 (месяца луч, что вырвался из скважин). То есть, она уподобляет себя внезапному лучу света в темной комнате. Кроме световой символики, налицо водная. Русалка — и ручей-печаль, чей бег небесен (строка 404), и омут, где всадник пьет (строка 414); то есть, она уподобляет себя как воде голубой, текучей, так и темной, глубокой, недвижной. Водно-световая символика дает ключ к строкам 411–413: русалка — игра ночных очей, // всегда жестоких и коварных, // на лоне ночи светозарных. Данный образ связан с народным поверьем, будто русалки часто превращаются в огни, дабы сбивать с пути и губить рыбаков и мореходов (Зеленин 1916: 178)42![]()
Ее изменчивая, переходная природа ясно выражена в строке 405: “Иль нет из да — в долине песен”. Русалка олицетворяет внезапный переход от плюса к минусу; одновременно будучи носителем двух противоположных начал, она демонстрирует то одно свое лицо, то другое43![]()
Заключенный в строках 406–407 образ также призван отразить ее многоликость: Иль разум вод — сквозь разум чисел, // Где синий реет коромысел. Слово коромысел (коромысло) является в поэзии Хлебникова одним из ключевых. Реющий (над водой) ‘коромысел’ — это стрекоза (Libellula); однако, здесь также скрыто значение ‘коромысло’ (то есть древо водоносное), к которому и относится разум вод44![]()
Таким образом, едва ли не наиболее отличительная особенность русалки — двусмысленность, неоднозначность. А поскольку она выступает поэтической музой, можно заключить, что главная суть поэзии — также в неоднозначности, в сотворении множественных смыслов.
Автопортрет русалки также содержит краткий заключительный упрек поэту: Из небытия людей в волне // Ты вынул ум, а не возвысил // За смертью дремлющее “но” (строки 408–410). Каков смысл этих загадочных строк? Небытие людей в волне — это, видимо, синоним смерти; такая интерпретация находит подтверждение в следующем отрывке из третьего параграфа «Нашей основы» («Математическое понимание истории. Гамма будетлянина»), написанной в мае 1919 года:
Итак, в поэме русалка обвиняет поэта в попытке разрешить загадку смерти посредством математических вычислений (ср. выше при помощи холодного умственного расчета). Налицо очередная автобиографическая аллюзия, отсылка к «Доскам судьбы». Глаголы вынуть и возвысить, описывающие действия поэта, ассоциируются с математикой. Не будучи сами по себе математическими терминами, оба они имеют, тем не менее, математических “близнецов”: извлечь (корень) и возвести (в степень). Русалка заявляет, что поэт ошибся в вычислениях — позабыл возвысить один фактор, за смертью дремлющее “но”. Сама же она, по сути, и есть живое но — похоронена рассудком, однако здравствует. Русалка насквозь парадоксальна (как и загробная жизнь)45![]()
Подводя итог монологу русалки, можно сказать, что темой его является конфликт несовместимых противоположностей — русалки и разума. В каких бы обличьях те ни фигурировали, сводится все к одному и тому же: соединение против разъединения.
Таким образом, гневный плач русалки можно интерпретировать как требование предоставить воображению, отраженному в фольклоре, мифологии, поэзии и т.п., право на существование. Главная суть русалки (как и поэзии) — в неоднозначности; следовательно, эпоха, сотворившая кумира из рационалистической науки, представляет для них смертельную угрозу. Теперь инверсию, празднуемую в поэме карнавалом, можно интерпретировать как шаг к победе разума. Одним из его результатов является то, что Богоматерь (религия, вера) и русалка принуждены влачить нищенское существование.
Дневниковая запись Хлебникова, датированная 31.1.22, зафиксировала несколько мыслей, пришедших ему в голову, судя по всему, на каком-то собрании:
Здесь Хлебников принимает сторону искусства и воображения против науки, повседневной рутины, действительности. Несколько утрируя, позицию его можно свести к следующему утверждению: реальность определяется поэзией задолго до того, как, с позволения сказать, “реализуется”.
В заключительном отрывке активную роль берет на себя поэт: объединив русалку с Богоматерью, он приносит им клятву. Большую часть заключения (31 строка) составляет монолог поэта. Почти всюду выдержан регулярный четырехстопный ямб — за исключением строки 448, где лишняя стопа приходится на ключевое слово, Водолеем, и строк 452–455, которые написаны четырехстопным хореем и на фоне ямба резко выделяются. Этот контраст мотивирован семантически, поскольку данное четверостишие содержит клятву поэта.
В своем пророческом монологе поэт предсказывает русалке и Богоматери их совместное будущее. Вы сестры. В этом нет сомнений, — говорит он русалке, указывая на Богоматерь. — Идите вместе ‹...› Символически объединяя водную и небесную стихию, поэт призывает невесту вод и звезд невесту взяться за руки и возвещает, что отныне им суждено влачить существование нищих изгоев.
Впрочем, в этой новой жизни им никак не миновать стороной прежние места своего обитания — соответственно, речную воду и храмы (строки 426–434):
Но где бы они ни скитались, им всегда суждено жить нищими в тени забора, // быть в рубище чужом и грязном (строки 435–436), спать на земле и на соломах, // когда рука блистает ночи (строки 440–441): они везде изгнанницы (строка 444). Выражение “спать... на соломах” (и, выше, в хлеву) ассоциируется с рождением Христа в яслях; то есть, прибежищем для Богоматери и ее сестры русалки может послужить лишь конюшня, „потому что нет им места в гостинице”. [Ср. Евангелие от Луки, 2:7: „И родила сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице”. — Прим. ред.] Они изгнаны из социума и вынуждены довольствоваться обществом животных, или же одиночеством во мраке (в тени забора, в глубинах темного собора); им суждено разделить судьбу угнетаемой бедноты (Вам участь горькая останется // Везде слыхать: “Позвольте кланяться”: строки 445–446). Хлебниковскую рифму возможно обыграть следующим образом: отныне собор их есть забор. Нищие и бездомные, русалка и Богоматерь обречены скитаться; их будущая совместная жизнь описана как неминуемое суровое испытание.
Изрекши пророчество, по белокаменным ступеням // он [поэт] в сад сошел46![]()
![]()
Выражение сколько тесных дней в году — явный перифраз числа 365. Таким образом, поэт обещает изгнанницам вести их по путям судьбы суровым (в ссылку) в течение срока, кратного 365-и. В «Досках судьбы» число 365 символизирует временной цикл (по аналогии с периодом обращения земли кругом солнца). Когда один цикл завершен, происходит переворот, и начинается следующий цикл (противоположный первому), а в промежутке между ними поддерживается определенное равновесие. То есть, поэт обещает Богоматери и русалке, что нынешнее их бедственное положение не навсегда, и что пути судьбы суровые завершатся при очередной инверсии. Впрочем, он предпочитает разделить судьбу изнанниц, стать сестрам братом и спутником.
Прежде чем принести клятву, поэт вручает русалке и Богоматери цветок: „Клянемся, клятве не изменим”, — // Сказал он, руку подымая, // Сорвал цветок и дал обеим ‹...› (строки 449–451). Таким образом, цветок можно рассматривать как символ самой клятвы. Исходя из контекста всего творчества Хлебникова, можно думать, что речь здесь идет о вполне определенном конкретном цветке. Я полагаю, что это цикорий полевой (Cichorium intybus). Цикорий уже несколько раз напоминал о себе в поэме. Кроме того, народное название цикория — “солнцева сестра” (Даль, IV, 266), поскольку цветок вторит солнечному ритму: от восхода и примерно до полудня он раскрыт, а по мере того, как солнце клонится к закату, закрывается, таким образом словно имитируя “путь” солнца по небосводу. В этом можно усмотреть связь с клятвой поэта, которая, как показано, содержит “солнечное”, “циклическое” число 365. В пользу “цикориевой” гипотезы свидетельствует и второе название цветка — придорожник (Анненков 1878: 98), что можно связать с предстоящим сестрам странствием. Наконец, нельзя не отметить, что цикорий имеет голубой цвет, а именно голубые цветы в петлице — важный атрибут облика Поэта. Более того, голубые глаза русалки тут же сравниваются с цикорием (одуванчиком сияют, строка 362). Глаза Богоматери тоже синие и также уподоблены цветку одуванчика-цикория (И одуванчик зацветает // В ее глазах нездешне синих, см. анализ строк 344–364). Сине-голубой цвет, как было показано, символизирует и поэзию. Таким образом, клятву поэта можно истолковать как обещание хранить верность поэзии.
В заключительных строках поэмы трое изгоев — Богоматерь, русалка и поэт — как бы образуют единую троицу:
Объединяя Богоматерь и русалку, поэт выступает посредником между, соответственно, небесами и преисподней.
В этой своей роли заглавный персонаж поэмы есть, некоторым образом, двойник Хлебникова, который выступал посредником между классическим литературным наследием (“высокой” культурой) и фольклором (“низовой” культурой, субкультурой). Сама поэма «Поэт» призвана выразить союз между языком и формой классической поэзии, с одной стороны, и образно-тематическим строем фольклорной традиции — с другой.
Если задаться целью предельно лаконично выразить комплекс явлений, связанных в рассмотренной поэме с карнавалом, первым приходит на ум слово “переворот”, а затем — прочие слова из того же семантического ряда: обращение, инверсия, переход, нарушение границы, преображение, метаморфоза. Переворот отражен в поэме неоднократно и по-разному: как переход зимы в лето, как “обращение” солнечного года (весеннее равноденствие и связанные с ним праздничные обряды), как “космическая” революция в мировоззрении человека, приведшая к возвеличению науки и рационализма и сопутствующему обесцениванию религии, воображения, эмоционального начала, искусства. Итак, в поэме Хлебникова карнавал выражает процесс изменения, перехода из одного состояния в другое, противоположное. Карнавал изобилует противоречивыми, неоднозначными персонажами (“ни рыба, ни мясо”) наподобие русалки, неуловимый образ чей противится окончательному и бесповоротному истолкованию. Ее обличья колеблются и сливаются; она — воплощение парадокса, загадки, двусмысленности. В этом отношении она символизирует дух карнавала, каким тот прошел через века:
По народному поверью, на полях, где в “русальную неделю” резвились русалки, лучше уродится рожь. Таким образом, русалка — символ не только неоднозначности, но также плодородия. Не исключено, что именно этим обусловлена ее связь с поэзией. Как было показано, неоднозначность (скрытый смысл) имеет для эстетики Хлебникова первостепенное значение. Таким образом, возможно установить косвенную связь между карнавалом и поэзией. Подобно тому, как карнавал стирает общепринятые границы, сводя разнородные и даже противоположные элементы в гротескные, двусмысленные сочетания, так же и поэт в своем творчестве увязывает воедино различные смысловые сферы и культурные параметры. Находя или создавая точки соприкосновения между областями, досель никак не связанными, поэт дарует читателю способность к “двойному видению”, учит одновременно воспринимать многообразие различных реальностей.
Таким образом, неоднозначность — связующее звено между тремя главными мотивами поэмы: мотивом карнавала, русалки и поэта. Подобно многим другим произведениям Хлебникова, «Поэт» — это поэма о поэзии, об условиях ее существования и формах ее выражения.
«Поэт» был впервые опубликован в 1928 году в первом томе «Собрания произведений» Хлебникова (тт. I–V, 1928–1933). Николай Степанов, под чьей редакцией выходило данное издание, отмечает в своих примечаниях, что текст поэмы — это „по-видимому, черновая, не окончательная редакция” (I, 314). В 1936 году Степанов включил поэму в «Избранные стихотворения». В примечаниях к сборнику он сообщает, что текст поэмы основывается на хлебниковской рукописи в «Гроссбухе» (большой книге, в которую Хлебников записывал многие из своих последних стихотворений):
В издании 1936 года пунктуация заметно отличается от той, с которой поэма была опубликована в 1928 году. В 1960 году Степанов опубликовал поэму в третий раз, в сборнике «Стихотворения и поэмы», на этот раз без всякого комментария.
Степанов нигде не говорит о существовании других вариантов поэмы; видимо, на момент публикации единственным сохранившимся автографом «Поэта» был текст в «Гроссбухе».
Несмотря на неоднократные запросы, мне не было позволено исследовать «Гроссбух» в ЦГАЛИ (в 1975 году), а в тех материалах, к которым я смогла получить доступ, поэма «Поэт» упомянута лишь вскользь. Таким образом, приведенный анализ основан на тексте, опубликованном в 1928 году [в этом издании текст сверен по изданию 1986 года].
В своих примечаниях Степанов говорит, что при подготовке поэм к публикации „наибольшую трудность представляли вопросы членения на фрагменты и пунктуация”; при этом преследовалась цель облегчить чтение: „Имея в виду широкого читателя, для которого чтение поэмы в 300–400 строк без графической разбивки ее на части очень утомительно, и исходя из принятых Хлебниковым композиционных членений смысловых разделов и из характера почерка, Редакция сочла возможным разбить графически поэмы на большие фрагменты, не нарушая композиционного смысла произведений” (I, 308). Однако, членение это (от которого Степанов и сам отчасти отказался в последующих изданиях) далеко не удовлетворительно. У других поэм, изданных подобным образом (напр., «Переворот в Владивостоке»), сравнение с рукописями (I, 20) показывает, что нередко разбивка текста Степановым просто совпадает с началом новой страницы. Что касается пунктуации, Хлебников действительно не заботился о таких мелочах. Например, в конце строки (который в любом случае означает паузу) он часто пренебрегал знаками препинания, особенно запятыми, хотя и пользовался ими в строке. Лучшее, что может сделать исследователь в подобных случаях, — это исходить при анализе из ритма и семантики, не уделяя преувеличенного внимания пунктуации.
Текст «Поэта», воспроизводимый ниже, основан на обоих вариантах, 1928 и 1936 года (там, где есть отличия в деталях, выбран тот вариант, который в данном контексте представляется наиболее подходящим, — напр., “багрец” вместо “багрянец” (1936) в строке 2, т.к. “багрянец” нарушает размер).
| Персональная страница Барбары Лённквист | ||
| карта сайта | 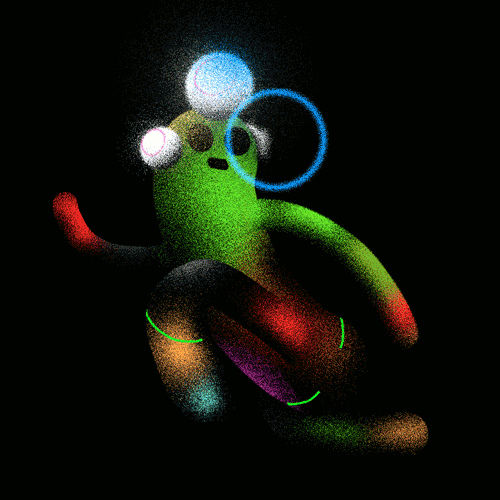 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||