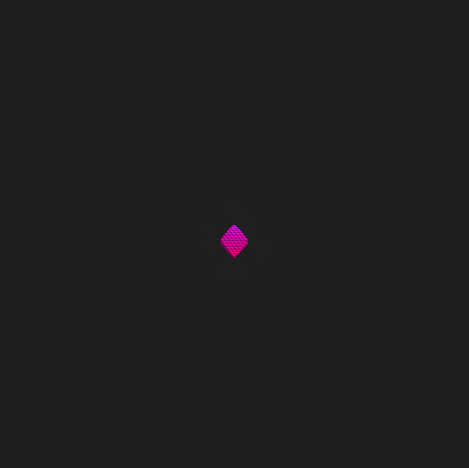Лена Силард
Метаматематика и заумь

нтерес Хлебникова к математике более, чем очевиден, и не раз отмечался исследователями.
1
На нынешней стадии велимироведения, думаю, пришла пора вглядеться, в чём же специфичность этого интереса и как он соотносится с математическими увлечениями других современных Хлебникову адептов слова: бесспорно ведь, что своими выходами в математику Хлебников не составлял исключения. Недаром П. Флоренский, уже в первые годы нашего века, свидетельствовал о рождении “математического идеализма”, подразумевая под этим новую встречу математики с метафизикой, благодаря которой сложилась „формальная возможность теоретических основ общечеловеческого религиозного созерцания (идея прерывности, теория функций, числа)”.
2
Непосредственный импульс к такому превращению математики в метафизически функционирующую науку был дан трудами Московской математической школы, прежде всего в работах учителя Флоренского и отца Андрея Белого — Николая Васильевича Бугаева (1837–1903), декана физико-математического факультета Московского университета, основателя и редактора Московских математических сборников, выходящих с 1866 г., президента созданного им же Московского математического общества. В трудах московской математической школы Н. Бугаева новейшие математические идеи эпохи выводились на уровень универсальной философской науки. В своей программной работе
Математика, и научно-философское миросозерцание Н. Бугаев, возвращая математике место “матери всех наук”,
3
подчеркнул, что
число и мера являются в современной науке самым могучим средством для оценки явлений природы (85),
а 4 взаимодополняюще связанные между собою ветви математики:
анализ (т.е. теория чисел — Л.С.), геометрия и теория вероятностей дают все элементы для выработки коренных основ научно-философского миросозерцания. Их истины и методы вполне прилагаются для объяснения явлений мира (87).
Однако Н. Бугаев не ограничивался сферою наук. Он утверждал, что
требование числа и меры является злобою дня не одной современной науки, но и современного искусства, и современных человеческих отношений.
Он настаивал на всеобъемлющем характере возможностей, достигаемых математическими методами:
найти меру в области мысли, воли и чувства — вот задача современного философа, политика и художника ‹...› Из области неопределенных, безмерных инстинктов человек при помощи числа и меры стремится возвысится до идеального состояния, которое давало бы ему полную власть над внешнею и внутреннею природою ‹...› (85).
В своей речи Московская философско-математическая школа и её основатели, произнесенной 16 марта 1904 г. на заседании в память Н. Бугаева (в присутствии вдовы профессора и сына), один из ближайших учеников и преемник его на посту президента Московского математического общества, зачинатель московской школы вероятностников П. Некрасов, — характеризуя место принципов, выдвинутых московской школой, в цепи опытов философско-математического объяснения мира, его „многообразного разделения и объединения вещей”,4 — чётко выявил специфику мысли тех, кого Андрей Белый шутливо называл „московскими чудаками”:
— чётко выявил специфику мысли тех, кого Андрей Белый шутливо называл „московскими чудаками”:
Союз этих лиц (П. Некрасовым поименно и в следующем порядке упомянуты: Н. Брашман, А. Давидов, Ф. Бредихин, Ф. Слудский, В. Цингер, М. Хандриков, Н. Бугаев, Н. Алексеев, А. Летников, кн. С. Урусов, К. Петерсон. Е. Сабинин, С. Юрьев, П. Чебышев — Л.С.) ‹...› задался целью содействовать поднятию в русской науке того познания мировых вещей и явлений, которое называется точным. Члены этого союза исследовали закономерность, существующую во вселенной, а именно: физику мира и мировую психофизиологию; они твёрдо верили в тот древний (древнееврейский и древнегреческий, Пифагоровский) основной принцип всякого точного знания, что Творец „всё расположил мерою, числом и весом” (Книга Премудрости Соломона, XI. 21) (6).
Подчёркнутые этим определением понятия ‘точность’, ‘физика мира и мировая психофизиология’, сопряженные с апелляцией к древнееврейской и древнегреческой традициям, выявляют действительно характерное качество учения и деятельности группы Н. Бугаева, которое состояло в умении сочетать новейшие открытия математики (а также физики и психологии) с древнейшими метафизическими концептами, в способности выявить в самых современных научных идеях обоснования для тех древнейших положений, которые дошли до нашего времени как эзотерические, не интегрированные так называемой строгой наукой. Упоминание имени Пифагора прямо указывает на то, что, полемизируя с попыткой эмпириков, в том числе и А. Бутлерова, мотивировать с помощью геометрии Лобачевского медиумическое четвертое измерение,5 П. Некрасов поместил бугаевскую школу в традицию неопифагорейства. В самом деле, в философских выступлениях Н. Бугаева на страницах журнала «Вопросы философии и психологии» и в дискуссиях религиозно-философского общества математика представала как универсальное воплощение законов мироздания и соответственно — принципов его сенсуального восприятия и умозрительного познания, весьма напоминающее концепт Пифагора; это была уже своего рода метаматематика, если позволительно использовать этот термин не в его ныне принятом смысле, а по аналогии с выражением П. Флоренского „метагеология”, которым он характеризовал пейзажи М. Волошина, акцентируя их метафизичность.
П. Некрасов поместил бугаевскую школу в традицию неопифагорейства. В самом деле, в философских выступлениях Н. Бугаева на страницах журнала «Вопросы философии и психологии» и в дискуссиях религиозно-философского общества математика представала как универсальное воплощение законов мироздания и соответственно — принципов его сенсуального восприятия и умозрительного познания, весьма напоминающее концепт Пифагора; это была уже своего рода метаматематика, если позволительно использовать этот термин не в его ныне принятом смысле, а по аналогии с выражением П. Флоренского „метагеология”, которым он характеризовал пейзажи М. Волошина, акцентируя их метафизичность.
Именно вследствие установки на генерализацию идеи взаимодополнительности (обосновываемой законом „математической антиномии”, где „два понятия, несводимые одно к другому”, „в равной мере ‹...› принимаемы во внимание”6 ) „универсального и индивидуального, абстрактного и конкретного, личного и общественного, интеллектуального и художественного” (92, 93), воздействие новой волны неопифагорейства не ограничилось кругами биологов, геологов, химиков, физиков, астрономов, а также психологов, социологов и философов. Метаматематика неопифагорейства решительно сказалась и на развитии русского искусства. Разумеется, я не намереваюсь свести существо проблемы к экспансии идей школы Бугаева, хотя она была весьма влиятельна и имела двух прямых посредников: Андрея Белого и П. Флоренского, который уже в 1904 г., сопоставив своего учителя с ныне всемирно известным Г. Кантором, назвал обоих провидцами „надвигающегося переворота сознания”.7
) „универсального и индивидуального, абстрактного и конкретного, личного и общественного, интеллектуального и художественного” (92, 93), воздействие новой волны неопифагорейства не ограничилось кругами биологов, геологов, химиков, физиков, астрономов, а также психологов, социологов и философов. Метаматематика неопифагорейства решительно сказалась и на развитии русского искусства. Разумеется, я не намереваюсь свести существо проблемы к экспансии идей школы Бугаева, хотя она была весьма влиятельна и имела двух прямых посредников: Андрея Белого и П. Флоренского, который уже в 1904 г., сопоставив своего учителя с ныне всемирно известным Г. Кантором, назвал обоих провидцами „надвигающегося переворота сознания”.7 Прежде всего поэтому метаматематические идеи бугаевской школы сказались и на развитии целой линии русской прозы, так или иначе соотносившейся с символизмом или переработкой его наследия (А. Белый, Ф. Сологуб, Е. Замятин). Произведения этих, в математике профессионально подготовленных авторов, прямо свидетельствуют о вторжении метаматематики в искусство слова.8
Прежде всего поэтому метаматематические идеи бугаевской школы сказались и на развитии целой линии русской прозы, так или иначе соотносившейся с символизмом или переработкой его наследия (А. Белый, Ф. Сологуб, Е. Замятин). Произведения этих, в математике профессионально подготовленных авторов, прямо свидетельствуют о вторжении метаматематики в искусство слова.8 Косвенные проявления этой тенденции можно обнаружить и в творчестве тех, кто не посвящал себя профессиональным математическим штудиям, как, например, у Брюсова, Л. Андреева, М. Булгакова, Олеши, Пастернака. В них сказывались явно более широко ощущаемые изменения начала XX в.: изменившееся — особенно после открытий Эйнштейна — представление о „всеобщем всемирном чертеже” (если воспользоваться выражением Ф. Сологуба) не могло не повлиять на беллетристическое оформление моделей мира. Недаром оно дало знать о себе во всех европейских литературах.9
Косвенные проявления этой тенденции можно обнаружить и в творчестве тех, кто не посвящал себя профессиональным математическим штудиям, как, например, у Брюсова, Л. Андреева, М. Булгакова, Олеши, Пастернака. В них сказывались явно более широко ощущаемые изменения начала XX в.: изменившееся — особенно после открытий Эйнштейна — представление о „всеобщем всемирном чертеже” (если воспользоваться выражением Ф. Сологуба) не могло не повлиять на беллетристическое оформление моделей мира. Недаром оно дало знать о себе во всех европейских литературах.9 Не это ли явление ощущал Сологуб, когда в середине 20-х гг. заметил, что
Не это ли явление ощущал Сологуб, когда в середине 20-х гг. заметил, что
подъём искусства кончился Гёте — XVIII век, XIX век — век музыки, XX — век математики.
10
Таким образом, поиск математических оснований для обновления работы словом — широкое явление начала XX в., и стимулы для него были многочисленны. И тем не менее, размышляя об источниках и параллелях к идее и функции числа у Хлебникова, традиционно связываемого с Казанской математической школой, прежде всего с А. Васильевым, нельзя не учитывать идей Н. Бугаева. Они не могли миновать Хлебникова уже хотя бы потому, что их популяризировал П. Флоренский, Хлебниковым удостоенный приглашения в Председатели земного шара. Некоторые основные положения Бугаева вполне просматриваемы, на мой взгляд, и в программных заявлениях, и в художественной практике Хлебникова. Конечно, говоря об использовании Хлебниковым математики, следует различать, не забывая в то же время о возможности диффузного взаимодействия, уровни простой тематизации (как, например, упоминания о пространстве Лобачевского, о нет-единице и т.п.), уровни поэтической риторики, в частности, ссылок на математику ради сравнения или метафоры, от опоры на математически формулированные закономерности при выявлении универсальных закономерностей мира и обусловленное этим использование математических операций при построении поэтического текста.
В зауми, по вполне понятным причинам, преобладает последнее, и именно в последнем Хлебников обнаруживает себя как сугубый пифагореец, недаром он, играя концепцией обратимости времени, объявил Пифагора своим последователем.
Пифагорейство Хлебникова должно стать предметом специального исследования, в котором следовало бы уточнить, по крайней мере, отношение его к монадологии Н. Бугаева и размышлениям П. Флоренского над пифагоровыми числами. В рамках настоящей работы ограничусь констатацией, что пифагорейство Хлебникова проявилось, прежде всего, в представлении о числе как об основном принципе всего существующего, другими словами: в понимании вселенной как числового устройства. Этим обуславливалось его внимание к арифметико-геометрической структуре явлений, в соотнесении их с акустикой и распространении этой физико-арифметическо-акустической концепции на всё сущее. И поскольку каждому числу, в традиции пифагорейства, придавался онтологический смысл, это порождало этику числа,11 эстетику числа и предполагало метафизику числа как основы любого вида коммуникации:
эстетику числа и предполагало метафизику числа как основы любого вида коммуникации:
‹...› осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков. В тоскующих и грозных, в них на каком-то языке виделось зерно воскрешения мертвых.
(Т 514)
Постижение метафизических оснований связи между числом, звуком и буквой было одной из весомых задач символистских исследований слова. Отзвуки мистических традиций в их истолковании очевидны у Андрея Белого, например, в его пересказе древнеегипетского понимания звука-буквы М,12 у Флоренского, который время от времени беспрепятственно оперировал образами и аргументацией эзотериков, прямо связывая этого рода осмысление слова с задачами магии слова, ср. напр.: „Слово кудесника есть эманация души его, самостоятельный центр сил, как бы живое существо, с телом, сотканным из воздуха, и внутренней структурой — формой звуковой волны. Это — элементаль, — по выражению оккультистов, — особого рода природный дух, иссылаемый из себя кудесником”; именно потому „звуковое целое, раз произведённое, устойчиво пребывает в мире, как некоторый индивидуум, как некоторый организм”; вместе с тем „имена ‹...› ‹суть› мнимые фокусы иных сущностей и зеркальные изображения иных сущностей”.13
у Флоренского, который время от времени беспрепятственно оперировал образами и аргументацией эзотериков, прямо связывая этого рода осмысление слова с задачами магии слова, ср. напр.: „Слово кудесника есть эманация души его, самостоятельный центр сил, как бы живое существо, с телом, сотканным из воздуха, и внутренней структурой — формой звуковой волны. Это — элементаль, — по выражению оккультистов, — особого рода природный дух, иссылаемый из себя кудесником”; именно потому „звуковое целое, раз произведённое, устойчиво пребывает в мире, как некоторый индивидуум, как некоторый организм”; вместе с тем „имена ‹...› ‹суть› мнимые фокусы иных сущностей и зеркальные изображения иных сущностей”.13
Приведенные фрагменты примечательны, на мой взгляд, тем, что в них именование слова индивидуумом, живым, хотя и специфическим, существом (элементаль!), беспрепятственно и даже в обоснование высказанного тезиса сочетается с пониманием его тела как „мнимого фокуса” и „зеркального изображения иных сущностей” с своеобразной „внутренней структурой — формой звуковой волны”. Это совмещение оккультно-мистической фразеологии с терминами современной математики и физики было весьма характерно для символистской волны неопифагорейства.
Принадлежа к следующему поколению неопифагорейцев, Хлебников несравненно более сдержан в отношении к мистике, хотя и у него можно обнаружить следы непосредственных мистических влияний, например, воздействие суфийской религии бахаев, которым он явно симпатизировал, не раз обращаясь к имени Баба и его сподвижников (Т 351, 547). Решительнее всего бахаизм сказывается в Зангези, где плоскость языка птиц предшествует плоскости языка богов (ср. суфийскую поэму Аттара Беседа птиц, воздействовавшую на Язык птиц Навои), но элементы бахаизма можно видеть и в хлебниковской концепции единения землян, и в намерении сотворить единый язык (не случайно создатель эсперанто был тоже косвенно причастен к бахаизму), и даже в предпочтении чисел 4 × 7 = 28 (ср. бахайское учение о 7 долинах-городах и 4 долинах), хотя последнее вполне укладывается в самые общие принципы пифагореизма, унаследованного той линией розенкрейцерства, с которой так или иначе были связаны столь занимавшие Хлебникова Вяч. Иванов, Н. Рерих, П. Успенский. Ей обязана, прежде всего, встреча метаматематики с заумью у Хлебникова.
Судя по многочисленным высказываниям, Хлебников понимал мир, в полном соответствии с этой традицией, как поле энергий, для характеристики которых больше всего подходят сравнения со световым лучом: луч, молния, волна — эти признанно опорные слова хлебниковской лексики являют собой варианты одной идеи, оформляющейся у Хлебникова не только как сравнение или метафора, но и как своего рода термины, указывающие на энергетически-волновую структуру мира, ср. его излюбленные обороты: человек-луч, государство-молния, слово-солнце; ср.:
Нужно помнить, что человек в конце концов молния, что существует большая молния человеческого рода — и молния земного шара
(Т 630);
мир понимается как луч
(Т 614),
мы — дети сил
(Т 589),
люд — лучи
(Т 608).
(Эти обороты по существу совпадают с утверждениями в
Котике Летаеве Андрея Белого, что душа — это луч,
14
но, избегая метафизических терминов, очевиднее переводят проблему в “естественно-научный” план, приближаясь к представлениям современных физиков о том, что материя есть замедленная световая энергия).
Среди формул Хлебникова особенно примечательны те, которыми намекается на физическую, элементарно-волновую природу наших этических представлений, а также на особую роль языка как сугубого посредника между якобы не поддающейся исчислению духовной сферой и вполне вычисляемой материальной сферой бытия:
Меня занимала длина волн добра и зла, я мечтал о двояковыпуклых чечевицах добра и зла, так как я знал, что темные греющие лучи совпадают с учением о зле, а холодные и светлые — с учением о добре ‹...›
(Т 536);
‹...› попытаемся с помощью языка измерить длину волн добра и зла. Мудростью языка давно уже вскрыта световая природа мира. Его “я” совпадает с жизнью света ‹...› Человек живет на “белом свете” с его предельной скоростью 300.000 километров и мечтает о “том свете” со скоростью большей скорости света.
(Т 625).
Последнее рассуждение наделяет слово ролью не столько даже медиатора между двумя традиционно разделяемыми сферами сущего, сколько выявителя их исходного единства.
Как известно, пифагорейство рассматривало космос как единый живой организм, полагая, что различие всех веществ и состояний в нём обуславливается различием в частоте колебаний, которая всегда выразима числом. Пифагоров канон указывал на универсальные закономерности, обуславливаемые этим различием, на порождаемые ими явления пропорций и периодичности. Веками подтвержденная бесспорность пифагорова закона музыкально-математических соотношений вдохновляла на выявление закона октавы (или ему подобного) в химии, физике, астрономии, биологии и т.п. Доски судьбы Хлебникова, во всех их вариантах, свидетельствуют, что поэт стремился обнаружить подобные законы периодичности в протянутых во времени индивидуальных и коллективных человеческих судьбах и говорил о них метафоризированными терминами Н. Бугаева:
Удивительно ли, что народы, даже не зная друг друга, связаны один с другим точными законами? Например, есть закон рождений подобных людей ‹...› Точные законы свободно пересекают государства и не замечают их, как рентгеновские лучи проходят через мышцы и дают отпечаток костей: они раздевают человечество от лохмотьев государства и дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчета ‹...› мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родились вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия. Вместе с тем происходит сдвиг в нашем отношении к времени ‹...› время необыкновенно сближается с природой чисел, т.е. с миром прерывных, разорванных величин. Мы начинаем понимать время как отвлеченную задачу деления при свете земной обстановки.
(Т 631)
Концовка приведенного пассажа из раздела Математическое понимание истории (Наша основа) удостоверяет, что неопифагорейство Хлебникова не удовлетворялось обнаружением закономерностей: оно поддерживало задачу активного воздействия на мир, сближая его с ветвью оперативного магизма внутри этого течения. Средневековый алхимик, полагая, что сменою числа колебаний можно достичь трансмутации, использовал для этого преимущественно физические средства; последователь Бекона и математик по образованию, современный Хлебникову оккультист П. Успенский уповал на „переведение материи из физического состояния в астральное и обратно ‹...› путём психического воздействия”.15 Не будучи ни тем, ни другим, но называя себя алхимиком слова, Хлебников апеллировал к тому, что можно назвать оперативной магичностью слова, преобразуя тем самым учение Андрея Белого и П. Флоренского о магии как заложенной в слове потенции в оперативную деловую задачу магизма. Это преобразование исследовательского (П. Флоренский) и осторожным опытом нащупываемого (Вяч. Иванов и Андрей Белый) подхода к магическим возможностям слова в практической императив ближайшего будущего точно отражало различие между двумя фазами неопифагорейства начала нашего века и вполне соответствовало активно волюнтаристическим тенденциям авангарда.
Не будучи ни тем, ни другим, но называя себя алхимиком слова, Хлебников апеллировал к тому, что можно назвать оперативной магичностью слова, преобразуя тем самым учение Андрея Белого и П. Флоренского о магии как заложенной в слове потенции в оперативную деловую задачу магизма. Это преобразование исследовательского (П. Флоренский) и осторожным опытом нащупываемого (Вяч. Иванов и Андрей Белый) подхода к магическим возможностям слова в практической императив ближайшего будущего точно отражало различие между двумя фазами неопифагорейства начала нашего века и вполне соответствовало активно волюнтаристическим тенденциям авангарда.
Слово — часть и орудие кардинально преобразующей мир деятельности:
Мы должны раздвоиться: быть и ученым, руководящим лучами, и племенем, населяющим волны луча, подвластного воле ученого
(Т 632);
Когда наука измерила волны света, изучила их при свете чисел, стало возможным управление ходом лучей ‹...› изучив огромные лучи человеческой судьбы, волны которой населены людьми, а один удар длится столетия, человеческая мысль надеется применить к ним зеркальные приемы уравнения, построить власть, состоящую из двояковыпуклых и ‹двояко›вогнутых стекол. Можно думать, что столетние колебания нашего великанского луча будут так же послушны ученому, как и бесконечно малые волны светового луча.
(Т 630);
тогда, видимо, будут актуальны и слова о вождях человечества, построенного нами, — говорится у Хлебникова, — по законам лучей при помощи уравнения рока (Т 611).
Очевидно, почему этими вождями должны быть властители слова: поскольку слова суть ‹...› слышимые числа нашего бытия (Т 579), воздействие на числа может быть достигнуто трансмутацией слова. Аргументируется эта возможность не свойственной магизму логикой партиципации (предположить которую было бы вполне естественно), а сопряжением принципа расширенного восприятия (популярного и в группе Матюшина) с законом резонанса. Первый формулируется так:
Есть некоторое много, неопределенно протяженное многообразие, непрерывно изменяющееся, которое по отношению к нашим пяти чувствам находится в том же положении, в каком двупротяженное непрерывное пространство находится по отношению к треугольнику, кругу, разрезу яйца, прямоугольнику. То есть, как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия ‹...›
точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, как из шара в трехпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов — например, слуховое и зрительное или обонятельное — переходят одно в другое. Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или плач ребенка, станет им. При этом, непрерывно изменяясь, он образует некоторое одно протяженное многообразие, все точки которого, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира.(Т 578)16
Второй возникает как аналогия для объяснения возможности неожиданного сходства мыслей:
Те же мысли ‹...› какие осенили нас умно и внезапно, приходили и нам в голову. Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им.
(Т 604)
Что концепция резонанса устойчива, подтверждается косвенным использованием её в разделе «Лечение глазами» Лебедии будущего.
Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей ‹...› и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струн.
(Т615)
Описанное выше преобразование цвета в звук, сочетаясь с концепцией резонанса, создает утопическую программу воздействия на не осознаваемые человеком сферы восприятия и тем самым на его численные параметры с помощью спектро-звукоряда. Не составляет труда увидеть в ней генетическую связь с терапевтикой Пифагора. Теория зауми представляет собой наиболее детально разработанный аспект этой программы. Если школа Вяч. Иванова, используя древнюю эзотерическую идею, учила осознавать ритм текста как направленную регуляцию дыхания читателя, воздействующую через это на его душу и дух (ср. игру связью слов: дух-душа-дышать-дыхание в подглавке «Духи» повести Андрея Белого Котик Летаев),17 то теория Хлебникова переносила акцент на (значимое и для символистов-ритмологов, но не столь подчёркнутое их манифестами) само вибраторное качество звуков и соответствующих им буквенных начертаний. С этим связан известный интерес Хлебникова к фонологическим опытам Щербы, этим порождён его шутливый образ писателя-верблюда, который обречен носить на горбах равенство основного душевного звука в душе писателя и душ‹е› чит‹ателя› ‹...› переносить груз чисел колебания из одной души в другую (Т 143). Если Андрей Белый, заботясь о графическом расположении текста, позволял своему нарратору лишь намекать на руководившую им оккультную истину, что созерцание знаков внушает соответствующие чувства,18
то теория Хлебникова переносила акцент на (значимое и для символистов-ритмологов, но не столь подчёркнутое их манифестами) само вибраторное качество звуков и соответствующих им буквенных начертаний. С этим связан известный интерес Хлебникова к фонологическим опытам Щербы, этим порождён его шутливый образ писателя-верблюда, который обречен носить на горбах равенство основного душевного звука в душе писателя и душ‹е› чит‹ателя› ‹...› переносить груз чисел колебания из одной души в другую (Т 143). Если Андрей Белый, заботясь о графическом расположении текста, позволял своему нарратору лишь намекать на руководившую им оккультную истину, что созерцание знаков внушает соответствующие чувства,18 то Хлебников, стремительно обнажая первооснову идеи и переводя её на язык прагматизма современности, провозглашает:
то Хлебников, стремительно обнажая первооснову идеи и переводя её на язык прагматизма современности, провозглашает:
Почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний.
(Т 143)
Таким образом, придя к выводу, что сознание есть счёт, Хлебников закономерно атомизировал слово до его первоэлемента — звука и соответствующего ему визуального знака, прозревая за обеими манифестациями их численно определимую первопричину. Прикоснувшись к первопричине, художник числа приходит на смену художнику слова.19 Эта формулировка с предельной отчётливостью выявляет тот факт, что заумь представляет собой опыт трансинформативного воздействия звукоряда или букворяда, первопричина которого — музыкально-математические соотношения: Бог звукоряда — число (Т 629). Расщепление слова доводится здесь до такого предела, что операционной основой зауми продуктивнее, на мой взгляд, считать не столько словотворчество, “интуитивную лингвистику”, сколько математику неопифагорейства.
Эта формулировка с предельной отчётливостью выявляет тот факт, что заумь представляет собой опыт трансинформативного воздействия звукоряда или букворяда, первопричина которого — музыкально-математические соотношения: Бог звукоряда — число (Т 629). Расщепление слова доводится здесь до такого предела, что операционной основой зауми продуктивнее, на мой взгляд, считать не столько словотворчество, “интуитивную лингвистику”, сколько математику неопифагорейства.
Правда, разделы о заумном языке и гамме будетлянина Нашей основы позволяют предположить, что Хлебников различал два вида, точнее — две ступени зауми. Одну из них он назвал сочетанием звуков в вольном порядке, сославшись на пример бобэоби и дыр бул щ‹ы›л и описав закономерности процесса семантизации звуков, главным образом на базе пространственных представлений, ср.: Пространство звучит через Азбуку (Т 627–628, 477). В другой он усмотрел проявление гаммы будетлянина, которая, соотнося на основе числовой эквивалентности шаг пехотинца ‹...› удар сердца ‹...› одно колебание струны А и колебание самого низкого звука азбуки — У, ‹...› особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца (Т 629). Напомнив о китайской, индусской, эллинской гаммах и чуть ли не дословно воспроизведя слова Н. Бугаева о том, что „музыкальное чередование звуков имеет вполне аритмологический характер”,20 Хлебников нарисовал перспективу сотворения Гаммы Будетлянина в качестве фундаментальной задачи ближайшего будущего. Создание упорядоченных звукорядов зауми второго типа можно рассматривать как поиск этой гаммы; здесь семантизация звуков и словотворчество носит подчёркнуто вторичный характер, на первый план выдвигаются — как основа основ — простейшие операции комбинаторики и зеркально-симметрических преобразований. (Характерно, что современные эксперименты по исследованию деятельности мозга и созданию искусственного интеллекта начинают с тех же самых операций).21
Хлебников нарисовал перспективу сотворения Гаммы Будетлянина в качестве фундаментальной задачи ближайшего будущего. Создание упорядоченных звукорядов зауми второго типа можно рассматривать как поиск этой гаммы; здесь семантизация звуков и словотворчество носит подчёркнуто вторичный характер, на первый план выдвигаются — как основа основ — простейшие операции комбинаторики и зеркально-симметрических преобразований. (Характерно, что современные эксперименты по исследованию деятельности мозга и созданию искусственного интеллекта начинают с тех же самых операций).21
Доказательством могут служить IX и XII плоскости Зангези. Указание на то, что эта сверхповесть складывается из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и особым уставом (Т 473), позволяет рассматривать отрывки как независимые единства, при том, что авторское именование целого колодой плоскостей слова, числом в 22 (21 плоскость и введение) прямо отсылает к гадальным картам, т.е. к народной футурологии и ассоциациям с символикой Таро. Мир 22-х плоскостей Зангези — это совокупность фатализма, случайностей и вероятностей, мир законов большой игры, не детерминируемый нашей волей, но предсказуемый проницательным ведовством, а каждый фрагмент его — одна из плоскостей волеизъявления слова.
Благовест в ум, программно объявленный зачином фрагмента, озвучивает все оттенки мозга путём простейшей комбинации константы М с наиболее употребительными звуками русской речи, в сочетаниях по 3, 4 и 5×5 (форма ‹Г›лаум проблематична).  Причём, если в следующей, X плоскости, М становится зачинателем слов, ведёт за собою слова, ворвавшись во владения Бэ (Т 484) и насыщая их своей семантикой, — здесь, в IX плоскости чистых звуков (Т 483), М константно завершает звукоряды, являясь их конечно-целевым пунктом и как бы приготовляясь к зеркально-опрокинутым структурам плоскости готовых слов. Поясняющие строки в концовке плоскости не снимают эффекта игровой случайности семантизации звукорядов благовеста; вместе с тем сквозь эффект случайности, прежде всего благодаря системе повторов, пробивается комбинаторное сцепление смыслового ряда: ум — а‹о›ум — за‹о›ум. Мистические традиции Востока и Запада утверждают, что повтор священного слова ‘аум’ (оум — hомм — омм), приобщающего к мировому началу, вызывает вибрацию мозгового центра, железы, соответствующей “внутреннему глазу”, и активизируют её. Обсуждения этой темы в начале века были не редки. Косвенно они отразились в цитировавшейся здесь речи П. Некрасова22
Причём, если в следующей, X плоскости, М становится зачинателем слов, ведёт за собою слова, ворвавшись во владения Бэ (Т 484) и насыщая их своей семантикой, — здесь, в IX плоскости чистых звуков (Т 483), М константно завершает звукоряды, являясь их конечно-целевым пунктом и как бы приготовляясь к зеркально-опрокинутым структурам плоскости готовых слов. Поясняющие строки в концовке плоскости не снимают эффекта игровой случайности семантизации звукорядов благовеста; вместе с тем сквозь эффект случайности, прежде всего благодаря системе повторов, пробивается комбинаторное сцепление смыслового ряда: ум — а‹о›ум — за‹о›ум. Мистические традиции Востока и Запада утверждают, что повтор священного слова ‘аум’ (оум — hомм — омм), приобщающего к мировому началу, вызывает вибрацию мозгового центра, железы, соответствующей “внутреннему глазу”, и активизируют её. Обсуждения этой темы в начале века были не редки. Косвенно они отразились в цитировавшейся здесь речи П. Некрасова22 и не миновали внимания Хлебникова: он спародировал их в Чертике, петербургской шутке на рождение «Аполлона», преобразовав ‘мяу’ в ‘м-му’ (Т 394), и воспроизвел прямой речью Кришнамурти в Есире (Т 549). По законам игры возникшая, трехчленная цепь: ум — аум — заум — благовеста плоскости, названной плоскостью мысли, выявляла связь между семантически обособленными элементами звукоряда, апеллируя к родству звукового воплощения аспектов рационального, иррационального и заумного.
и не миновали внимания Хлебникова: он спародировал их в Чертике, петербургской шутке на рождение «Аполлона», преобразовав ‘мяу’ в ‘м-му’ (Т 394), и воспроизвел прямой речью Кришнамурти в Есире (Т 549). По законам игры возникшая, трехчленная цепь: ум — аум — заум — благовеста плоскости, названной плоскостью мысли, выявляла связь между семантически обособленными элементами звукоряда, апеллируя к родству звукового воплощения аспектов рационального, иррационального и заумного.
XII плоскость, напротив, оформилась как чертёж-зарисовка картины предельной индивидуализации элементов Азбуки, завершая начатый VI плоскостью образ поединка четырёх опорных букво-звуков: Р, Г, К и Л — в удвоенной бинарной оппозиции. На роль бинарных оппозиций у Хлебникова уже обращалось внимание;23 следует лишь подчеркнуть, что апелляция к пространству нет-единицы, т.е. области отрицательных чисел, зеркально удваивая пары, превращает двойки в четвёрки. Что 4 представляет собой фундаментальное число в традиции пифагорейства, — уже говорилось. Можно лишь добавить, что наследие его очевидно в алхимической концепции четырёх основных элементов и четырёх основных состояний вещества, аналогия которым просвечивает в мысли Хлебникова о состояниях языка (в том числе и жидком), о возникновении согласных звуков из ориентации человека в пространстве четырёх стран света (пространство звучит через Азбуку: Т 477, ср. 481) и даже в образе четырёх Ка у костра Эхнатэна (Т 533). Детально охарактеризовав положение четырёх единоборствующих букво-звуков в пространстве, Хлебников позволил увидеть его разделённым на четыре области, где Г, наклоняясь в зеркало нет-единицы, видит в нём Л, а Р — соответственно — К. Примечательно, что столь строго соотнесенные между собою пары букв (звуковая взаимоотносительность четвёрки очевидна) в определённом написании топологически эквивалентны (см. прилагаемый чертёж). Сама сдвоенная область отрицательных чисел (нет-единицы), названная зеркалом и напоминающая о лелеемом Хлебниковым принципе зеркальных приемов управления, аналогична зазеркальному пространству Числобога, в которое можно заглянуть, склонившись над озером (Т 540),24
следует лишь подчеркнуть, что апелляция к пространству нет-единицы, т.е. области отрицательных чисел, зеркально удваивая пары, превращает двойки в четвёрки. Что 4 представляет собой фундаментальное число в традиции пифагорейства, — уже говорилось. Можно лишь добавить, что наследие его очевидно в алхимической концепции четырёх основных элементов и четырёх основных состояний вещества, аналогия которым просвечивает в мысли Хлебникова о состояниях языка (в том числе и жидком), о возникновении согласных звуков из ориентации человека в пространстве четырёх стран света (пространство звучит через Азбуку: Т 477, ср. 481) и даже в образе четырёх Ка у костра Эхнатэна (Т 533). Детально охарактеризовав положение четырёх единоборствующих букво-звуков в пространстве, Хлебников позволил увидеть его разделённым на четыре области, где Г, наклоняясь в зеркало нет-единицы, видит в нём Л, а Р — соответственно — К. Примечательно, что столь строго соотнесенные между собою пары букв (звуковая взаимоотносительность четвёрки очевидна) в определённом написании топологически эквивалентны (см. прилагаемый чертёж). Сама сдвоенная область отрицательных чисел (нет-единицы), названная зеркалом и напоминающая о лелеемом Хлебниковым принципе зеркальных приемов управления, аналогична зазеркальному пространству Числобога, в которое можно заглянуть, склонившись над озером (Т 540),24 а слитность отражаемого и отражённого воспроизводит макроструктуру старинного символа единства микрокосмоса с макрокосмосом, воссозданную и Андреем Белым в 1920 г. Наконец, сама совокупность избранных согласных составляет анаграмму излюбленного Хлебниковым слова алгебра (ср.: Звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и с часами, Т 481), но — закономерно — без гласных и с изгнанным Б, что тем более закономерно, это было подготовлено тематизацией (Боги улетели) и операцией вытеснения Б мощью М в X плоскости. Так манифестировалась — путём квазиалгебраических операций последовательного перехода от Б к М и, наконец, Л — спровоцированная Н. Бугаевым мысль о мощи знания, авангардистски трансформированная в тезис, что собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в человечество (Т 631), другим словом: люд.
а слитность отражаемого и отражённого воспроизводит макроструктуру старинного символа единства микрокосмоса с макрокосмосом, воссозданную и Андреем Белым в 1920 г. Наконец, сама совокупность избранных согласных составляет анаграмму излюбленного Хлебниковым слова алгебра (ср.: Звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и с часами, Т 481), но — закономерно — без гласных и с изгнанным Б, что тем более закономерно, это было подготовлено тематизацией (Боги улетели) и операцией вытеснения Б мощью М в X плоскости. Так манифестировалась — путём квазиалгебраических операций последовательного перехода от Б к М и, наконец, Л — спровоцированная Н. Бугаевым мысль о мощи знания, авангардистски трансформированная в тезис, что собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в человечество (Т 631), другим словом: люд.
————————
Примечания  1 В. Lönnquist.
1 В. Lönnquist. Xlebnikov and carnival.
Stockholm 1979;
A. Андриевский. Мои ночные беседы с Хлебниковым.
Дружба народов, 1985. № 12;
В. Григорьев. Грамматика идиостиля,
М. 1983;
R. Vroon. Metabiosis, mirror images and negative integers: Velimir Chlebnikov and his doubles, Preprint 1986;
Вяч.Bс. Иванов. Хлебников — учёный.
Пути в незнаемое, М. 1986.
 2 Свящ. Павел Флоренский.
2 Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений, т. 1.
YMCA-Press, Paris, 1985, с. 22.
 3
3 Цит. по перепубликации:
Философская и социологическая мысль. Киев, 1989, № 5, с. 85.
 4 Математический сборник 25. М.
4 Математический сборник 25. М., 1904, с. 3.
 5
5 Ср.: „Спутанность понятий, относящихся к восприятию пространства, перешла даже к таким серьёзным ученым, как астрофизик Цольнер, физик Крукс, химик Бутлеров и другие, развивающие идею эмпирического решения вопроса о неэвклидовой геометрии и искавшие объяснения медиумических явлений в таинственном четвёртом измерении. Эти мистическо-эмпирические взгляды на пространство изложены в статье Бутлерова:
Четвертое измерение пространства и медиумизм ‹...› Элементарное конкретное истолкование геометрии Лобачевского вместе с изложением соответствующих взглядов В.Я. Цингера представлено в моей книге
Приложение алгебры к геометрии ‹...›”.
Математический сборник 25. М., 1904, с. 13.
 6
6 Стоит сравнить с этой формулой учение П. Флоренского об антиномии.
 7 П. Флоренский.
7 П. Флоренский. Об одной предпосылке мировозрения, в:
Весы, 1904, № 9, с. 34–35. В обширной библиографии работ о Канторе этот и другие отклики П. Флоренского не учтены, ср.:
J.W. Dauben. Georg Cantor. His Mathematics and Philosophy of Infinite.
Harvard University Press, 1979.
 8
8 Подробнее об этом:
Л. Силард. Андрей Белый и П. Флоренский. Мнимая геометрия как встреча новых концепций пространства с искусством.
Studia Slavica Hungarica 33, 1987; а также: Жанровые проблемы символистской прозы (роман и математика).
Hungaro-Slavica, 1988.
 9
9 Ср.:
К.N. Hayles. The Cosmic Web.
Scientific Field Models and Literary Strategies in the Twentieth Century, Cornell Univ. Press, 1984.
 10
10 Цитирую по:
Ф. Сологуб. Стихотворения.
Л. 1975, с. 631.
 11
11 Ср.:
Трата и труд, и трение, /
Теките из озера три! ‹...›
А дело, добро — из озера два.
В. Хлебников. Творения (В дальнейшем — Т).
М. 1986, с. 179.
 12 Андрей Белый.
12 Андрей Белый. Символизм.
М., 1910, с. 488.
 13 П. Флоренский.
13 П. Флоренский. Общечеловеческие корни идеализма.
Богословский вестник, 1909, № 3, с. 411; Магичность слова.
Studia Slavica Hungarica 34, 1988, с. 30, 35.
 14
14 Ср.: „я — сгустился из блеска; меня выстрелил ангел: я — луч, раздвоенный в излучину ‹...›”.
Андрей Белый. Котик Летаев.
München, 1964, с. 275–276.
 15 П. Успенский.
15 П. Успенский. Четвертое измерение.
Петроград, 1918, с. 83.
 16
16 Бесспорно, что в основе таким образом описанного феномена расширенного восприятия лежит представление о диалектике прерывности/непрерывности, реализующейся также в деятельности числа как основы динамической пространственной композиции. Ср. соответствующее топологическое рассуждение Андрея Белого: „‹...› принцип развертывания тройки — спираль, на этой спирали я теоретически могу построить всевозможные треугольники; все типы треугольников, в движущемся треугольнике: геометрия ставших форм есть абстракция динамической геометрии, время, пространственность, четырёхмерно: ‘3’ всегда дано в четверке”; цит. по публикации в:
Э. Чистякова. Символ как число в теории символизма.
Философская и социологическая мысль, 1989, №6, с. 96. К диалектике прерывного/непрерывного у Н. Бугаева см.:
Л. Силард. Андрей Белый и П. Флоренский.
Studia Slavica Hungarica 33, 1987, с. 227.
 17 Андрей Белый.
17 Андрей Белый. Котик Летаев, с. 266. К идее резонансного управления см. также следующее размышление Хлебникова: ‹...›
высшие виды труда не подчиняются приказу, и вместо них приказ получает подделку из низшей области труда. Сейчас наблюдается детская игра в приказы. Здесь есть другой путь. Как одна струна своим звучанием вызывает звучание другой, одинакового с ней числа колебаний, одинаково настроенной, так и высокие трудовые волны одного человека самим своим звучанием могут без приказа вызывать одинаковые по высоте трудовые волны соседей ‹...›
Приказ есть наследие дикарского военного быта. Струны увел‹ичивают›
силу труда. Цит. по:
В. Григорьев. Грамматика идиостиля, с. 195.
 18 Андрей Белый.
18 Андрей Белый. Записки чудака, т. 1.
Москва-Берлин, 1922, с 153.
 19
19 Цит. по:
В. Григорьев. Грамматика идиостиля, с. 88.
 20 Философская и социологическая мысль
20 Философская и социологическая мысль, 1989, № 5, с. 90.
 21 D. Hofstadter.
21 D. Hofstadter. Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid.
New York, 1979. Андрей Белый использовал основные принципы комбинаторики уже в
Симфониях, осознавая их следующим образом: „‹...› каждое число есть вселенная, внутри которой свои ритмы, если я имею ‘а’ и ‘в’, то синтез ‘а’ и ‘в’ не есть ‘а + в’, но ‘а + в + ав + ва’ в целом знаке, в некоем ‘в’; в группе ‘а, в, с’ я имею не три элемента, а ‘а + в + с + ав + ва + са + св + авс + сва +...’, где ‘а’, ‘в’ ‘c’ всегда даны в композиции: ‘ав’ первее ‘а’ и ‘в’ ‘авс’ первее ‘ав’, ‘ас’, ‘вс’, ‘ва’ и т.д. Например, число три: аналитически есть лишь 1+1+1, фактически оно дано в четвёртом; четвёртое, как принцип построения всех треугольников в движении, будет образом, мифом, предопределяющим отношение друг к другу трех пунктов. Если дано ‘3’, то дан и образ тройки или ‘Δ’, но раз дан образ дан образ этот, то он дан в других образах: в динамике разрастания в точке пересечения перпендикуляров опущенных из центра: треугольник дан с точкой, или потенциальным ‘четвёртым’, который есть логический приус трех”. Цит. по
Философская и социологическая мысль, 1989, № 6, с. 95–96.
 22
22 «Математический сборник 25».
М., 1904, с. 13.
 23 Вяч.Вс. Иванов.
23 Вяч.Вс. Иванов. Структура стихотворения Хлебникова. «Меня проносят на слоновых...».
Труды по знаковый системам, III. Тарту, 1967.
 24
24 Ср. с зеркалом-озером у Андрея Белого:
Л. Силард. Между Богом и грамматикой, в кн. Andrej Belyj: pro et contra.
Atli del simposio internazionale, Bergamo 14–16 settembre 1984, Milano, 1986; к семиотике зеркальности:
Труды по знаковым системам XXII, Тарту, 1988.
Воспроизведено с авторской правкой по:
Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре.
Под редакцией Луиджи Магаротто, Марцио Марцадури, Даниелы Рицци.
С. 333–352.
Peter Lang: Bern · Berlin · Frankfurt/М. · New York · Paris · Wien. 1991
Благодарим Барбару Лённквист
(Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku)
за содействие web-изданию
————————

Лена Силард (Lena Szilárd),
урожд. Айзатулина Елена Афиятовна (1933 г., Москва).
В 1955 окончила филологический факультет МГУ, затем аспирантуру (1955–1958). Кандидат филологических наук (1977, Венгрия), доктор филологических наук (1991, Венгрия). В конце 1950-х – начале 1960-х преподавала в МГУ, Институте иностранных языков и Институте Дружбы народов. В 1962 переехала в Венгрию, преподавала в Будапештском университете ELTE (с 1993 — профессор). В настоящее время живет и работает в Италии, профессор университета Сассари на острове Сардиния (с 1997), директор Института иностранных языков и литературы университета Сассари (2002–2003).
Главные области научной работы: русская литература, история русской и европейских культур. Автор многочисленных литературоведческих работ, исследований творчества Ф. Достоевского, А. Чехова, А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова, А. Ахматовой, В. Хлебникова, М. Булгакова и др.
Библиография:
• Л. Андреев и проблемы русской философской повести.
Будапешт, 1975.
• Андрей Белый и поэтика русского символистского романа.
Будапешт, 1990.
• Герметизм и герменевтика.
СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002.


 нтерес Хлебникова к математике более, чем очевиден, и не раз отмечался исследователями.1
нтерес Хлебникова к математике более, чем очевиден, и не раз отмечался исследователями.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 Причём, если в следующей, X плоскости, М становится зачинателем слов, ведёт за собою слова, ворвавшись во владения Бэ (Т 484) и насыщая их своей семантикой, — здесь, в IX плоскости чистых звуков (Т 483), М константно завершает звукоряды, являясь их конечно-целевым пунктом и как бы приготовляясь к зеркально-опрокинутым структурам плоскости готовых слов. Поясняющие строки в концовке плоскости не снимают эффекта игровой случайности семантизации звукорядов благовеста; вместе с тем сквозь эффект случайности, прежде всего благодаря системе повторов, пробивается комбинаторное сцепление смыслового ряда: ум — а‹о›ум — за‹о›ум. Мистические традиции Востока и Запада утверждают, что повтор священного слова ‘аум’ (оум — hомм — омм), приобщающего к мировому началу, вызывает вибрацию мозгового центра, железы, соответствующей “внутреннему глазу”, и активизируют её. Обсуждения этой темы в начале века были не редки. Косвенно они отразились в цитировавшейся здесь речи П. Некрасова22
Причём, если в следующей, X плоскости, М становится зачинателем слов, ведёт за собою слова, ворвавшись во владения Бэ (Т 484) и насыщая их своей семантикой, — здесь, в IX плоскости чистых звуков (Т 483), М константно завершает звукоряды, являясь их конечно-целевым пунктом и как бы приготовляясь к зеркально-опрокинутым структурам плоскости готовых слов. Поясняющие строки в концовке плоскости не снимают эффекта игровой случайности семантизации звукорядов благовеста; вместе с тем сквозь эффект случайности, прежде всего благодаря системе повторов, пробивается комбинаторное сцепление смыслового ряда: ум — а‹о›ум — за‹о›ум. Мистические традиции Востока и Запада утверждают, что повтор священного слова ‘аум’ (оум — hомм — омм), приобщающего к мировому началу, вызывает вибрацию мозгового центра, железы, соответствующей “внутреннему глазу”, и активизируют её. Обсуждения этой темы в начале века были не редки. Косвенно они отразились в цитировавшейся здесь речи П. Некрасова22![]()
![]()
![]()
 Лена Силард (Lena Szilárd),
Лена Силард (Lena Szilárd),