

Я родился 11 февраля 1899 года в Петербурге. До 16-ти лет учился в реальном училище и жил на средства матери, затем подрабатывал домашним учителем и репетитором. В 1915 году поступил на физико-математическое отделение естественного факультета Петроградского университета и параллельно числился вольнослушателем на философском отделении историко-филологического факультета того же университета.
В конце ноября 1918 года прервал учёбу и в первых числах декабря вступил в боевой отряд Красной гвардии Основянского ревкома Харьковского уезда. Дальнейшее моё пребывание на военной службе проходило в рядах регулярных формирований Красной Армии на протяжении всей Гражданской войны и завершилось в конце октября 1924 года.
Вместе с военной службой мой непрерывный трудовой стаж составляет шестьдесят два года.
В рядах КПСС, не считая двух лет кандидатского стажа, состою более шестидесяти лет и в официальных документах отнесён к ветеранам партии.
Имею одиннадцать правительственных наград, в том числе: орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта» и медаль «За боевые заслуги».
В 1942–1943 годах постановлением комиссии Академии наук СССР в составе Л.Д. Ландау и Ю.В. Линника и под председательством С.И. Вавилова, я и мой соавтор С.П. Иванов получили пять авторских свидетельств на признанные крупными изобретения в области микроструктурной линзово-растровой оптики.
В результате реализации мною и С.П. Ивановым этих изобретений возникла новая область киноискусства в нашей стране — советское стереоскопическое кино. В приказе министра кинематографии СССР И.Г. Большакова в 1944 году было отмечено, что я являюсь автором математической теории стереосъёмки. В дальнейшем по моим стереосценариям и под моей режиссурой было снято восемь полнометражных стереоскопических фильмов.
В 1931 году в издательстве ГИХЛ вышла моя книга «Построение тонфильма», которую некоторые педагоги в ГИКе в течение многих лет использовали как основное учебное пособие для курса «Основы сценарной и режиссерской работы в области звукового кино».
Для чутких людей, благожелательно воспринимающих творчество Хлебникова, он стоит в одном ряду с Александром Блоком, Маяковским, Мариной Цветаевой, Мандельштамом и Борисом Пастернаком.
Для меня очевиден ещё один ряд: Пифагор, Кеплер,1![]()
Среди ныне живущих я единственный, кому Велимир2![]()
Ближайшие соратники Хлебникова — Маяковский, Василий Каменский, Кручёных, Асеев — иногда из солидарности с ним подписывали его манифесты и декларации, содержавшие заявки на открытия тех или иных закономерностей строения пространства и времени. Не имея сколько-нибудь серьёзной подготовки в области физики и математики, они слепо доверялись прозрениям и интуиции Велимира.
Я тоже не считаю себя квалифицированным знатоком наук о природе, но всё же три с половиной года учился на физико-математическом отделении естественного факультета, и поэтому способен хотя бы правильно читать и воспринимать специальную литературу.
Хлебников уже на третий день нашего знакомства понял, что может говорить со мной на одном языке. Отсюда возникли знаменательные последствия.
После этого предварения перехожу к изложению событий по порядку.
Осень 1919 года была самым тяжёлым временем Гражданской войны. Москва оказалась в кольце с угрожающей вмятиной почти до Калуги. Казалось, советская власть доживает последние дни. Но, несмотря ни на что, никто из нас, молодых бойцов, не падал духом. Мы жили верой в торжество революции и ... стихами. Да, стихами. Никогда молодёжь не читала, и едва ли будет читать друг другу столько стихов, как в ту суровую осень.
Стихи звучали повсюду: в окопах, в теплушках воинских эшелонов, в штабных помещениях, в избах, куда нас разводили квартирьеры, в городских комнатах, где мы получали пристанище по временным ордерам. Вечерами вчерашние гимназисты и студенты, в дырявых солдатских шинелях и грязных ватниках, сходились на огонёк коптилки читать по памяти Блока, Бальмонта, Анну Ахматову, Гумилёва, Сашу Чёрного и — пусть юноши и девушки наших дней не удивляются — Северянина, причём в больших дозах. Приукрашивать и подправлять историю не годится: в отношении стихов едва ли не поголовно мы в ту пору были всеядными. Но доминировал всё-таки Маяковский. Широта его поэтического дыхания ошеломляла. Для нас его строчки были не просто стихи, а наши собственные слова, которые мы ещё не успели сказать, наши предчувствия, наши стремления. Маяковский и революция сливались в одно неразрывное целое.
Таким встаёт в моей памяти легендарный 1919-й, год наивысшего напряжения Гражданской войны и единения революционной молодёжи с поэзией. Советую читателю не упускать этого из виду, иначе многое в моём повествовании покажется невероятным.
Люди, которые жили стихами, не могли быть пессимистами. Мы верили — впрочем, это не то слово — мы были уверены, что положение на фронте изменится. Вскоре так и произошло. В ноябре девятнадцатого года в ходе Гражданской войны наступил предощущавшийся нами перелом, а уже в начале декабря Красная Армия вступила в Харьков. В те дни я работал инструктором Политотдела 14-й армии. Вслед за передовыми частями в Харьков переместился и Поарм-14, как сокращали в духе того времени.
Я вернулся в город, с которым меня, коренного петербуржца, многое связывало. Всего несколько месяцев назад, стиснув кулаки и зубы, я уходил из него ночью, вместе с воинскими частями, отступавшими под натиском деникинцев.
Возбужденный и радостный шёл я по Сумской улице, и там повстречал знакомого, который сообщил заурядную по тем временам новость, возымевшую громадные для меня последствия.
Теперь, через много лет, я и забыл, кто был этот человек, но слова его помню прекрасно.
Мне было сказано, что, если я ещё не устроился с жильём, есть роскошные апартаменты, где обитают некие интересные люди, в том числе одна очень милая девушка, которую я хорошо знаю. И она за меня похлопочет. Кто эта девушка, он, хитро прищурясь, умолчал.
Из дальнейшего я узнал, что за неделю до моего приезда в Харьков двое молодых художников (о них я слышал впервые) вместе с какими-то их приятелями получили разрешение занять огромную квартиру в барском особняке, брошенном владельцами при бегстве из города вместе с деникинцами. Вселившись туда, молодые люди образовали коммуну, в которой, по словам рассказчика, всё делят поровну (как выяснилось в тот же день — продовольственные пайки, ничего другого у коммунаров не было).
Это известие пришлось как нельзя более кстати. Я действительно ещё не устроился с жильём и спал на нарах в теплушке воинского эшелона, которым прибыл в Харьков.
Поблагодарив, я сразу направился по адресу, который запомнил на всю жизнь: Чернышевская улица, дом 16, квартира 2.
Мой знакомый ничего не преувеличил. Особняк и впрямь был одним из лучших в Харькове, а квартирой №2 оказался весь его второй этаж.
Впрочем, условия проживания гораздо менее любопытны, чем облик обосновавшейся в буржуйских хоромах коммуны. Ядром её были двое упомянутых выше художников, очень талантливых и очень левых. Старший (или казавшийся старшим) из них, Алексей Почтенный, был добродушный верзила — ростом эдак с Маяковского. Медлительный в движениях и речи, он был преисполнен внутреннего веселья и любил всё смешное. Стены комнат коммуны он разукрасил плакатами с озорными надписями. Одна из них гласила: „Не бей кота по пузу мокрым полотенцем!” Выше этой надписи был изображён попавший в беду кот, который дико орал, вися вниз головой. Чья-то рука, просунувшаяся сверху, держала его на весу за задние лапы, а в правом верхнем углу плаката был виден летящий вниз край полотенца. Оно действительно казалось мокрым.
Приятель Почтенного, художник Иосиф Владимиров, выглядел несколько моложе Алексея (вероятно потому, что не был столь массивным и рослым). Он писал запоминающиеся, выразительные портреты, в которых, по моде того времени, все контуры были удвоены и смещены один относительно другого по горизонтали и вертикали. Иосиф Владимиров был довольно широко образован и имел основательные познания в истории живописи. Он был подвижнее и темпераментнее, чем Алёша Почтенный.3![]()
Третьим членом коммуны была студентка медицинского факультета Лиля Моисеевна Фильшинская. К тому времени она уже перешла не то на предпоследний, не то на последний курс и вскоре должна была стать врачом. Это и была та девушка, о которой мне лукаво намекнули на Сумской улице.
С Лилей Фильшинской меня связывала давняя дружба. Мы познакомились в конце мая 1918 года в знаменитом Харьковском студенческом общежитии на Губернаторской улице, 3. Стали обмениваться книжками современных поэтов и быстро сдружились. В этом общежитии, скрываясь от гетманской и петлюровской мобилизаций, я прожил всё лето и осень 1918 г. Редкий день проходил без того, чтобы мы с Лилей часами не беседовали о литературе, о философии, о революции и даже о великой миссии нашего поколения.
В декабре восемнадцатого года, на следующий день после того, как наши передовые части ворвались в Харьков, я вступил добровольцем в боевой отряд Красной гвардии (на Украине ещё была тогда Красная гвардия) и ушёл на фронт. Лиля меня провожала.
Снова мы встретились опять-таки в конце мая, но уже 1919 года, когда я вернулся с южного фронта. Я был назначен начальником Особого отдела при Чрезвычайном коменданте и начальнике гарнизона города Харькова. Работы было невпроворот. Натиск деникинцев нарастал, а с ним и количество засылаемых в город лазутчиков.
Приходилось до поздней ночи изучать поступающие донесения о вражеской агитации и диверсиях. Поэтому в мае–июне встречи с Лилей бывали редко, а уже в конце июля Харьков был сдан. И опять, накануне нашего отступления, Лиля прощалась со мной.
Неудивительно, что моему появлению она очень обрадовалась, и все остальные коммунары из солидарности с ней приняли меня, как старого друга.
Четвёртым членом коммуны была сестра Лили Зина. Её я прежде не знал. Почему-то осталось в памяти, что комната Зины была довольно далеко, в конце длинного коридора. Там жил и пятый член коммуны Владимир Литвинов, который оказался единственным членом большевистской партии из наличных коммунаров. Не помню теперь, где тогда работал Владимир. Дома он бывал редко, и держался как-то в сторонке.
На следующий день из того же воинского эшелона я привёл в коммуну ещё одну бездомную, инструктора Политотдела 12-й армии Лидию Владимировну Домбровскую.
Рассказать о ней даже вкратце нелегко, всё равно получится упрощённо и приблизительно.
Ей было около двадцати лет или чуть больше. Восторженная энтузиастка, неутомимая и несгибаемая, она во имя революции и для блага её делала всё, на что была способна.
Лида была одним из самых честных и чистых созданий, какие я встретил на своем веку. В задымленных теплушках, кишевших вшами до такой степени, что они хрустели под ногами, она обучала неграмотных бойцов, читала им газеты и книги, а потом, перейдя в другую теплушку, вела в облаках махорочного дыма занятия с командирами. Поразительно, что даже самые заядлые бабники не осмеливались не только пристать к ней, но даже попытаться взять за руку или окинуть циничным взглядом. А ведь этому юному существу приходилось ночевать высоко на нарах в тех же теплушках, где на полу спали вповалку красноармейцы и, кроме неё, не было ни одной женщины. Впоследствии она сама удивлялась этому.
С Лидой Домбровской я сдружился осенью 1919 года в Брянске, где был дислоцирован Политотдел 14-й армии. Затем вместе с армейским штабом мы переместились в город Дмитриев, а ещё через месяц в одном и том же эшелоне прибыли в Харьков. Нечего и говорить, что всё это время я оглушал Лиду стихами, которых в моей памяти было столько, что это казалось ей невероятным. Маяковский стал для неё открытием — прежде из современных поэтов она знала только Бальмонта и Северянина.
Лида влилась в нашу коммуну, внеся свой особенный стиль жизнерадостного энтузиазма, высокой моральной требовательности и бескомпромиссной непримиримости.
Таким образом, число коммунаров достигло семи, а партийцев стало трое: Владимир Литвинов, я и Лида.
Вскоре я получил новое назначение. В Реввоенсовете 14-й армии заглянули в мою анкету и обнаружили, что в первой половине девятнадцатого года я был начальником юридического отдела Харьковского губвоенкомата, а затем был назначен начальником Особого отдела при Чрезвычайном коменданте и начальнике гарнизона города Харькова. Полагая, что в военных трибуналах крайне мало культурных людей (а это было не так), в Реввоенсовете решили, что я буду полезнее на юридическом поприще, а не в Политотделе, где образованные сотрудники не редкость. По указанию Реввоенсовета я был назначен военным следователем Реввоентрибунала армии.
В дальнейшем случилось так, что эта должность отразилось не только на моей судьбе, но и на биографии Хлебникова. Однако об этом чуть позже. Следует рассказать о некоторых сопутствующих обстоятельствах.
Почти одновременно с назначением на пост военного следователя на меня легло совместительство, странное даже для того, богатого на небывальщину, времени.
Дело в том, что в декабре 1918 года я уходил на фронт, имея профессиональную подготовку и некоторый опыт театральной работы. Получить их мне позволила непродолжительная, но весьма интенсивная учёба в драматической студии при театре Синельникова (так называемая «Студия Барова»). Затем, осенью девятнадцатого года, находясь в Брянске, я поставил со смешанной (частью профессиональной, частью любительской) труппой армейского политотдела пьесу «Два мира», написанную членом Реввоенсовета армии Л.М. Рухимовичем. Пьеса по тем временам была неплохая — во всяком случае, резко выделялась из массы трескучих агиток, которыми тогда потчевали зрителей. Рухимович, несомненно, имел литературное дарование, владел диалогом и понимал специфику драматургии. Я с удовольствием поставил его пьесу и сам сыграл в ней небольшую, но весьма интересную роль лидера харьковских меньшевиков.
Рухимовичу и моя постановка, и моя актёрская игра понравились. Разыскав меня в Харькове, он предложил поставить «Два мира» вторично, на этот раз с первоклассной актёрской труппой театра Синельникова.
Харьков не испытывал недостатка в театральных знаменитостях, но ни о ком другом Рухимович и слышать не хотел. Ему казалось, что маститые режиссёры не сумеют выявить идейное содержание его пьесы и привнесут в постановку театральные штампы.
На работу по совместительству, да к тому же в театре, надлежало получить санкцию моего прямого начальника. Председателем Реввоентрибунала армии был тогда высоко культурный и широко образованный старый большевик Рыжанский. Рухимович прямо от меня поехал к нему и быстро уладил дело. Однако я не верил в успех переговоров с театром. Зная, что самого Николая Николаевича Синельникова в Харькове тогда не было, я считал всю эту затею нереальной. Рухимовичу я сказал, что помощники Синельникова без санкции своего шефа ни за что не согласятся пустить на прославленную сцену никому не ведомого и совсем ещё желторотого режиссёра. Но всё обернулось иначе.
Оказывается, уже в декабре восемнадцатого года, то есть в последние дни моей учёбы в студии Барова, Н.Н. Синельников собирался — в пику некоторым его маститым, но закоснелым коллегам — пригласить меня работать одним из режиссёров его театра. Синельникову и его зятю, замечательному актёру А.А. Барову, а также режиссёру В.Б. Вильнеру, очень понравилась моя работа режиссёра-практиканта по постановке массовых сцен в пьесе Лопе де Вега «Овечий источник».
Намерение Синельникова не осуществилось: я ушёл на фронт, даже не успев проститься с моими учителями. Как мне потом рассказывали, Николай Николаевич был очень огорчён этим внезапным исчезновением. Поскольку его желание привлечь меня к режиссуре было известно Барову и Вильнеру, Рухимович без труда договорился о моей работе в театре. Кроме того, это был Рухимович — имя, в 1919 году широко известное на Украине. Его знали как одного из руководителей большевиков Донбасса, он пользовался большим уважением и у рабочих, и в среде передовой интеллигенции. Баров и Вильнер принадлежали к последней. Как могли они в чём-либо отказать Рухимовичу?
Оборотом, который приняло дело, я был потрясён. Шутка ли, в двадцать один год, хотя бы по совместительству и только на одну постановку, стать режиссёром театра Синельникова!
С того дня в квартире №2 дома №16 по Чернышевской улице к носившимся в её воздухе музам живописи и поэзии присоединилась впорхнувшая вслед за мной муза театра. Коммуна взяла шефство и над ней.
Моё вторжение в театр Синельникова самым решительным образом отразилось на контактах с Хлебниковым, хотя и не принесло тех плодов, на которые мы с ним рассчитывали. Но и об этом позже. Все события моего повествования выстроятся в своей фактической последовательности и естественных связях.
Пьесу «Два мира» я знал основательно. Все постановочные решения и мизансцены отчётливо выстроились в моей голове ещё со времён брянской премьеры. Поэтому я с ходу приступил к репетициям на сцене театра, которую предоставили в моё распоряжение с одиннадцати часов утра до трёх часов дня два раза в неделю.
С того времени, когда я ставил массовые сцены в «Овечьем источнике», состав труппы театра Синельникова значительно изменился. Многие актёры, напуганные слухами о зверствах большевиков, в панике бежали на юг, другие, наоборот, устремились из провинции в Харьков. В итоге почти никто меня не знал, а мой невозможно юный вид и потрёпанная солдатская гимнастёрка отнюдь не располагали к почтению. Я был встречен насмешками и плохо скрытым противодействием. Всё это было предсказуемо и неизбежно. Стену недоверия предстояло пробить.
Главную роль я поручил Михаилу Ефимовичу Лишину. Этот высокоодарённый и культурный актёр появился в театре Синельникова недавно. Он первым почувствовал, что молодой режиссёр знает, чего хочет, и подал остальным пример дисциплины. Мало-помалу отношения с актёрами наладились, работа закипела.
Несколько лет назад, незадолго до безвременной смерти М.Е. Лишина, я встретился с ним в Москве и привлёк к дублированию главной роли в весёлом австрийском фильме «Я и моя жена». Михаил Ефимович впервые пробовал себя в этой труднейшей для любого актёра области. Тем не менее, сумел полностью сжиться с воссоздаваемым экранным образом.
В перерывах между тонировками мы с удовольствием вспоминали Харьков, театр Синельникова и нашу совместную работу над пьесой «Два мира». Смею уверить — не только наши слова, но даже интонации были преисполнены великого уважения к тому далёкому времени.
Да, эпоха была стремительной и прекрасной, она формировала каждого, кто хотел идти в ногу с ней, по своим особым градациям меры. Высокое давление того времени требовало от нас напряжения не только моральных, но подчас и физических сил. Мысленно взвешивая ношу, легшую на мои плечи зимой 1919–1920 года, сам удивляюсь, как выдерживал такую нагрузку.
Время, дважды в неделю занятое репетициями, я с лихвой возмещал основной службе, задерживаясь далеко за полночь. Но и в остальные дни приходилось нелегко. Трибунал обслуживал территорию нескольких губерний царского времени и, по мере успехов наших войск, зона ответственности возрастала. Формирование гражданских судов на Украине было в зачатке, но даже там, где эти суды появились, состав работников был крайне слаб: армия впитала в себя лучшие кадры. Вдобавок, подсудность ещё не была строго разграничена, потому львиная доля всех дел шла по военной линии.
Наc, следователей, в трибунале армии было всего четверо. Больше взять было неоткуда. Рабочий день, включая воскресения, которых тогда никто не признавал, длился десять часов — с девяти утра до семи вечера. После чего председатель трибунала Рыжанский обходил кабинеты и выгонял нас. Он не хотел допускать работы на полный износ. Исключение делалось единственно для меня — но только в дни театральных репетиций. Тогда уж я мог засиживаться допоздна. Но и десять дозволенных начальством часов протиранием штанов не назовёшь. Предельное напряжение мысли, памяти и внимания — такова специфика следственной работы.
Казалось бы, придя домой, только и оставалось наскоро поесть и рухнуть в постель. Ничего подобного. Тут-то и начиналось то, что я уже назвал жизнью стихами.
Среди обитателей коммуны поэзия и прежде была в почёте, но с моим появлением произошёл полный переворот. Я знал наизусть в десятки раз больше стихов, чем все мои товарищи вместе взятые. Поэтому, предоставив мне возможность поесть, коммунары потихоньку и как бы невзначай стекались со всех комнат на кухню или на антресоли (о них ещё будет сказано), и начинались просьбы:
— Почитайте нам что-нибудь.
И я читал, читал часами. Играя при этом роль детонатора. Слушатели один за другим подключались к читке, и стихи не умолкали до поздней ночи.
Мы были молоды, очень молоды, а молодость не боится тратить силы и расточительна, как расточительна любая стихия.
Но вот однажды вечер поэзии был прерван и уже не возобновился. Пришёл раскрасневшийся от мороза Алёша Почтенный и выпалил:
— Я узнал, что поэт Велимир Хлебников находится в здешнем сумасшедшем доме. Он сам пришёл туда в конце лета, чтобы спастись от деникинской мобилизации.
Сообщение было настолько сенсационным, что Алёшу забросали вопросами. Он пожимал плечами:
— Ничего не знаю. Мнё сказали только, что Хлебников сам просил врачей укрыть его в сумасшедшем доме, и в конце концов его туда приняли.
— Почему же не выпускают теперь?
— Не знаю, не знаю.
Мы стали оживлённо обсуждать это невероятное событие, и, как-то само собой, постановили взять попечение над Хлебниковым, поселить его у нас, кормить и одевать сообща до тех пор, пока не удастся обеспечить его устойчивыми литературными заработками.
Так могла поступить только семья молодых единомышленников, среди которых не было ни одного приобретателя, ни одного “благополучника”! Приняв это решение, мы впервые по-настоящему оправдали своё имя — коммуна.
Замечу, что кроме Алёши Почтенного, никто из коммунаров никогда и нигде с Хлебниковым не встречался. Более того, мало кто был знаком даже с его стихами. Разве что имя было на слуху. Но для заочного почитания было довольно того, что имена Маяковского и Хлебникова составляли для нас некое единство.
Я знал о Хлебникове немногим больше своих товарищей. Причём все мои сведения об этом удивительном и ни на кого не похожем поэте были, как ни странно, эхом другого могучего поэтического таланта того времени. Я знал о Хлебникове, так сказать, “в связи с Маяковским”.
Маяковский взволновал меня и перевернул все мои представления о русском стихе уже в 1914 году, когда в мои руки попал напечатанный на машинке макет сборника его ранних стихотворений «Простое, как мычание».
Стало ясно, что пришёл некто с небывалым слухом и принёс такие созвучия, такие словесные переклички и такие ритмические ходы русского языка, каких до него не расслышал никто.
Даже внешне любая страница этого сборника ничем не напоминала обычные стихи. Мы привыкли к тому, что если глянуть на раскрытую книжку с расстояния, когда буквы сливаются и порознь их не различить, хорошо видны строфы, составленные из строк почти равной длины. Между строф — отчётливые просветы. Иногда чётные строфы сдвинуты относительно нечётных.
Ничего подобного в стихах Маяковского не наблюдалось. Разбивка фраз на строки следовала семантическому ряду и интонационной его интерпретации, ни намёка на монотонный метрический повтор. Впервые форма стиха полностью соответствовала свободной расстановке слов в предложении — изюминке русской речи.
Возможно, прочтя предыдущий абзац, молодые люди с недоумением возразят: что же тут особенного, такая подача стихотворного текста совершенно естественна и довольно часто встречается.
Действительно, после Маяковского мы к такому строю стиха постепенно привыкли и с ним освоились, но в 1914 году подобная вольность казалась немыслимой и поражала.
Да и всё остальное в макете первого сборника Маяковского, начиная от словарного состава, звукосочетаний, синтаксиса и кончая образным строем, было необычным и привлекало новизной.
Когда же летом 1916 года я держал в руках испещрённое цензурными отточьями первое издание его неувядаемой поэмы «Облако в штанах», то был уже не просто взволнован, а глубоко потрясён. На этот раз, помимо необычных рифм и звуковых сочетаний, помимо образов исключительной силы, помимо, наконец, захватывающей широты поэтического дыхания автора, мне раскрылась идейная сущность «Облака». Я уловил истинную значимость его революционного содержания. Оно доходило до сознания, несмотря на цензурные изъятия.
Я без конца перечитывал казавшиеся непомерно трудными для произнесения строчки, заучивал их наизусть и много, много дней жил в радостном изумлении от явленного нам поэтического чуда XX века.
С тех пор я не пропускал ни одного издания русских футуристов. А книжки эти стоили очень дорого. Вспомним строки Блока:
Действительно, цены по тем временам казались баснословными. Я же был бедным, почти нищим студентом. Поэтому всеми правдами и неправдами одалживался у баловней фортуны сборниками, журналами и отдельными литографированными оттисками с “эпатирующими” названиями: «Пощёчина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Молоко кобылиц», 1-й и 2-й «Садок судей», «Ряв», «Трое», «Союз молодёжи».
Читая и перечитывая эти новинки, делая иной раз пространные выписки, я и прикоснулся к творчеству Хлебникова.
Но это знакомство было поверхностным и дилетантским. К Хлебникову я приступал во вторую очередь. Сначала шло освоение Маяковского.
Прочие футуристы были выстроены у меня в порядке убывания предпочтений. Уже тогда Хлебников стоял выше всех (и в стороне от всех), но я ещё не был способен оценить его значение для новейшей русской поэзии.
Второй шла Елена Гуро. Её «Небесные верблюжата» печатались отрывками в коллективных сборниках, а потом вышли отдельной книжкой. «Верблюжата» очаровали меня детской свежестью восприятия мира и восхитительной словесной вязью ажурной прозы.
Творчество несомненно талантливого Василия Каменского я считал занятным озорством с целью “эпатировать буржуа”, как тогда говорили в среде футуристов, но весомого вклада в сокровищницу русской поэзии за ним не признавал.
Алексей Кручёных импонировал восторженной оценкой, которую он дал „словам-кирпичам” Маяковского и уверенностью в том, что современники, „принявшие Чаплина, примут и Маяковского”. Собственные же поэтические опусы Кручёныха5![]()
Стихи обоих Бурлюков оставляли меня равнодушным.
От Каменского, Кручёныха и Бурлюков я опять и опять возвращался к Хлебникову, в котором смутно ощущал что-то очень значительное, но глубже вникнуть, увы, не умел.
В те годы до крика напряжённый Маяковский с его ошеломляющими гиперболами захватывал меня гораздо сильнее, чем тихий, созерцающий Хлебников.
Это не значит, что радужный мир творимых им образов оставлял меня равнодушным. Нет, до такой степени я не был глух. Но подход был чисто литературным, не более. Догадаться, что Хлебников не только крупный поэт, но и самобытный мыслитель совершенно особого склада, я тогда, конечно, не мог. Моё внимание к Хлебникову было вызвано лишь острым интересом к современной поэзии и за её пределы не простиралось.
Прежде всего, у Хлебникова подкупало редкостное богатство языка и глубоко народный, исконно русский дух рождаемых им новых слов. Как не подходит иностранный, профессорский термин “неологизм” к его дивным находкам! В школе нам восхваляли Карамзина: обогатил русский литературный язык словом ‘трогательно’ и другими лексическими новациями подобного рода. А ведь Карамзин задался целью пересадить на русскую почву словообразования, типичные для французского языка, не более того. От французского глагола ‘toucher’ (трогать) происходит производная форма ‘touchant’. Дословно переводя её, Карамзин ввёл шокировавшее многих его современников словоновшество ‘трогательно’. Формально оно не противоречило типовому способу образования русских наречий, правом на включение в словарь книжного языка обладало бесспорным. Однако того, что называют духом русского языка, нововведения Карамзина лишены, а ведь именно этим ценно словотворчество народа.
Достоевский счёл возможным включить в литературный язык сочинённый им глагол ‘стушеваться’, не смущаясь иностранным корнем освоенного русским языком слова ‘тушь’.
Начало двадцатого века принесло манерные словечки Игоря Северянина. Тут уж с русским языком пришлось распроститься вообще. Обильным потоком полились на нас грезарки, эксцессэрки и сюрпризерки, флеры, шалэ, грациозы. Без конца сменяли друг друга то в русском, то во французском написании „берсез” и „berceuse”. Мы узнавали, что „лимоннолистный лес драприт стволы в туманную тунику” и что „лира поэта оменестрелила неопоэзный мотив”. Затем следовали „Crême de violette”, „Chanson russe”, „Mignon с Escamillo”, „миньонет” и даже „эксцесс в вирэлэ”.
Должен признаться, что и по сей день понятия не имею, что такое это злополучное „вирэле”. В равной мере затрудняюсь „моей фиолью”. Тем не менее, эти слова против воли застревали в ушах. Оседали в памяти и такие вычурные фигуры и тропы Северянина, как: „истомлённо лунятся”, „фимьянной лиловью”, „в душе монструозной”, „слова констеблевого альта”, „ажурит розофлер” и прочие внедряемые им “изыски”.
После этой манерной иностранщины рождённое Хлебниковым слово смеярышня ласкало слух. Оно казалось исконно русским, извечно бытовавшим, извлечённым поэтом из сокровищницы народного языка. И звучало нежно, тепло и уважительно, как и облюбованное некогда народом слово ‘боярышня’.
Такими же родными нам, “знакомыми незнакомцами” воспринимались и многие другие творимые Велимиром слова.
Прозорливые люди оценили Хлебникова с его первых публикаций в изданиях Матюшина. Тогда ещё молодой и потому особенно чуткий Корней Чуковский, восхищаясь словообразованиями Хлебникова сумнотичи и грустители, писал: „Только глубоко ощущая всю стихию русского языка, можно создавать такие слова”.
Видимо, слова эти жили где-то в хлебниковской поюнной выси. Это представлялось мне столь правдоподобным и вероятным, словно я там побывал и воочию убедился в том, что двузвонкие мечты Велимира обитали не в чертогах — в мечтогах. Казалось, только в закричальности зари и в сверкайности туч, когда по всей округе разносится звукатая временель, рождаются такие слова. И ещё верилось, что, родившись, эти слова устремляются в поюнность высоты, чтобы затем нырнуть в озёра грустин, на берегах которых стоят молчанные дворцы, или спрятаться в молчановом ручье, у которого на рассвете резвилось смешун-дитя.
До чего же русским было это доброе слово смешун-дитя! Я принял его как родное, вместе с поюнностью высоты, закричальностью зари и грустинами.
И всё же моё восприятие творчества Хлебникова было в ту пору односторонним и ограниченным. Восхищаясь рождёнными им словами, влюбляясь в некоторые строфы поэм, я не принимал его произведений в целом. Должно быть, поэтому и не мог запомнить их наизусть. В памяти оставались разрозненные строфы, обрывки фраз, эпитеты.
Этот пробел в моих знаниях коммунары обнаружили на следующий день после взволновавшего всех сообщения Алёши Почтенного. Они привыкли к тому, что я читаю наизусть без запинки не только «Облако в штанах» и «Флейту-позвоночник», но и такие объёмистые произведения Маяковского, как «Война и мир» и «Человек» («Вещь»). Никто не сомневался, что и Хлебникова я знаю назубок.
Когда я вернулся с работы и наскоро поужинал, меня обступили и стали просить почитать что-нибудь из поэта, судьбу которого устраивали вчера с таким жаром.
Я смущённо развёл руками и ответил, что не знаю целиком ни одной его вещи, а читать кусочки бессмысленно.
Мой отказ ужасно огорчил коммунаров. Они стояли потупившись.
Вдруг я сообразил, что всё-таки есть одна предельно короткая вещь Хлебникова, которую я помню целиком. Всего четыре строчки, написанные белым стихом. Но какие!
И я прочёл:
Наступила тишина. Слушатели долго молчали. Казалось, все почувствовали, что в эту минуту к нам неслышно вошла сама поэзия. Потом попросили:
— Прочтите ещё раз.
Я повторил. И снова наступила долгая пауза. Наконец, кто-то очень тихо сказал:
— Пожалуйста, ещё что-нибудь из того, что запомнили.
После прозвучавшего только что белого стиха мне захотелось дать почувствовать этим чутким людям всю необычность восхитительных хлебниковских рифмований. И я прочёл всплывшую внезапно в памяти строфу из поэмы Хлебникова «Мария Вечора»:
(Недавно Валентин Петрович Катаев процитировал те же строчки в своей «Траве забвения» и назвал эти стихи волшебными. Я и мои слушатели воспринимали их именно так.)
Разохотившись слушать, коммунары стали на меня наседать. Уступая им, я вне всякой связи с поэмой «Мария Вечора» процитировал запомнившиеся откуда-то из других стихов Велимира звонкие строчки:
По лицам окружающих я понял, что масштаб дарования нового для них поэта дошёл до всех. Тогда я пересказал преображённую Хлебниковым легенду древнейших времен о великой любви юноши Э и девушки И, заставившей их добровольно пойти на смерть, и о великом чуде во время сожжения их на костре: из разорванных радугой туч спустилась дева и вывела молодых людей невредимыми из огня.
А помнил я из этой поэмы Хлебникова только отдельные строчки — слова юноши Э:
Его мольбу:
И проникнутые пафосом старинных романтических баллад, чеканные строчки:
Я скорее почувствовал, чем услышал вздох восхищения.
Этого-то я и добивался, но совершенно иссяк.
На следующий день по какому-то следственному делу мне пришлось выехать за город. По прибытии на место выяснилось, что вызванные мной свидетели ещё в пути. Жду. Во время вынужденного безделья из памяти вдруг стали выпрыгивать строчки озорной поэмы Хлебникова «Шаман и Венера» и шуточной сказки «Внучка Малуши». Припомнилось и ещё кое-что.
Свидетели прибыли, когда я уже записал всё выжатое из памяти. Получилось нечто вроде монтажа из полустрочек, отдельных строчек и даже четверостиший.
Вечером, когда неугомонные коммунары опять насели на меня, репертуар заметно вырос, хотя и остался прежним сумбуром из отрывков без начала и конца. Тем не менее, я сумел показать Хлебникова в ином, чем накануне, ракурсе.
Для начала я прочёл подобные музыкальному каприччио, улыбчивые и тёплые строчки:
Затем в качестве контраста этому жизнерадостному мотиву я познакомил моих слушателей с четверостишием Хлебникова, которое привёл Маяковский в своей статье «В.В. Хлебников».
Коммунары услышали явно поразившие их слова:
Посыпались вопросы, на которые я не мог ответить, потому что никогда не читал стихотворения Хлебникова, из которого была взята эта цитата, и знал о нём только по статье Маяковского.
Далее я вкратце изложил слушателям сюжет поэмы «Шаман и Венера», в которой повествуется о том, как нагая Венера зашла в пещеру сибирского шамана и обратилась к нему со словами:
Раздался сдержанный смех коммунаров. Я продолжал:
— Здорово! — не удержался Иосиф Владимиров. Коммунары поддержали его весёлыми возгласами. Но тут возникла внезапная пауза: я забыл продолжение. Ничего не поделаешь! Опять окрошка из кусочков:
Но снисходительные коммунары не придавали значения заминкам.
— Ещё что-нибудь!
Я перестроился на чтение отрывка из шуточной поэмы «Внучка Малуши». Наверняка, думаю, слушателям будет интересна трактовка Хлебниковым часто встречающегося в народном эпосе сказочного мотива об оборотнях. К нему Хлебников прибегал не раз.
Предварительно я рассказал, что гнедой буй тур предстал перед внучкой Малуши в образе рыси. Княжна села на оборотня, и тот взвился под облака. Там было очень холодно. После этого предисловия я прочёл:
— Как?! Как?! — в восторге переспрашивал Иосиф Владимиров. — „...в ветер бурк... в Петербург”? — Здорово! До чего же здорово!
Он громко смеялся, бил руками себя по коленям и без конца повторял: „...в ветер бурк... в Петербург”
— Здорово! Ведь никто раньше не сумел так лихо зарифмовать наш Петербург!
Коммунары подхватили, начался общий галдёж.
Но вот все угомонилась. Сразу вопрос: кто такая Малуша? Именно об этом я спросил в 1916 году проходящего по коридору Петроградского университета профессора Венгерова. Удивившись моему невежеству, Семён Афанасьевич ответил:
— Мать крестителя Руси, киевского князя Владимира.
Я повторил его ответ и подвёл черту:
— Значит, внучка Малуши — дочь князя Владимира.
— Откуда же взялся тогда Петербург?
— Это приём остранения путём подчёркнутого смещения во времени, — последовал мой “учёный” ответ.
Коммунары сделали вид, что поняли вполне, и дальнейших пояснений не требовали.
Чтобы закрыть тему оборотней, я прочёл отрывок из другого стихотворения по мотивам сказаний о нечистой силе — два относительно самостоятельных четверостишия:
Слушатели снова притихли. Описание охоты и неожиданная концовка им определённо понравились.
Больше я уже ничего не читал. Мой репертуар был исчерпан.
В глазах коммунаров я был самым могущественным представителем советской власти на Чернышевской улице. Поэтому деликатная миссия извлечения Хлебникова из сумасшедшего дома была возложена на меня. Но психиатрическая лечебница, которую в Харькове все называли “Сабуровой дачей”, находилась за чертой города, в одном из предместий. Чтобы доставить Велимира в нашу обитель, требовался автомобиль.
Задача по тем временам непростая. В штабе 14-й армии легковые машины имели только три человека — командарм Уборевич и члены Реввоенсовета — С. Орджоникидзе и Л. Рухимович. Военному трибуналу был выделен грузовик. Его предоставляли следователям только для выполнения самых срочных заданий, и каждый раз по особому распоряжению председателя трибунала.
Несколько дней я ждал вызова к начальнику по какому-нибудь важному следственному делу. Наконец, случай представился.
Обдумывая, как лучше обосновать свою просьбу, я томился предчувствием долгих объяснений и боялся отказа. В начальническом кабинете, кроме самого т. Рыжанского, находился его молодой заместитель т. Шаргей.
Доложив по следственному делу, я, смущаясь, перешёл к просьбе. Оказалось, этого достаточно: Рыжанский отлично знал, кто такой Хлебников. Его высокая культура проявилась и тут. Но каково было моё изумление, когда Шаргей вдруг произнёс озорное четверостишие Велимира:
Думаю, что Шаргей, также как и я, не знал тогда, что через несколько лет после напечатания этого четверостишия, Хлебников, комментируя его и называя приведённые строки почему-то частушкой, отметил: В ней (частушке — А.А.), в четырёх строчках, помимо желания написавшего этот вздор, звуки у, к, л, р повторяются пять раз каждый ‹...› и что для него вдруг открылось, что в словах ‘кузнечик’ и ‘крылышкуя’ как бы запряталось и притаилось древнее слово ‘ушкуйник’.
Ещё раньше (в 1914 году) он написал: Крылышкуя и т.д. потому прекрасно, что в нём, как в коне Трои, сидит слово ушкуй (разбойник). Крылышкуя скрыл ушкуя деревянный конь. (См. Собр. соч. Хлебникова, т. 5, стр. 194)
Без долгих колебаний Рыжанский удовлетворил мою просьбу. Он поднял трубку телефона и приказал коменданту:
— Предоставьте завтра машину товарищу Андриевскому на необходимое ему время.
На следующий день, закончив намеченную по плану работу, около двух часов пополудни я выехал на “Сабурову дачу”. По прибытии на место я разыскал кабинет главного врача (кажется, он был одновременно и директором этой психиатрической больницы). Войдя, представился и предъявил мандат.
Мандаты в ту пору выдавались грозные и пространные, мой не был исключением. В нём значилось, что я являюсь военным следователем Реввоентрибунала 14-й армии, имею право ареста любого военнослужащего до командира полка включительно, а также правомочен арестовать, за исключением депутатов ВУЦИК и членов ЦК КП(б), любое гражданское лицо безотносительно к должности, которую оно занимает.6![]()
Как я тотчас ощутил из разговора главврачом “Сабуровой дачи”, он был из числа тех робких и наивных людей, которые поверили россказням о страшных зверствах большевиков, якобы гонителей всех русских интеллигентов. Мой мандат произвёл ужасающее впечатление. По-видимому, бедняга уже не сомневался: если не повесят, то уж непременно расстреляют. За что, не имеет значения. За то, например, что ты русский интеллигент и возглавлял больницу не только в царское время, но и при Деникине. Главврач сразу обмяк, стал заикаться и каждую фразу заканчивал почтительным “товарищ следователь”... А я как на грех должен был начать беседу с вопросов.
Разговор состоялся приблизительно такой:
— Скажите, доктор, верно ли, что в вашей больнице находится поэт Виктор Владимирович Хлебников? Он известен под псевдонимом Велимир Хлебников.
— Да, товарищ следователь.
— А правда ли, что он сам попросился, чтобы его взяли в вашу больницу?
— Почти так, товарищ следователь. Он действительно пришёл сюда сам, но принёс с собой казённое (!) письмо с требованием дать заключение о его пригодности или непригодности к военной службе.
— Какое же заключение вы дали?
— Я дал заключение, что по состоянию его психики он для несения воинской повинности (?), безусловно, непригоден. Такого же мнения были и все наши врачи, — поспешил он добавить.
— Вы считаете его сумасшедшим?
— Нет, нет! Термин “сумасшедший” я не считаю возможным к нему применить, хотя некоторые проявления нарушения психической нормы мы могли бы у него наблюдать. Должен сказать, что я не всё понимал из того, что он здесь писал, хотя некоторые его работы, в частности, написанные по моей просьбе, были отмечены большим мастерством.
— Считаете ли вы, что он в какой-либо степени опасен для общества?
— Ни в коем случае! Скорее общество может быть для него опасным.
— Почему?
— Потому, что он плохо защищён и очень раним.
Сравним этот ответ с тем, что много позже, в 1935 году, появилось в Выпуске 1-м трудов 3-й Краснодарской клинической больницы:
Эти заметки о Хлебникове любезно переданы мне А.Е. Парнисом, благодаря чему я без труда восстановил в памяти, что разговаривал тогда с доктором, в дальнейшем профессором Анфимовым. Некоторые цитаты из его статьи ниже.
Возвращаюсь к беседе с главврачом “Сабуровой дачи”.
— Итак, вы не считаете его сумасшедшим, и в своё время выполнили возложенную на вас миссию установить его пригодность к военной службе. Почему же теперь, когда обстановка существенно изменилась, вы продолжаете держать его в сумасшедшем доме?
— Видите ли, товарищ следователь, это общий порядок. Мы не можем выписать нашего пациента, так сказать, “в никуда”, то есть выгнать на улицу. Необходимо, чтобы кто-то из родных или близких друзей взял его под свою ответственность и гарантировал нам хотя бы элементарную заботу в смысле предоставления жилья и материальной поддержки до тех пор, пока он не устроится на работу. Но Хлебникова никто не навещал и не навещает. Видимо, в Харькове у него нет ни родных, ни друзей.
— Скажите, доктор, а мог бы забрать его я, дав эти гарантии?
Выражение лица главврача изменилось. Он шумно глотнул воздух и вытер платком вспотевший лоб. Оказывается, его ни в чём не собираются обвинять, а тем более арестовывать! Не скрывая своей радости, он воскликнул:
— Конечно же, товарищ следователь! Этого более чем достаточно!
— Не разрешите ли вы мне предварительно с ним побеседовать? (Не мог же я признаться, что Хлебников знаком со мной до такой степени, что никогда не встречался.)
— Разумеется, товарищ следователь, разумеется.
Как сейчас помню: главврач позвонил в ручной колокольчик (наверное, электрические звонки здесь отсутствовали или были испорчены). На звонок пришла медсестра в белом халате и с белой косынкой на голове.
— Проведите товарища следователя к больному Хлебникову. (Он всё же сказал: к больному. По-видимому, так полагалось.)
Медсестра повела меня по каким-то замысловатым переходам, потом мы поднялись по лестнице на второй этаж и долго шли по широкому коридору. Было немного жутковато. Я ещё никогда не бывал в сумасшедших домах и не знал, с чем там можно столкнуться. У двери одной из палат медсестра остановилась и сказала:
— Подождите здесь. Я его сейчас приведу.
Оставшись один, я тревожно оглядывался вокруг. Наконец дверь отворилась, и в сопровождении медсестры вышел высокий бородатый дядя лет тридцати. Он был в нижнем белье солдатского образца из дешёвой, слегка порыжевшей бязи. На плечи был накинут серый халат, который ему едва доходил до колен.
Я растерянно всматривался в его лицо. Над всем доминировал гиганский лоб красивейшей формы и неожиданно голубые глаза. (Как у Пушкина, подумалось.)
Вспоминая дальнейшее общение с Хлебниковым, не берусь утверждать, что его глаза были действительно голубые. Порой они казались мне серыми. Любопытно, что профессор Анфимов в своих заметках сообщает:
Впрочем, он не всегда точен.
На самом деле Хлебникова звали Виктор, а не Владимир. Но все эти частности не имеют значения. Для меня важно первое впечатление: в “Сабурке” глаза Велимира показались мне голубыми. (Незадолго до своей смерти Лиля Юрьевна Брик говорила мне, что помнит именно голубые, а ведь она знала Велимира ещё совсем молодым).
Увидев перед собой незнакомого человека, Хлебников некоторое время смотрел на меня с удивлением. Наконец он спросил, вернее, тихо прошелестел почти одними губами:
— Вы хотели меня видеть?
— Да, я почитатель вашего таланта, и здесь по поручению группы молодых художников. Мы образовали коммуну и приглашаем вас переехать к нам. Вам будут созданы более подходящие условия для работы.
После небольшой паузы я добавил:
— Мы считаем, что негоже вам здесь оставаться, пора уже возвращаться в литературу.
Хлебников немного подумал и потом удивительно просто сказал:
— Ну что ж, я согласен.
Я с благодарностью протянул ему руку и сказал:
— Тогда собирайтесь. Машина ждёт. А я пойду оформлять документы на ваш отъезд.
Через полчаса, выполнив необходимые формальности, я уже вёз короля современных поэтов в новую резиденцию на Чернышевской улице, дом 16. Разумеется, усадил его в кабину шофёра, а сам забрался в кузов. Дул свирепый декабрьский ветер, но я был так горд своей удачей, что испортить настроение не могло ничто.
По прибытии на место я представил Хлебникова тем коммунарам, которые оказались дома. Наши девушки быстро организовали для него тёплую ванну, а мальчики побрили, скосив по его просьбе начисто бороду и усы. После чего он стал точь-в-точь таким, как на фотографии с титульного листа 1-го тома посмертного собрания его сочинений под редакцией Степанова. (Этот снимок Велимира в профиль считаю лучшим и самым точным из всех известных изображений.)
В первые дни своего пребывания в коммуне Хлебников на просьбы дать почитать что-нибудь из напечатанного отвечал, что у него с собой ничего нет. Так оно и было: в кабину грузовика он садился с крошечным узелком в руках. Но дней через десять, когда я сидел за столом и что-то писал, Хлебников неожиданно и, как всегда, молча положил мне на стол свою пьесу «Ошибка смерти». Очевидно, он её в этот день или накануне откуда-то принёс.
«Ошибка смерти» была издана в 1916 году, но до встречи с Хлебниковым я о ней не знал.
Прочёл и пришёл в полный восторг. Помню, сразу очаровал первый монолог Барышни Смерти:
Но вот в дверь харчевни мертвецов постучал незваный гость, и эта усыпляющая ворожба оборвалась. Соответствуя смятению Барышни Смерти, ритм стиха круто поменялся:
И далее в этом новом ритме стиха отчётливо слышится, что испуг Барышня Смерти растёт:
Голос:
Барышня Смерть:
Перестройка стиха продолжается. По еле заметному сдвигу ритмического рисунка явственно ощущаешь: Барышня Смерть уже мечется от страха. Вот она зовёт на помощь мертвеца, ближе других сидящего к двери:
Какие сочные, неповторимые хлебниковские рифмования в каждой строфе! Давно не читал я пьесы в стихах, где диалог шёл бы с такой изумительной простотой и при таком уровне словесного мастерства. Но и во второй части пьесы, где стих переходит в прозу, словесная ткань выписана тем же виртуозным поэтическим почерком. Нехитрая игра слов пустая, как стакан понуждает Барышню Смерть использовать свой череп как посуду: в харчевне мертвецов запрещено пить из чужого стакана.
Ночной гость безжалостен. Напрасны мольбы ослепшей без глазниц своего черепа Барышни Смерти. Незваный пришелец подменяет напиток мёртвых напитком жизни. Смерть, допустившая в суматохе ошибку, побеждена.
Я загорелся желанием поставить эту пьесу на сцене. Обстоятельства, казалось, тому благоприятствовали: в театре Синельникова только что прошла премьера «Двух миров». Рухимович был в восторге от того, как я распорядился первоклассным сценическим оборудованием и актёрами лучшего театра в Харькове. Он явно переборщил, я даже боялся, что критики заставят его разочароваться. Но спектакль действительно имел успех у зрителей и был отмечен харьковской прессой как удачный. Это укрепило моё положение в театральном мире и позволяло надеяться на внимание руководящих театральных инстанций.
Да и в моём бюджете времени произошли изменения. С появлением Хлебникова в коммуне вечера поэзии прекратились. Нам было неловко читать стихи в присутствии Велимира. Мы стеснялись и нашего выбора, и нашего исполнения. В итоге у меня появился досуг. Я поспешил им воспользоваться для разработки сценического решения пьесы.
На следующий день я уже излагал Виктору Владимировичу свои намётки режиссёрского плана. Хлебников живо заинтересовался этим беглым эскизом, и в целом поддержал. Так и пошло: я не упускал случая рассказать ему о новых подробностях своего замысла, а он их выслушивал с явным сочувствием.
Итак, вечерами я без помех занимался режиссурой «Ошибки смерти». Постановочный план развивался, обрастал деталями и, наконец, обрёл законченный вид. Однако в харьковских театральных кругах моё предложение натолкнулось на серьёзные препятствия. Руководство театра Синельникова сочло, что постановка одноактной пьесы не создаст полноценного театрального представления, и это вызовет недовольство зрителей. Вечер поэзии Хлебникова в исполнении актёров труппы во второй части программы тоже отвергли.
Тогда я обратился в другой русский театр Харькова, где играла знаменитая в те годы актриса Вера Барановская. Осенью 1918 года, скрываясь от петлюровских мобилизаций в студенческом общежитии на Губернаторской улице, я бывал не только на спектаклях с её участием, но и на концертах, где она читала стихи современных поэтов. До сих пор слышу интонации её голоса в стихах Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Мандельштама. Особенно запомнились в её исполнении знаменитые строчки:
И ещё, как наяву, слышу проникновенный грудной голос Барановской в ажурной миниатюре Осипа Мандельштама:
М.Е. Лишин устроил мне свидание с Барановской, и я изложил ей вкратце проект постановки пьесы Хлебникова, где она исполнит роль Барышни Смерти, а затем прочтёт стихи Велимира. К моему удивлению и радости, Барановская согласилась, предупредив, что ей придётся довольно долго готовиться, потому что стихов Хлебникова она не помнит, и вообще очень редко и недостаточно внимательно просматривала сборники, где он печатался.
Было условлено, что стихотворные фрагменты для второй части программы мы отберём при непосредственном участии Велимира. После чего она свела меня с административной верхушкой театра (не могу вспомнить, как тогда он назывался).
Протекция Барановской сработала: руководство театра приняло моё предложение. Но неудачи продолжались.
Реализация моего замысла требовала качающейся справа налево декорации. Соорудить качалку под харчевней мертвецов мастерским театра оказалось не по силам. Упрощать и обеднять замысел я не хотел, и целую неделю пытался заказать нужную конструкцию на стороне. Качалку непременно изготовили бы, но внезапное вторжение неучтённых ранее сил разрушило всё: созданный недавно харьковский (он же Всеукраинский) Главполитпросвет уведомил Барановскую, что не утвердит план зимнего сезона театра, если в нём окажется пьеса Хлебникова и программа его поэтических произведений.
Очевидно, кто-то успел объяснить работникам Главполитпросвета, что футуристы — “чуждая пролетариату” группировка в искусстве, и что самые зловредные из них — Маяковский и Хлебников.
О ту пору влияние пролеткультовцев богдановского толка было очень сильным. Подголоски Богданова имели партийные билеты и проникали всюду. Под их нажимом некоторые партийные организации на местах стригли Маяковского и Хлебникова под одну гребёнку с имажинистами, акмеистами и символистами. Для такой странной — если не сказать безграмотной — уравниловки было достаточно того, что названия этих литературных течений имели одинаковый суффикс. Путаница усугублялась ещё и тем, что к футуристам примазались литераторы, ничего общего с Маяковским, Хлебниковым, Каменским и Асеевым не имеющие. Даже певец аристократических будуаров Игорь Северянин заявил себя эгофутуристом.
Следует признать, что заёмный термин вредил ещё и тем, что давал повод отождествить наших глубоко самобытных, подлинно революционных поэтов с Маринетти. Начав с лозунга „Война — гигиена мира”, этот глашатай футуризма превратился в одного из идеологов итальянского фашизма.
Не случайно Хлебников предложил наименование будетляне. Это было продиктовано не только его неприязнью к иностранным словам, содержавшим латинские корни, но и активным неприятием идейной направленности итальянского футуризма.
Весьма показателен поступок Велимира во время приезда Маринетти в Петербург. За полчаса до появления на трибуне заезжей знаменитости он обошёл ряды зрителей в огромном зале Народного дома, раздавая листовки с гневным осуждением низкопоклонства перед этим выскочкой с его гнилыми идеями, чуждыми великой русской культуре.
Я рассказал в харьковском политпросвете эту историю. Ноль внимания.
Однако я не сдавался. Пытаясь открыть глаза и уши оппонентам, доказывал подлинную народность творчества Хлебникова и богатство его русского языка, подкрепляя сказанное цитатами из «Ошибки смерти».
Тщетно: передо мной сидели не только богдановские подголоски из Пролеткульта, но и носители идей украинских буржуазных националистов. На мои слова о богатстве русского языка в пьесе Хлебникова один из участников обсуждения ответил:
— Пусть русский язык уйдёт в свои этнографические берега.
На первый взгляд, полная бессмыслица. Хотя бы потому, что театр Барановской (впрочем, и Синельникова тоже) назывался русским драматическим. Но реплика зарвавшегося пролеткультовца имела явно подчёркнутый подтекст: два русских театра в Харькове, тогда столице Украины, терпимы временно, и будет сделано всё, чтобы русский язык звучал здесь как можно реже.
Сражение было проиграно. Жаловаться не имело смысла: у меня не было свидетелей, которые бы подтвердили наглый выпад пролеткультовца, а сотоварищи наверняка постарались бы его выгородить, и — почему нет — даже обвинить меня во лжи. Использовать служебное положение следователя Реввоентрибунала 14-й армии в личных целях я никогда бы себе не позволил.
Так погибла моя мечта поставить «Ошибку смерти» на профессиональной сцене с участием опытных актёров.
Коммуна вселила Хлебникова в помещение, выходившее окнами на Чернышевскую улицу. Оно было разделено на две части капитальной перегородкой с полукруглой аркой, прикрытой тяжёлым раздвижным занавесом.
Увидев, что ему предоставлены апартаменты из двух больших комнат, Хлебников от такой роскоши наотрез отказался и потребовал, чтобы во вторую комнату кого-нибудь подселили. Коммунары в ответ: места всем предостаточно, а эти комнаты раньше пустовали.
Сошлись на том, что Хлебников займёт ту из комнат, где рядом с очень удобным для работы столом стоял широкий диван, покрытый пушистым ковром. (С этого дня наши девушки следили за тем, чтобы диван был покрыт чистыми простынями, а наволочки на подушке регулярно менялись.) Другую закрепили за мной — с непременным условием работать именно здесь, на чём настоял Велимир. (Спал я в другой части квартиры на антресолях, где был постелен такой же пушистый ковер, что и у него.)
Соседство через арку имело неожиданные и весьма важные для меня последствия. Но далеко не сразу. Дело в том, что я основательно заболел. Езда в кузове грузовика на бешеном морозном ветру не прошла безнаказанно. Я подхватил бронхит, началось осложнение. Мой надрывный кашель случайно услышал военный врач штаба 14-й армии и категорически запретил выходить из дома, доложив об этом руководству Реввоентрибунала. Пришлось подчиниться.
Разумеется, я не соблюдал предписанный мне постельный режим. Вынужденное безделье позволило возобновить начатые ещё на физмате изыскания в области математики, которые с уходом на фронт пришлось прервать.
В первый же день карантина, примостившись за столом, я принялся заполнять большие листы бумаги многоэтажными формулами и длинными колонками цифр.
Тогда ещё я не знал, что харьковские друзья Хлебникова дали ему прозвище “пума” за удивительную способность ходить совершенно бесшумно.
Это получалось у него непроизвольно, без всякого умысла.
В увлечении работой я ничего не видел и не слышал. Внезапно за спиной раздался голос Хлебникова:
— Чем вы так напряжённо заняты?
Я вздрогнул и, повернувшись к нему, ответил:
— Пытаюсь разработать основы дискретного исчисления.
— Если можно, объясните подробнее, — попросил Хлебников.
Запинаясь и с трудом подыскивая слова, я попытался внятно изложить свой необычный замысел.
— Видите ли, ещё в университете я пришёл к выводу о том, что построенные на абстрактной идее непрерывных изменений и бесконечной делимости дифференциальное и интегральное исчисления непригодны для описания ряда важнейших закономерностей дискретного мира, в особенности, закономерностей атомного строения. Поэтому я задался целью разработать такое исчисление, которое при последовательных увеличениях на единицу аргумента всегда давало бы целочисленные значения функции.7![]()
Мой ответ весьма заинтересовал и даже взволновал Хлебникова. Ведь он многие годы жил в мире дискретного многообразия и был погружён в созерцание целочисленных соотношений.
В его черновиках сохранилась любопытная запись, в которой он заявлял, что в случае, если человечество не примет открытые им законы времени, он полон решимости обучать этим законам приручённое людьми умное племя коней.
По-видимому, в моём лице он увидел “двуногого коня”, который может оказаться способным понять и принять открытые им законы!
Думается, если бы я не дал обязательства Хлебникову работать в смежной комнате, а военный врач не заставил сидеть дома, Велимир вряд ли узнал бы о моей задумке, а я — о его удивительном мироощущении и мировоззрении.
Но так совпало. Однако прежде, чем перейти к подробному рассказу о наших беседах, забегу вперёд и расскажу об одном случае, который открыл всю глубину и необычность мышления моего собеседника.
Не помню, в какой связи, но я сказал Хлебникову, что в отрочестве беспрестанно удивлялся всему, с чем сталкивался впервые, и что не имело видимых причин. Например, поведению инфузорий под микроскопом. Этот микроскоп я выклянчил у матери ко дню своего рождения. Он стоил всего десять рублей и давал пятидесятикратное увеличение. Получению инфузорий вымачиванием сухой травы нас, учеников реального училища, научил преподаватель естествознания. В лаборатории училища стояли великолепные лейтцевские и цейссовские микроскопы, дающие увеличение в 600 и более раз, поэтому любая инфузория исчезала из поля зрения мгновенно. Чтобы рассмотреть их, приходилось убивать, окрашивая среду гематоксилином.
Незадолго до этих наблюдений я впервые получил представление о том, что такое энергия, и, в пределах доступного ученику предпоследнего класса реального училища, жадно вникал в все её проявления.
Поведение инфузорий в поле зрения микроскопа меня изумило. Я рассуждал так: инфузории — это простейшие одноклеточные организмы. Где же в них вырабатывается энергия для движения мерцательных ворсинок на поверхности клетки?
При громадном увеличении микроскопов из лаборатории училища, даже пользуясь объективами с масляной иммерсией, я так и не нашёл в убитой инфузории ничего, кроме клеточного ядра. Но ядра были и в клетках организмов, не способных к самостоятельному движению.
Внимательно выслушав мою продолжительную тираду, Хлебников спросил:
— А вы уверены, что в полной темноте, в том числе и в поле вашего микроскопа, если бы он стоял в тёмном ящике, инфузории двигались бы точно так же?
Я недоумевал. Тогда Хлебников пояснил:
— Вы нанесли каплю воды c инфузориями на предметное стекло и накрыли эту каплю тонким покровным стёклышком. Этот препарат вы поместили под объектив микроскопа над круглым отверстием в стойке. Под этим отверстием расположено вогнутое зеркальце, на которое направлен свет либо яркой электрической лампы, либо солнца. Эти концентрированные лучи света и являются переносчиком энергии, которая в данном случае не вырабатывается внутри инфузории, но аккумулируется ею.
Далее Хлебников перешёл к вопросу о рассмотрении “малюсенького”.
— Чем меньше рассматриваемая нами крошка, тем больше воздействует на неё освещение. Если же требуется её измерить, свет повлияет особенно сильно. Даже при измерении относительно больших предметов, когда нет надобности в чрезмерно ярком освещении, наши действия всё-таки снижают достоверность получаемых результатов. Представьте себе, что вы взяли в руки металлическую линейку с миллиметровыми делениями. Вы уже передали тепло вашего тела этой линейке и тем самым, хотя и в небольшой степени, изменили расстояния между её делениями. Если же сам измеряемый объект ничтожно мал, возникает нужда ярко его осветить, а это не только изменит его размеры, но и сообщит дополнительную энергию.
В ту ночь я дословно записал всё услышанное мною от Велимира.
Через двадцать лет после этой беседы, весной 1940 года, я впервые прочёл описание мысленного эксперимента, произведённого Вернером Гейзенбергом в 1937 году. Я был настолько поражён сходством в аргументации Гейзенберга и Велимира, что полез в свой архив сличить формулировки Хлебникова с описанием мысленного эксперимента Гейзенберга. Разумеется, у Хлебникова речь не шла о воображаемом гамма-микроскопе и о приблизительном равенстве Δx · Δp постоянной Планка h, делённой на 2, но общая схема аргументации была поразительно похожа на гейзенберговскую.
Мой архив погиб зимой 1942 года. Он остался в Москве при эвакуации в Душанбе киностудии им. М. Горького, где я тогда работал. Домработница соседей топила им самодельную печурку. Но уже то обстоятельство, что в 1940 году я сличал свою запись высказываний Хлебникова с описанием мысленного эксперимента Вернера Гейзенберга, обязывает припомнить всё, что мне было сказано в январе 1920 года.
На следующий день после ночной беседы о „малюсеньком” Хлебников попросил у меня линейку, которую я вертел тогда в руках. Потом куда-то ушёл, забыл её вернуть. Без линейки я не мог ровно провести дробные черты длиннейших многоярусных числителей и знаменателей моих формул. Пришлось раздвинуть занавес и пройти на половину Велимира.
Моя линейка лежала на его столе. Я протянул за ней руку и невольно прочёл на лежащем рядом листе бумаги запись, сделанную крупным детским почерком Хлебникова:
Я был потрясён. Такой грандиозный образ, выраженный к тому же в столь конкретной, зрительно воспринимаемой форме, мог создать только Хлебников.
На том же листе бумаги, но значительно ниже этой записи я прочёл отдельную фразу:
Я решил, что это вторая или третья строчка рождаемого Велимиром четверостишия. Впоследствии оказалось, что это был отрывок из прозаического текста.
Через много лет после описываемых событий, во время совместной работы в сценарном отделе киностудии «Межрабпомфильм» мне довелось общаться с В.Б. Шкловским. Каждый раз, когда заходила речь о Хлебникове, Виктор Борисович неизменно цитировал эту дивную строчку.
В одну из очередных ночных бесед Хлебников подробно изложил мне свою концепцию пульсации всех „отдельностей” мироздания. Такими отдельностями для него являлись звёзды, галактики,8![]()
Необычность — если не сказать невероятность — таких представлений очевидна: в то время учёные даже не подозревали о пульсарах или о таком явлении, как коллапс, который можно уподобить начальному мгновению акта пульсации в форме “схлопывания” к центру объекта. Столь же необычными были представления Хлебникова об атомах: весной 1920 года понятия “протон” не существовало. Протон был открыт в Англии в июне 1920 года, причём до нас известие это дошло значительно позже. Ранее же атом представляли в виде неразличённого (здесь и ниже подчёркнуто мной. — А.А.) внутри себя массивного ядра и коллектива вращающихся вокруг него электронов. А Хлебников мне говорил: „Если ядра атомов многозарядны, они должны быть и многозернистыми”.
Однажды он дал прочесть какое-то литографированное издание, вернее, оттиск, содержащий несколько страниц. Мне очень понравилось стихотворение, начинавшееся строчкой:
Услышав мой восторженный отзыв, Велимир тут же переписал это стихотворение в сокращённой редакции:
В левом углу листа бумаги Хлебников написал: „Посвящаю А.Н. Андриевскому”. Этот дорогой мне автограф погиб вместе со всем моим архивом в 1942 году.
Затем, после короткой паузы, Хлебников направил разговор в новое русло:
— Кеплер писал, что он слушает музыку небесных сфер. Я тоже слушаю эту музыку, и это началось ещё в 1905 году. Я ощущаю пенье вселенной не только ушами, но и глазами, разумом и всем телом.
Стихотворению, которое только что мне посвятил, Велимир дал такое пояснение:
— Самая важная в нём строчка — это шиповники солнц понимать точно пение. Здесь в сжатом виде заявлена уверенность в пульсации всех отдельностей мироздания и их сообществ. Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звезд, пульсируют атомы, их ядра, электронная оболочка и каждый входящий в неё электрон. Такт пульсации нашей галактики настолько велик, что установить его начало и стать свидетелем конца невозможно. А такт пульсации электрона так мал, что не измерить никаким ныне существующим прибором. Когда в результате остроумного эксперимента этот такт будет обнаружен, кто-нибудь по ошибке припишет электрону волновую природу. Так возникнет теория лучей вещества.
Разговор этот состоялся ранней весной 1920 года. Если я запомнил его содержание и даже некоторые формулировки Велимира, то исключительно потому, что его высказывания показались мне плодом неуёмной фантазии. Уже не помню, в ту же ночь или на следующий день, но я их всё-таки записал.
Нетрудно представить, до какой степени я был потрясён, когда в 1925 году, спустя три года после смерти Хлебникова, появилась диссертация Луи де Бройля.
Написал он её годом раньше, а затем друг де Бройля Поль Ланжевен переслал эту диссертацию Эйнштейну. Ждали отзыва, и лишь после него работа де Бройля была опубликована. За это время в печать кое-что просочилось. Эти отрывочные сведения дошли до меня с большим опозданием. Впрочем, ничего из них толком понять было нельзя, и я с нетерпением ждал подробностей.
Иностранная литература в те годы к нам почти не поступала, а переводы порой запаздывали на несколько лет. Наконец, с большим трудом — через знакомых, и то на пару дней — осенью 1925 года я раздобыл №1 журнала «Annales de Physique» за 1925 год, где была напечатана знаменитая ныне «Recherches sur la théorie des Quanta».
Я прочёл диссертацию де Бройля несколько раз от корки до корки, преодолевая немалые трудности: последние пять-шесть лет следить за развитием физики и математики не удавалось вовсе.
Сомнений не было никаких: Луи де Бройль, опираясь на эксперименты коллег и постулаты Нильса Бора, пришёл к предсказанному Хлебниковым выводу о волновой природе электрона. Дуализм частицы-волны снимал вопрос электродинамики: почему вращающийся вокруг атомного ядра электрон не излучает.
Следует пояснить, почему Хлебников, прогнозируя волновую природу электрона, заявил, что обнаружат её по ошибке.
Дело в том, что, несмотря на широкое признание теории относительности, наука ещё цеплялась за понятие мирового эфира. Волновым процессом называли гармонические колебания, которые могут распространяться не иначе как в упругой среде. Термин “эфир” принадлежал отнюдь не радиосвязи, он был фундаментом учения о свете — электромагнитных колебаниях от гамма-лучей до радиоволн включительно. Свет ещё долгое время полагали не переносчиком энергии, а её особой формой.
Хлебников же категорически отвергал существование мирового эфира:
— Мне легче поверить в существование “святого духа” и “святой Пятницы”, чем в существование материального субстрата, не оказывающего никакого сопротивления движущимся в нём телам и имеющего при этом упругость, превосходящую в тысячи раз упругость стали.
Я недоумевал:
— Почему в тысячи раз?
— Уже на грани частот фиолетовых и ультрафиолетовых лучей необходима такая упругость среды.
Я не просил дальнейших пояснений, чтобы не уводить Велимира от основной темы беседы.
В комнате не было ни одной книги, если не считать нескольких изданий его поэтических произведений, а говорил он так, будто она заставлена энциклопедиями всего мира.
Однажды (не помню, в какой связи) я сказал, что открытие электрона — заслуга ирландского физика Стонея. Хлебников возразил:
— Это может быть и неумышленное, но широко распространённое искажение фактов, жертвой которого стали и вы. Стоней никакого электрона не собирался открывать, а искал естественную единицу природы. В качестве таковой он предложил наименьший электрический заряд.
Через десять лет после этой беседы я вернулся из Средней Азии, куда меня забросила судьба, и отыскал литературу по данному вопросу. Хлебников оказался прав. В 1874 году ирландский физик Стоней выступил перед коллегами в Белфасте с докладом «О физических единицах природы».
Через шесть лет, в 1880 году, этот доклад был опубликован.
Через одиннадцать, в 1885 году, Оливер Лодж назвал найденную Стонеем наименьшую порцию электрического заряда „реальной естественной единицей”.
И только в 1891 году, спустя 17 лет после своего выступления в Белфасте, Стоней предложил для этой естественной единицы название электрон.
Работая над мемуарами, на протяжении пяти последних лет я целенаправленно перелистал гору вузовских учебников физики, а также солидных монографий, в том числе зарубежных. Нигде ни слова о поисках натуральных единиц природы. Сообщается лишь, что Стоней в 1880 году (дата публикации его доклада) якобы открыл электрон.
Нынешних физиков не интересуют поиски естественных единиц природы. Их вполне устраивает укоренившаяся в учебниках система CGS. Хлебников во время наших ночных бесед несколько раз возвращался к критике этого, по его выражению, „уродливого гибрида метрической системы мер с мистическими волхованиями вавилонских жрецов”.
— Что такое сантиметр? Сотая часть метра, то есть единица второго разряда произвольной десятичной системы счисления. А что такое метр? Одна десятимиллионная часть четверти парижского меридиана?
— Так условились, то есть установили по произволу.
— А что такое одна десятимиллионная часть? Это опрокинутый в область меры седьмой разряд самой нерациональной десятичной системы счисления.
— Удивительно! — прервал я Велимира. — Ещё во время учёбы на физико-математическом факультете я пришёл к тому же выводу, и затем положил в основу разрабатываемого мною дискретного исчисления формулу многократного удвоения компонентов натурального ряда чисел. Уже тогда я знал, что такие титаны мышления, как Ферма и Гаусс, признавали примат двоичной системы счисления. Но при этом не ощущали противоестественность десятичной системы счисления.
— Как? как?! — взволновался Велимир. — Почему она противоестественна?
— Потому что ни одно явление природы не развивается в соответствие с разрядами десятичной системы счисления. Одноклеточные организмы и клетки в составе тканей растений и животных при их делении количественно растут по двоичной системе. Вода, особо важное тело на нашей планете, кристаллизуется по гексагональной системе; многие кристаллы формируются и растут по типу гексагональной структуры, в том числе в двенадцатигранных вариантах, но мы не найдём ни одного кристалла с десятью или двадцатью гранями. При кристаллизации по кубической системе кристаллы имеют шесть граней.
Памятуя об „уродливом гибриде”, я подбросил в качестве очередного примера малоизвестный случай явного сбоя метрической системы мер. В годы французской революции постановлением Конвента была декретирована центезимальная система измерения углов, установившая деление прямого угла на 100°. И, хотя до сих пор этот декрет не отменён, он никогда не применялся. Причина в том, что знакомые нам со школьной скамьи весьма важные в геометрии и тригонометрии 30° и 60° в случае применения на практике центезимальной системы выражались бы величинами 33,/33/° и 66,/66/°, что существенно усложняло бы их логарифмирование.
Хлебников о таком случае в истории Франции не знал, и поблагодарил меня за сообщение. Затем вернулся к критике системы CGS.
— Теперь обратимся к единице времени в этой системе. Откуда возникла такая величина как секунда? C незапамятных времён сознание первобытных людей разделяло время суток на дление тьмы и дление света. Люди заметили, что в разные времена года эти части не равны друг другу по-разному. Затем, вероятно при помощи песочных или водяных часов, в году обнаружили двое суток с равным длением света и тьмы, то есть открыли весеннее и осеннее равноденствие. В дальнейшем каждую из таких равных долей дления света и тьмы разделили на двенадцать частей. Почему именно на двенадцать? Только потому, что число двенадцать было священным у вавилонских жрецов. В свою очередь, избранную таким образом единицу времени разделили на шестьдесят равных частей, и каждую такую часть разделили ещё на шестьдесят. Причина та же, что и в предыдущем случае: число шестьдесят считалось священным, и потому легло в основу знаменитой шестидесятиричной вавилонской системы счисления. Заметьте, что к этой мистике восходит и деление окружности на 360°. Однако в данной области такое деление оказалось не только удобным, но и плодотворным потому, что случайно совпало с суммой четырёх углов по 90° каждый.
Однажды, не помню на что именно, я непочтительно ответил Хлебникову:
— Но это похоже на рассуждения о влиянии лунного света на произрастание картофеля.
В ответ на эту реплику Хлебников спросил:
— А вы считаете, что тот или другой свет, пришедший из окружающей землю среды, может совсем не влиять на процессы, происходящие в растительных организмах? Поставьте вопрос иначе: могут ли процессы, происходящие хотя бы в самых далёких от нас частях космоса, никак не влиять на земную биологическую среду? И вы поймёте, что ваше возражение неправомерно.9![]()
Я ответил, что кроме прямых и существенных связей имеется ещё бесчисленное количество далёких косвенных связей, влияние которых столь пренебрежительно мало, что они уже не имеют существенного значения.
На это Хлебников возразил (привожу почти дословно, потому что хорошо запомнил):
— Вся история науки свидетельствует о том, что связи, о которых прежде не подозревали или которые считались далёкими, становились самыми важными и определяющими. Те же связи, которые выглядели близкими и непосредственными, оказывались либо частным случаем более общей закономерности, либо попросту несуществующими в действительности. До Ньютона никому не пришло в голову, что между падением различных предметов на пол или на землю и движением планет есть какая-либо связь. Всякого, кто решился бы утверждать нечто подобное, сочли бы сумасшедшим. Ньютон истолковал орбитальное движение планет как их падение на солнце, непрерывно преодолеваемое инерцией поступательного движения по касательной к эллипсу (или к окружности). Так земная механика соединилась с небесной, и возникла единая мировая механика.
В дальнейших беседах Хлебников приводил довольно много аналогичных примеров несущественных и существенных связей, но я их теперь не помню.
Втолковывая мне свои воззрения, он часто говорил „отдельность”. Я очень удивлён, что ни в рукописях, ни в печатных работах Велимира не обнаружил этого слова. Тем не менее, буду в дальнейшем использовать, поскольку без него мне трудно излагать многие концепции Хлебникова.
Под отдельностью Велимир подразумевал каждый способный к “быванию” объект в мироздании, то есть, как он пояснял, то, к чему можно применить английское слово ‘many’, но не ‘much’. Отдельностями для Хлебникова являлись: электрон, атом, молекула, квант энергии (имя Планка он упоминал часто и с его работами был хорошо знаком), солнце, земной шар и тому подобное.
К таким понятиям, как ‘килограмм’, ‘метр’, ‘секунда’, и многим им подобным ‘many’ тоже применимо, но Хлебников не причислял их к отдельностям, потому что не имеют “бывания” в природе. Все они плоды произвольного членения реально существующих объектов мироздания на условные и „равнодушные” к существу явлений разряды той или иной системы счисления или градации случайно избранной системы мер.
Выслушав формулировку “законов времени”, я сказал, что необходимо дать доказательства этих законов. Хлебников посмотрел на меня с удивлением и ответил:
— Во всём естествознании, в том числе в физике, законы не доказываются, а открываются, обнаруживаются, выявляются путём отвлечения от бесчисленных частностей и нахождения того, что является постоянным и потому составляет необходимую связь в кажущемся хаосе толпящихся вокруг нас зыбких явлений.10![]()
Не могу поручиться за дословную передачу сказанного Хлебниковым, но суть и последовательность его аргументов помню достаточно хорошо. За выражения „толпящиеся” и „зыбкие явления” ручаюсь.
Хлебников продолжал:
— Галилей наперекор воззрениям его времени провозгласил, что прямолинейное и равномерное движение совершается не под действием прилагаемой к предмету непрерывно возобновляющейся силы (например, лошадиной тяги), а после начального толчка продолжается по инерции. Однако он не ставил себе задачи “доказать” этот закон, то есть объяснить, почему так происходит. Ньютон придал закону инерции несколько иную формулировку, но чем обусловлено движение по инерции и наличие инерциальных систем — тайна и поныне. Тем не менее, никому не приходит в голову требовать “доказательства” первого закона Ньютона. Он доказан существованием его в природе и открыт из этого существования, то есть из неё, природы, извлечён.
В «Досках судьбы» (см. лист 3. 1922 г.,11![]()
Слова бывающее, бывание Хлебников употреблял в разговорах со мною довольно часто в качестве синонимов понятий бытие, существование, объективная реальность, действительность. Этого и я буду придерживаться в дальнейшем.
«Доски судьбы» были написаны в 1922 году, но ещё в январе 1920 года Хлебников почти дословно излагал мне мысли, содержащиеся в приведённом выше отрывке.
Выслушав его, я воскликнул:
— Но ведь это же пифагорейство!
Хлебников ответил:
— Вы улавливаете лишь чисто внешнее сходство. На самом деле я антипод Пифагора.
Ниже я излагаю только суть высказываний Хлебникова, так как конкретных выражений не помню. Схема его доводов сводилась к следующему:
• Пифагор верил в самостоятельное бывание числа. На самом деле существуют только два дерева, три камня и тому подобное, но не “два вообще” и не “три вообще”. Числа суть абстракции, которые отражают только отношения между бывающим и вне бывающего не существуют.
• Что-либо не существующее не подлежит какому-либо закону и не может выражать собой никакого закона. Нашим современникам полезно почаще вспоминать споры средневековых номиналистов и реалистов.
• Когда математики говорят о свойствах тех или иных чисел и выводят якобы присущие им законы, они не отдают себе отчёта в том, что такие законы не могут быть чем-либо иным, как отражением в абстракции числа действительно существующих отношений и связей в бывающем.
• Заявив, что в мире остаются только числа, я тем самым “расправился” с числами, как Спиноза „расправился с богом”. (Точное выражение Хлебникова.)
• Спиноза определил свою единую субстанцию словами „бог или природа”. Но в русском переводе определение Спинозы звучит недостаточно остро и правильно. Русское ‘или’ имеет два смысла, а в латинском языке этим смыслам отвечают два различных слова: ‘sive’ (то есть | что также) и ‘aut’ (одна из двух возможностей).
• Спиноза не применил слова ‘aut’, а написал: „deus sive natura”, что следует перевести „бог, то есть природа”.
• Таким образом, Спиноза полностью отождествил бога с природой, и тем самым упразднил бога как творца природы, то есть упразднил бога как такового.
• Бытующая в философских работах характеристика Спинозы как пантеиста нелепа. Пантеизм есть разновидность деизма. Спиноза же был не деистом, а атеистом.12![]()
• Я не являюсь гилозоистом, хотя я убежденный монист. Вы часто говорите: „Материя различена внутри себя и существует в гигантском многообразии своих форм, их состояний и стадий развития, а единство мира — в его материальности”. Я спрашиваю: а что же едино в самой материальности, если она внутри себя столь многообразна? Очевидно, её единство есть всеобщее единство пронизывающих её связей.
• Но подлинно единым в таких связях может быть только то, что их единым образом “сопрягает”, то есть числа, которые и суть отношения внутри единого, внутри бывающего, и которые вне этого бывающего сами по себе не существуют, ибо количественные отношения присущи не числам, а только элементам различённой внутри себя действительности, то есть звеньям и компонентам подлинной реальности.13![]()
• Когда я обнаруживаю какую-либо числовую закономерность, я всегда помню, что самим числам она не может принадлежать. Поэтому я начинаю искать, каким действительно существующим отношениям и связям в мироздании может отвечать такая закономерность.14![]()
К середине марта 1920 года передовые части 14-й армии глубоко продвинулись в юго-западном направлении, в результате чего возник территориальный отрыв штаба армии от штабов входивших в неё дивизий. Чтобы выправить положение, первым выехал из Харькова Реввоенсовет армии, за ним последовали другие армейские службы. К концу марта очередь дошла до Реввоентрибунала. Поэтому мне пришлось на время расстаться с коммуной. Накануне моего отъезда состоялась ещё одна беседа с Хлебниковым. Я вернул его к предыдущей теме и спросил:
— Такт пульсации нашего солнца столь же велик, что и у галактик и всего мироздания?
— Нет, — ответил Хлебников. — Я так не думаю. По моему мнению, длительность его может быть точно измерена наличным оборудованием.
— Почему же тогда ни наши, ни зарубежные учёные его не открыли?
— Откроют, — уверенно сказал Велимир.
Через пятьдесят девять лет после этого разговора, в 1979 году, почти одновременно наши и американские учёные открыли пульсацию солнца. Нетрудно понять, как ошарашило меня это сообщение в журнале «Природа». С этого момента строчка стихотворения Хлебникова Шиповники солнц понимать точно пение стала восприниматься мною не только как прекрасный художественный образ, но и как глубокое научное предвидение.
На следующее утро я убыл из Харькова вместе с сотрудниками Реввоентрибунала 14-й армии. В этот же день в другом эшелоне, вместе с сотрудниками Политуправления Южного фронта, где она работала с весны двадцатого года, уезжала и Лида Домбровская.
После кратковременного пребывания в ряде городов юго-запада Украины, Реввоентрибунал 14-й армии обосновался в Ольвиополе.
В конце июня, в связи с возникшими осложнениями после перенесённой мною серьёзной болезни, мне дали месячный отпуск. Незадолго до этого отпуск по болезни получила и Лида Домбровская, перенесшая сыпной тиф в крайне тяжёлой форме.
На время отпуска я вернулся в Харьков и привёз с собой знаменитую красавицу Веру Дмитриевну Демьяновскую (до брака Синякову), двоюродную сестру Марии, Веры и Оксаны Синяковых. Мария Михайловна была одарённой, весьма оригинальной художницей. Её муж Уречин тоже был известен на Украине как первоклассный художник. Поэты и художники, связанные с харьковскими будетлянами, дали Марии Михайловне прозвище “Мария — зажги снега”.
Вера Михайловна вышла замуж за соратника Хлебникова поэта Григория Петникова, а Оксана Михайловна стала женой Николая Асеева.
По прибытии в Харьков мы с Верой Дмитриевной побывали на даче Уречиных. Это было для меня приятно и даже полезно. Во-первых, я попал в среду, где долгое время вращался Хлебников. Во-вторых, узнал об одном необычайном происшествии, случившимся с ним летом 1919 года. Мария Михайловна рассказывала об этом случае так.
В середине июня 1919 года Хлебников возвращался на их дачу из Харькова, куда рано утром ходил по делам. Стояла жара. На нём были лохмотья шубы, весьма похожие на заплатанный халат Плюшкина — свой единственный пиджак он только что сдал в починку. На середине пути его нагнал кавалерийский разъезд деникинцев. Офицер потребовал у Хлебникова документы. Велимир не нашёл ничего лучшего, как предъявить мандат за подписью Луначарского, в котором значилось, что Виктор Владимирович Хлебников — „краса и гордость русской поэзии”, которому следует оказывать всяческую помощь, и что он не может быть арестован без санкции Совета Народных Комиссаров Республики. На счастье Хлебникова, остановивший его белогвардеец, по-видимому, имел начатки гуманитарного образования и знал имя Хлебникова. Он вернул мандат со словами:
— Никому больше не показывайте эту дурацкую бумажку.
Оглядев ещё раз нелепое одеяние Хлебникова, он едко произнёс:
— Как можно так опуститься?
Затем, махнув рукой, добавил:
— Идите.
Однако проследовал за ним до самой дачи. Узнав, что Уречины — её законные владельцы, то есть приличные, по его понятиям, люди, офицер сказал:
— Присматривайте за этим чудаком, — и козырнул на прощание.
Закончив свой рассказ, Мария Михайловна пригласила нас к столу.
За обедом зашёл разговор о Божидаре. Незадолго до этого я прочёл единственный сборник его стихов «Бубен» и был подавлен сообщением о самоубийстве в двадцатилетнем возрасте. Тогда я ещё не знал проникновенных строчек Асеева на эту смерть: „Такая ль воля не допета, пути ль не стало этой поступи!” Зато мне было известно, что, кроме стихов, Божидар успел написать оригинальное теоретическое исследование под названием «Распевочное единство», которое ещё не было опубликовано. Уречины, как и я, не знали, у кого находится эта рукопись. В дальнейшем до меня доходили слухи, будто бы она у В.Б. Шкловского или у Р.О. Якобсона, однако я и по сей день не могу установить с ними контакт по этому поводу.
Во время моего приезда в Харьков Хлебников уже не жил в коммуне на Чернышевской улице, но иногда приходил туда по вечерам. Пока я отсутствовал, в Харьков нагрянула группа московских имажинистов. Их антрепренёр, некто Глубоковский, организовал публичное чествование Хлебникова, которое превратилось в некий фарс. Глубоковский одолжил у сидевшей в зале дамы массивное золотое украшение, слегка напоминающее эмблему или медаль. Затем поставил на голосование присвоение Хлебникову титула “Короля поэтов”. После единодушного поднятия рук — в ознаменование торжественного события нацепил эту штуку на лацкан Велимира. А когда часть зрителей уже двинулась к выходу, Глубоковский сначала корректно, а затем силой принялся отнимать её у Велимира. Чему Хлебников, принявший всё за чистую монету, активно сопротивлялся. Дружный хохот в зале. Так чествование “Короля поэтов” обернулось гнусным издевательством.
Литературовед Лейтес рассказал мне, что именно имажинисты уговорили Хлебникова уйти из коммуны и поселиться там, где „никто не будет докучать и отрывать от работы”. Вздорная и лживая уловка: никто в коммуне не мешал работать Хлебникову.
Правда в другом: он действительно тяготился тем, что жил на иждивении коммунаров, отнимая часть их пайков. Узнав это от самого Велимира, новые покровители стали внушать ему, что благодаря их заботам он вот-вот заживёт “без подачек коммунаров” , ибо получит большой гонорар за издание ими новой поэмы.
Тому же Глубоковскому было поручено подыскать для Велимира подходящее помещение. Тот нашёл долго пустовавшую комнату на первом этаже во флигеле небольшого особняка на Сумской улице. Её никто не решался занять, поскольку там повесился жилец.
После моего возвращения он стал чаще наведываться в нашу обитель на Чернышевской улице. В первый же свой визит подарил мне экземпляр напечатанной имажинистами поэмы.
Когда он ушёл, я погрузился в чтение. Уже первые шесть строчек были восприняты мной как чрезвычайное событие, знаменующее новый этап в творчестве Велимира. Я без конца перечитывал вступительный текст:
Прочитав поэму до конца, я опять вернулся к этим строчкам. Постепенно пришло понимание, почему они так для меня притягательны: виртуозное умение Хлебникова строить компактную и отчётливую экспозицию места и времени действия поражало.
Семейство каменных пустынниц просторы поля сторожило — предельно точная экспозиция места действия. Каменные бабы встречались только в степях Украины, ни около рек, ни близ лесных массивов их не было. Следовательно, место действия — бескрайняя украинская степь.
В окопе бывший пехотинец — достаточно точная, хотя и не прямая, экспозиция времени. В Красной гвардии, а затем в Красной Армии в 1918 году и вплоть до осени 1919 года очень многие бойцы служили в царской армии, имели опыт Первой мировой войны. Обычно на вопрос „ты кто?” следовал ответ: „бывший пехотинец (артиллерист, кавалерист).” Хлебников подметил это и точно воспроизвёл. Объявилась эта тётя, завтра мёртвых не сочтёте — уже не экспозиция действия, а его начало. Далее захватывающая широта поэтического дыхания автора нарастала с каждой строфой. Мне трудно передать, как меня сразили ни с чем не сравнимые в тогдашней поэзии строчки:
Эта противоестественная, фамильярная близость твёрдого, холодного металла с тёплой, мягкой человеческой плотью перехватывала дыхание, словно на моих глазах входило в крикнувшее тело стальное копьё. Я никогда не был склонен к экзальтации, не обладал повышенной возбудимостью, но конкретность и точность хлебниковских образов воспламеняла.
Через короткий интервал следовали ещё две поражавшие своей простотой, предельно точные строки:
Другого, кроме этих слов, описания боевого эпизода не было, но перед моими глазами отчётливо возникал убитый кавалерист, который вывалился из седла, но, зацепившись ногами за стремена, не упал на землю, а висит вниз головой, дёргаясь в такт скачки. Нательный крест вытряхнуло из-под воротника наружу, и медь с распятым Спасом цепочкой била мертвеца.
Весь этот каскад предельно точных образов завершался двумя лаконичными строчками:
«Ночь в окопе» всё больше и больше раскрывала передо мной свои богатства. В этой поэме Хлебников впервые обратился к портретированию Ленина и запечатлел одним четверостишьем этот образ так, как не удавалось ещё никому.
Велимир никогда не был на выступлениях Ленина. Он видел только его фотографии, плохо воспроизведённые в газетах. Из таких снимков он, вероятно, выбрал один:
И я сразу же опознал ту самую фотографию из «Правды», которая навсегда врезалась в мою зрительную память. Другие снимки почему-либо шли вразрез с образом того Ленина, чьи выступления я видел не раз.
После смерти Ленина многие художники показывали его портреты на самых ответственных выставках в нашей столице. Ни один из них не напомнил мне живого Ленина. Я уже подумал, что это дефект лично моего восприятия живописных портретов. Но вскоре, на XIII съезде партии, выступавший вторым делегат процитировал строчки:
Значит, не я один — и другие советские люди таким же образом воспринимали портреты Ильича.
Я перечитывал новую поэму Xлебникова, заучивал наизусть особо понравившиеся места — и в то же время негодовал, глядя на титульный лист и обложку, на которых крупными буквами значилось:
На моё неприятие имажинистов как литературной группки накладывалось отвращение к отдельным её представителям. “Деятели” вроде Мариенгофа (а ведь он ещё не написал тогда свой омерзительный «Роман без вранья») и Кусикова отнюдь не могли мне импонировать. В 1921 году Кусиков эмигрировал на Запад и оттуда охаивал нашу страну. Мои предчувствия оправдались.
Несколько иное отношение образовалось к Вадиму Шершневичу. Он был основным теоретиком имажинистов и автором неплохих стихотворений, вошедших впоследствии в сборник «Лошадь, как лошадь», но главное в другом: Шершеневич был вполне порядочным человеком. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов я не раз в этом убедился, будучи председателем конфликтной комиссии Московского группкома драматургов.
Что касается Есенина, то он, как ни странно это звучит, стоял в стороне от своего окружения. Важно отметить, что при жизни далеко не все воспринимали его как лирического поэта. Высказывания Есенина и многие отрывки из его широко известных тогда стихотворений составили ему славу занятного хулигана в литературе. Такие, например, строчки:
Особую популярность имело четверостишие:
А вот концовка знаменитого в те дни ухарского стихотворения:
Любопытно, что при жизни Ленина цензура пропускала последнюю строчку этого опуса. В дальнейшем надолго возобладали другие подходы, и читатель получал полностью искажённый текст.
На другой день Хлебников снова наведался в коммуну, и я в самых горячих выражениях превознёс его новую поэму. Но не скрыл и негодования: зачем он позволил своим новоявленным “друзьям” поставить марку имажиниста на обложке и на титульном листе этого издания.
Хлебников робко оправдывался тем, что не может всю жизнь писать только для ящика письменного стола — вернее, для наволочки его подушки, и не иметь отклика от людей, для которых пишет.
Я продолжал наседать на него:
— Да ведь это предательство. Надо было обратиться к друзьям, а не к врагам. Не вы ли писали некогда „стоять незыблемо на глыбе слова “мы”? Это предательство вами Маяковского, с которым вы начинали вместе, и который считал вас своим учителем. Помните вы то время?
Словно какая-то тень пробежала по лицу Хлебникова:
— Да разве Маяковский тогда был такой, как теперь?
Это и была та единственная моя размолвка c Хлебниковым, о которой я предуведомил читателя. Иных разногласий не возникло. Как и прежде, Велимир охотно знакомил меня с глубинной сутью и тонкостями его удивительного мироощущения и мировоззрения, а я продолжал вникать в каждое высказывание. Когда он ответил: „Да разве Маяковский тогда был такой, как теперь?”, я не стал добиваться пояснений. Мне было больно узнать какие-либо подробности. Я так глубоко любил обоих, что не мог рисковать своим чувством.
Несколько лет назад литератор Матвей Ройзман в книге «Всё, что помню о Есенине» на страницах 106–107 позволил себе так истолковать события, связанные с изданием поэмы Хлебникова имажинистами:
Для вящего эффекта ‘поэма’ подтасована ‘книгой’. Редко можно встретить столь наглое искажение фактов: Ройзман вывернул случившееся наизнанку. В действительности же было так.
Кусиковы и мариенгофы непрестанно тискали свои опусы без всяких помех и жили припеваючи, а Хлебников за три с лишним года не смог напечатать ни строчки. Он был начисто лишён пробивной силы и способностей организатора.
В отличие от имажинистов, русские футуристы не имени собственного издательства. Даже Маяковский в те годы не мог поддержать Велимира. У него самого не всё шло гладко. С подачи вхожего во все редакции ретрограда Сахновского, на страницах центральных газет стали появляться подвалы с заглавиями: «Довольно маяковщины», «Крах футуриста» и т.п.
Застрявший в Харькове Хлебников впал в нищету, и, если бы не казённый харч Сабуровой дачи, а затем опёка нашей коммуны, — он мог погибнуть от голода и холода.
Но даже и тогда не искал он помощи имажинистов. Это они заявились к нему, всячески обхаживали, льстили и вызвались напечатать поэму «Ночь в окопе», о которой прознали невесть как.
Во все подробности этой проделки посвятил меня сам Велимир. Оказалось, что когда Есенин предложил ему издать поэму силами имажинистов, Хлебников ответил:
— Но я же никогда не был и не буду имажинистом.
Есенин возразил:
— Речь идёт не о переходе в наши ряды, а о нашем издательстве. Вряд ли вы откажетесь напечататься в Госиздате, хотя там заправляют отнюдь не ваши единомышленники. Можно оговорить особые примечания к тексту, с пояснением обстоятельств публикации этой вещи в нашем издательстве. Согласуйте эти подробности и материальную сторону с Глубоковским, я в этих делах не силён.
Переговоры с Глубоковским состоялись немедленно. В качестве арбитра со стороны Велимира присутствовал Алексей Почтенный.
В итоге согласовали следующее решение: на обложке будет напечатано: «Издательство имажинистов», а на титульном листе ниже заглавия (Велимир Хлебников. Ночь в окопе) появится текст: „В связи с трудностями в аренде типографии с разрешения автора поэма печатается в издательстве имажинистов”.
Относительно материального вознаграждения пришли к согласию, что вся выручка от распространения тиража, за вычетом стоимости бумаги и оплаты счетов типографии, будет передана автору.
Глубоковский грубо нарушил эту договорённость. И на обложке, и на титульном листе значилось: «Имажинисты — Велимир Хлебников. Ночь в окопе». Заявлена принадлежность к группировке, враждебной фитуристам. Стало быть, Хлебников отрёкся от своего прошлого, что и утверждает М. Ройзман.
Безотносительно приведённых им фактов, считаю нужным остановиться на слове ‘отречься’. Оно негласно подразумевает ‘навсегда’. Нельзя отречься от чего-либо или кого-либо временно. А Хлебников ровно через три недели после так называемого отречения радовался изданию своего «Ладомира» харьковским художником-футуристом Ермиловым. Зная, что Ермилову помог Петников. При этом и Ермилов, и Петников были не рядовыми футуристами, а членами Президиума Харьковского Комфута.
Вернувшись из Персии, Хлебников общался в Москве с Митуричем и Куфтиным, не раз бывал у Бриков и Маяковского, но до самой своей смерти никаких контактов с имажинистами не имел.
В книге Ройзмана Хлебников упомянут и при описании полемики Есенина с Маяковским. Цитирую:
Неосведомлённость Есенина удивляет. Массовому читателю простительно оставаться в неведении, но писатели-современники должны бы знать, при каких обстоятельствах возникло название поэмы «Облако в штанах». Это игра случая, не более того.
Осип Максимович Брик, который на свои деньги её напечатал, рассказал мне об этом так.
Первоначально поэма имела название «Тринадцатый апостол», но когда он привёз сигнальный экземпляр из типографии в Управление цензуры, там в один голос заявили, что такое кощунство ни в коем случае не пропустят, и потребовали у Брика другое название. Осип Максимович ответил, что переименовать без согласия автора не имеет права.
— Приведите автора, пусть он переменит название.
Когда Брик привёз Маяковского в Управление цензуры, требование повторили.
— Согласен, давайте название, какое хотите.
— Извольте потрудиться сами.
Маяковский встал спиной к столу, зажмурился, наугад открыл сброшюрованный сигнальный оттиск и ткнул пальцем в середину страницы. Его палец лёг на слова „облако в штанах”. Это был фрагмент четверостишия
— Ничего не поделаешь, — сказал Маяковский, — надо подчиниться беспристрастному жребию.
Удивительно, что Есенин этого не знал.
За время моего отсутствия Хлебников подвергся вторжению московских имажинистов, но приобрёл и полезные знакомства. Политуправление Южного фронта (Поюг) для повышения общекультурного уровня красноармейцев и младших командиров Красной Армии создало сеть просветительных ячеек. Руководителям этих ячеек стали помогать некоторые работники творческих организаций Харькова. Они привлекли к сотрудничеству и Хлебникова, желая, с одной стороны, помочь ему материально, с другой — дать бойцам и командирам Красной Армии возможность послушать выдающегося деятеля современной русской литературы.
Харьковский литератор И.В. Егоров представил Хлебникова работнику Поюга Потёмкину, и тот поручил Велимиру курс лекций в литературной студии при клубе «Грядущее». (Этой студией руководила жена Егорова Татьяна Немчинова. Все сообщаемые здесь сведения освежил в моей памяти всё тот же дотошный Парнис).
А.Е. Парнис, ссылаясь на свидетельство литературоведа Лейтеса, сообщил мне также, что Хлебников летом 1920 года принимал участие ещё и в работе литературной студии Поюга при клубе «Коммунист» (Московская улица, дом 20).
Этой аудитории Хлебников изложил свои законы времени и, кроме того, огласил проект сооружения железной дороги к Тихому океану, параллельно границе с Китаем. Проект предусматривал постоянно действующую паромную переправу в Японию.
О тесных культурных контактах с японцами Велимир мечтал многие годы, начиная с «Письма японским юношам». Показателен и прозаический отрывок «Чао», о японской девушке, которая смотрит на открытое письмо с древним самураем в броне из чешуи и видит его высокомерные брови, падающие вниз на переносицу, как крылья морского орла, летящего с Фудзиямы на рассвете солнца.
При очередной встрече я просил прояснить мне суть проекта сооружения второй транссибирской железной дороги, и Велимир с ходу обосновал его народно-хозяйственное значение.
Он приводил по памяти громадное количество добытых русскими геологами прошлого века данных. Геологоразведка — пусть недостаточно точно, пока лишь косвенным образом — указывала на залежи полезных ископаемых вблизи едва ли не всей намеченной им трассы.
Я подивился наивности Хлебникова и его оторванности от реальной обстановки. В стране царила разруха, промышленность почти не работала. Металла не хватало для насущных нужд Красной Армии, которая с трудом отбивалась от белогвардейцев и интервентов. При таких условиях даже строительство короткой железнодорожной ветки было почти немыслимо, а Хлебников замахивался на второй Трассиб!
Так я думал тогда. Теперь думаю несколько иначе. Да, Хлебников жил предвидением событий будущего и порой выпадал из обстановки сегодняшнего дня. Но его прогнозы были необычайными. И тогда, и теперь мне кажется, что мышление этого человека было словно соткано из предвидений и предвосхищения. Ведь всё, о чём он тогда мне рассказывал, до мелочей совпадает с задачами строительства БАМа. Даже прогноз о залежах полезных ископаемых в непосредственной близости от замышленной им трассы находит своё подтверждение.
Буду очень рад, если кто-нибудь из ныне живущих харьковских лит.студийцев того времени, прочтя мои мемуары, письменно подтвердит, что именно так излагал Велимир свой проект постройки второй транссибирской железной дороги в 1920 году.
На первой странице поэмы «Ночь в окопе» меня озадачили строчки: Международника могучая волна / Степь объяла ночную. О каком международнике идёт речь? Потом я вспомнил о симпатиях и антипатиях Велимира в лексике. Охотно включая в свои тексты слова не только народов славянской языковой группы, но и Востока, а в отдельных случаях даже американских индейцев, он раз и навсегда исключил из употребления слова с латинским корнем.
Не следует забывать, что латынь Хлебников знал в совершенстве. Первыми его выступлениями в печати были статьи по орнитологии, густо насыщенные специальными терминами. Вероятно, в юности он хотел наследовать профессию отца, известного на юге учёного (главным образом, орнитолога), создателя знаменитого биологического заповедника в Астрахани.
По мере того как решение посвятить себя поэзии крепло, Хлебников наращивал строгость изгнания из своего лексикона слов латинского происхождения. Последний раз он использовал латынь в своей брошюре «Время мера мира», опубликованной в 1916 году (воскликнут: calculemus). В дальнейшем латинский корнеслов педантично изгонялся. Кончилось тем, что Хлебников не счёл возможным писать „корень квадратный из минус единицы”, ибо ‘минус’ и ‘квадрат’ заимствованы из латыни. Замена многим известна: двоичный корень из нет единицы.
Неудивительно, что мало кто приветствовал подобные формулировки. Но гениальность и многогранность Хлебникова были для меня так очевидны, что я охотно прощал ему эти чудачества. Далеко не безвредные, кстати. Мало того, что они мешали восприятию его важнейших находок — мнение о Хлебникове как авторе бредовых теорий налицо.
Возвращаюсь к строчкам: Международника могучая волна / Степь объяла ночную.
Поразмыслив, я понял, что Хлебников заменил чужеродное, и притом громоздкое ‘интернационалист’ словом международник. Но такая замена меня не устраивала. Я даже мысленно влепил за неё Велимиру двойку. Но тотчас устыдился: кто я такой, чтобы ставить гениальному Хлебникову, пусть и втихомолку, исподтишка, отметки?
Эти беседы начались ещё до моего отъезда из Харькова и возобновились во время отпуска летом 1920 года. Но я группирую их воедино, чтобы не разрывать органическую связь.
Слушая Хлебникова, я убедился в том, что он воспринимает ритмическую перекличку между временем и пространством как их противостояние внутри единого пространственно-временнóго комплекса. Время по отношению к пространству он уподоблял вывернутому наизнанку чулку.
Обосновывал этот образ приблизительно так:
• Все реально существующие в пространстве тела имеют поверхность и объём. При любых единицах измерения площадь поверхности тела имеет вид а2, а объём а3, где основания степени оказались подвижными, жидкими и текучими, а показатели 2 и 3 — каменными и неподвижными. В ряде случаев перед формулами а2 и а3 может стоять коэффициент k, что не меняет сути дела.
• В мире же соотношений временнны́х объёмов количественные характеристики по отношению к пространственным меняются местами: каменные, неподвижные показатели степени мигрируют в их основания, а жидкие, текучие основания степени перекочёвывают на место показателей степени.
Далее Хлебников формулировал закон временнóй связи между двумя сменяющими друг друга явлениями в одной и той же зоне пространства.
• При интервале между такими явлениями, равном 2n натуральных единиц времени, объём события растёт, а при 3n — событие превращается в противособытие (в обоих случаях n — целочисленное).
Основное затруднение, которое Велимир тогда испытывал, заключалось в том, что ему были известны только две натуральные единицы времени: сутки Земли и годичный период обращения Земли вокруг Солнца. Обе слишком велики для сопоставления друг с другом подавляющего большинства явлений природы, и годились разве что для геологических процессов и космических пертурбаций.
Ввиду этих ограничений Хлебников ставил перед собой задачу найти наименьшую, далее неделимую, естественную ячейку времени. Он несколько раз и подолгу объяснял мне безмерную важность нахождения такой элементарной, неделимой единицы времени. Это требование он изложил несколько раз в своих дневниках и записках. По меньшей мере, одна из таких записей сохранилась и была опубликована в пятом томе посмертного издания его сочинений на стр. 92:
Увы, даже Хлебников с его невероятной эрудицией не знал, что такая далее неделимая единица для всех представителей фауны — от насекомых до людей — была найдена академиком Карлом Максимовичем Бэром. В 60–70-е годы XIX века он провёл ряд прецизионных экспериментов, которые показали, что все животные при восприятии любых процессов, которые совершаются со скоростью около восемнадцати раз в секунду, не ощущают прерывности и реагируют на них как на непрерывные.
Интервал в одну восемнадцатую секунды Бэр назвал „биологическим моментом” и многократно подчёркивал, что этот „момент” при нормальных условиях одинаков для всех представителей животного мира, включая людей.
Продолжая свои исследования, Бэр обнаружил, что при воздействии некоторых лекарств и наркотиков „биологический момент” может быть несколько увеличен или уменьшен. Далее он рисовал кажущиеся невероятными картины:
Как известно, кинематограф был изобретён в 1905 году (если не считать несправедливо забытого английского изобретателя Фриз-Грина, который на три года опередил Лимьера). Во всяком случае, в шестидесятые годы прошлого столетия понятия не имели о так называемом стробоскопическом эффекте, а Бэр в своих необычных пояснениях описывал эффекты, которые мы получаем теперь при киносъёмке цейтрафером (рост растений) и при съёмке рапидом, то есть убыстренной, а не замедленной съёмкой (как её называют многие зрители, несмотря на то, что по радио, по телевидению и в печати неоднократно объясняли, что эффект замедленного, как бы плавающего в невесомости движения возникает на экране в результате ускоренной съёмки при последующей нормальной скорости проэкции снятого материала в кинотеатрах).
Кстати, своим знакомством с трудами Карла Бэра я обязан кинематографу. В начале тридцатых годов широко образованный и свободно мыслящий человек, Феофан Платонович Шипулинский, преподавал в Государственном институте кинематографии историю кино. В первом томе его руководства по этому предмету он выступил против традиционного объяснения эффекта кинематографического восприятия зрительной памятью и привёл ряд убедительных доказательств того, что этот эффект возникает не в результате, а вопреки зрительной памяти.
В те годы во всех пособиях по истории кино неизменно рассказывалось о том, как ещё в XVII веке некий кавалер Д’Арси раскалил докрасна кончик своего меча, а затем, размахивая им в тёмной комнате во всех направлениях, увидел длинные отрезки огненных зигзагов, слившихся в одну огненную линию.
Далее мы узнавали о другом любознательном рыцаре, который сделал на конце длинной проволоки небольшую петлю и закрепил в ней крохотный уголёк. После чего стал вращать проволоку над головой в тёмной комнате и наблюдал сплошные огненные кольца.
Во обоих случаях небольшой объект многократно удлинялся. Безусловно, это явление возникало в результате “зрительной памяти”. Подчёркивая эту сторону дела, Шипулинский делал вывод:
Узнав, что я заинтересовался спором Шипулинского с его коллегами, знакомый биолог посоветовал мне обратиться к работам Бэра, который, как он вспомнил, исследовал прерывность восприятия. Попутно назвал мне современного французского биолога Лалана, который тоже занимался изучением такого рода вопросов, хотя, по его словам, вряд ли был знаком с работами Бэра.
Я последовал этому совету. Более того, ознакомился с работами итальянского исследователя, фамилию которого уже не помню, а выписки из них, сделанные в Ленинской библиотеке, потерял. Пропуск же в её специальный зал мне закрыли с окончанием преподавательской работы во ВГИКе.
В результате штудирования работ Карла Бэра, Лалана и упомянутого выше итальянского биолога, я узнал, что „биологический момент” был точно установлен не только для насекомых и млекопитающих, но даже для улитки и маленьких рыбок морских петушков, и для каждого из этих представителей животного мира он был равен одной восемнадцатой доли секунды.
Любопытно, что всё тот же дотошный и предельно добросовестный Парнис каким-то образом обнаружил, что Бэр у семьи Хлебниковых был в большом почёте. По-видимому, это касалось отца, Владимира Алексеевича. Из биографических сведений о поэте в первом томе собрания его сочинений следует, что Владимир Алексеевич привил сыну любовь к естественным наукам и тот имел серьёзные познания в этой области. Должен заметить, что за всё время моего общения c Велимиром тот ни разу не упомянул имени Бэра.
Отнюдь не прибегая к помощи имажинистов, харьковский художник Ермилов издал летом 1920 года поэму Хлебникова «Ладомир». Как мне потом рассказывал Г.Н. Петников, он помог в этом деле Ермилову через издательство «Лирень», которое сам же и учредил ещё в 1914 году. Издательство предоставило Ермилову по сходной цене бумагу и оплатило сверхурочные работы наборщиков и метранпажа арендованной Петниковым типографии.
Через две недели после нашего разговора о «Ночи в окопе» Хлебников принёс мне сигнальный экземпляр «Ладомира» и так же, как в прошлый раз, быстро ушёл, чтобы дать мне возможность вчитаться наедине.
На этот раз многое в новой поэме мне не понравилось, о чём на следующий день я откровенно высказался.
Недавно я попытался перепроверить свои ощущения, но зашёл в тупик: в первом томе посмертного издания произведений Хлебникова текст «Ладомира» как небо и земля отличается от сигнального экземпляра 1920 года. Прежде всего, тот был в пять-шесть раз короче.
Посмертное издание «Ладомира» включает немало фрагментов более поздней поэмы «Настоящее». Я хорошо помню, что в изводе 1920 года четверостишие Это шествуют творяне, / Заменивши Д на Т, / Ладомира соборяне / С Трудомиром на шесте предваряли никак не более четырёх строк, в то время как в посмертном издании таковых сорок четыре!
В память врезалось четверостишие:
И случилось это потому, что я тотчас выразил Велимиру свой протест:
— По-моему, называть перезревшую любовницу Николая Второго девой — нелепо.
Хлебников не спорил и рассмеялся.
Нелицеприятная критика продолжалась: в упомянутом четверостишии о творянах я не одобрил две последние строки.
Я напомнил Велимиру, как в одну из предыдущих бесед он восхитил меня своими словами: „На земле существуют во множестве негодяи, но нехотяев ничуть не меньше. Они всегда чего-либо нужного большинству людей не хотят”.
У нас была твёрдая договорённость говорить друг другу только правду, не смягчая её никакими экивоками и реверансами. Поэтому я продолжал:
— Рождённое вами слово творяне стоит на уровне такого редкостного перла, как нехотяи, а вот ладомир и трудомир построены однотипно, путём элементарного сложения: ‘лад + мир’ и ‘труд + мир’. Это монотонно и примитивно. Такие решения стоят на уровне технических новоделов ‘ядохимикаты’, ‘железнодорожники’ и т.п., которые к художественной литературе никакого отношения не имеют.
Хлебников поблагодарил меня за откровенность:
— Я чувствовал, что в этой работе есть что-то подозрительное. Видимо, нельзя быть одновременно чиновником и поэтом.
Под словом чиновник подразумевалась его платная работа в литературных студиях.
Вознаграждение, кстати, выдавалось пайками из перловой или пшённой крупы, капусты, картошки, моркови. За готовку немалую толику изымала кухарка. Поэтому Хлебников жил впроголодь.
Положение усугублялось тем, что в коммуне на Чернышевской улице наступили чёрные дни. Внезапно иссякли заказы у Алексея Почтенного и Иосифа Владимирова, и оба утратили право на продовольственные пайки. Мне же сейчас паёк был не положен, а отданные в общий котёл отпускные стремительно теряли покупательную способность. Кроме того, я вернулся не один: коммуне пришлось кормить ещё и Веру Дмитриевну.
Увидев эту легендарную красавицу, Хлебников мгновенно влюбился и стал люто ревновать её ко мне. Сила влечения была такова, что он вдруг стал откликаться на бытовые неудобства, чего раньше за ним не замечалось. Но теперь любая неурядица могла ударить по Вере. А до неё, наконец, дошло: коммуна стоит на грани голода.
Однажды он услышал, как Вера жаловалась кому-то в общей гостиной:
— Боже мой, как хочется есть! Я со вчерашнего дня корочки хлеба во рту не держала. Не могу больше терпеть. Мне кажется, что я скоро начну от голода выть!
Хлебников незаметно вышел из дома. Через пару часов он вернулся без пиджака, зябко поёживаясь в одной рубашке из порыжевшей бязи. В руках его был ветхий мешок. Он выложил из него перед Верой полбуханки хлеба, кусок брынзы и круг жареной украинской колбасы.
Та манерно поблагодарила, отделила по ломтю от каждого подношения и угостила добытчика. Хлебников отказывался до тех пор, пока Вера не пригрозила выбросить принесённую им снедь в окно.
Всё это мне не понравилась. Я досадовал на Веру — не догадалась попросту расцеловать Велимира. До какой степени она избалована бесчисленными ухажёрами!
Впрочем, разве дело только в ухажёрах. Сила её воздействия на окружающих (мужчин или женщин — безразлично) была непостижима. Идя с ней по улице, я то и дело замечал, что встречные останавливаются и долго смотрят нам вслед. Так было и в Харькове, и в Голте, и в Умани — везде, где мы с ней побывали.
Но возвращаюсь к угрозе выбросить еду в окно.
На следующий день Велимир смотрел на Веру уже несколько иначе, чем до этой выходки. Я помню, как его покоробил её рассказ о покупке за бесценок дамских наручных часов. Потом эти часики ей перестали нравиться, и она продала их на другом базаре во много раз дороже.
Трезвея в отношении Веры, Велимир стал присматриваться и ко мне. Очевидно, сработала народная мудрость: „Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты”.
Ни с того ни с сего стал допытываться, как я могу работать в „чрезвычайке”, которую, по слухам, возглавляет в Харькове какой-то садист.
Я ответил:
— Вы вместе с Маяковским страстно ждали победы в России социалистической революции. Почему же теперь верите обывательским слухам, которые распространяют наши враги?!
И постарался, как мог, просветить его насчёт Реввоентрибунала и Губчека. Реввоентрибуналу армии, втолковывал я ему, подлежат проступки и преступления бойцов и командиров Красной Армии или пойманных с поличным на фронте шпионов, а органы Всероссийской чрезвычайной комиссии борются с контрреволюцией и саботажем. Работа по охране советского государства крайне важна, но партия направила меня в Реввоентрибунал и ни в какой “чека” я не служу.
Через неделю после этой стычки Хлебников пришёл ко мне сияющий, схватил мою руку и долго её жал.
— Мне рассказали, что вы спасли трёх человек, гениально доказав их невиновность в преступлениях, которые им приписывали. Подтвердили также, что вы правильно растолковали мне разницу между Реввоентрибуналом армии и Харьковской губчека. Простите меня за нелепые подозрения.
Я ответил рукопожатием на рукопожатие и откровенностью:
— Доказывать виновность или невиновность людей, заподозренных в тех или иных преступлениях, — мой долг до тех пор, пока на меня возложены обязанности военного следователя. Но эта служба меня тяготит, и я надеюсь, то рано или поздно удастся вернуться к работе в театре.
С тех пор между мной и Хлебниковым не случилось ни малейшей размолвки. Более того, в самую тяжёлую минуту своей жизни Велимир дал согласие художнику Митуричу обратиться за помощью не к Маяковскому и не к Брикам, а только ко мне и к Сергею Городецкому. Об этом ниже.
Вскоре после примирительного разговора с Хлебниковым мой отпуск подошёл к концу, и я убыл из Харькова в Умань, куда переместился штаб 14-й армии. Вера уехала со мной.
Так закончился этот бурный, но короткий роман.
В Умани Демьяновский, как ни в чём ни бывало, принялся уговаривать беглянку вернуться к нему. Вера колебалась недолго. После Демьяновского она сменила ещё несколько официальных и неофициальных мужей и, наконец, остановилась на литераторе Богданове, с которым прожила до самой смерти.
Несмотря на эти метания и на плохое, что я о неё знал, вспоминаю Веру с большой теплотой. Она была преисполнена любви ко всем людям и щедро одаривала их лаской и участием. А ведь многие сознательно ей навредили. Самая тяжёлая из таких бед свалилась на Веру ещё в ранней молодости. Но я не хочу пускаться в подробности. Пусть они умрут вслед с ней. А я до конца дней сохраню в памяти образ женщины, добрее и отзывчивее которой не встречал.
В конце августа Хлебников уехал в Баку. Как уверял меня Лейтес, ещё весной его пригласил туда бакинский литератор Абих. Этот Абих якобы исхлопотал официальный вызов, по которому Велимиру в Харькове были выданы командировочные документы.
Недавно А.Е. Парнис, узнав от меня об этом сообщении Лейтеса, напомнил, что ещё в мае 1968 года подарил мне свою статью, опубликованную в виде отдельного оттиска серии «Народы Азии и Африки» Академии наук СССР. Из неё следует, что Хлебников работал в Баку в Азкавросте, где числился лектором Политотдела Волжско-Каспийской флотилии, задолго до встречи с Абихом. Таким образом, командировку с рекомендацией привлечь его к лекционной работе в Баку он мог получить от харьковского Поюга.
В дальнейшем Политотдел Волжско-Каспийской флотилии направил Хлебникова в Персию. Он числился военным корреспондентом при штабе одной из крупных воинских частей, которые в соответствие с шестой статьёй Советcко-Персидского договора о дружбе от 26-го февраля 1921 года высадились на иранском побережье.
Кадровое решение работников Политотдела не принесло им ожидаемых результатов. Хлебников был абсолютно неприспособлен для такого рода деятельности. От его корреспондентства не осталось никакого следа. Подозреваю, что он вообще не приступал к исполнению своих обязанностей. Зато Велимир окунулся в гущу событий, оставивших заметный след в его творчестве.
В то время Персия была охвачена гражданской войной и разделилась на зоны с противоборствующими властями. Воинская часть, к штабу которой был прикомандирован Велимир, оказалась в зоне, контролируемой наиболее враждебной нам политической группировкой. Именно здесь реакционное мусульманское духовенство объявило Газават (священную войну) не только русским войскам, но и всем русским вообще.
Однажды Хлебников бродил по пескам подле штаба. Среди барханов стояло одинокое дерево. Контур его тени чем-то заинтересовал Велимира. Он подошёл к дереву, лёг на песок так, чтобы тень накрыла голову, и вскоре уснул. Тем временем штаб снялся с места, чтобы перебазироваться. Никто из штабных не обратил внимания на отсутствие Хлебникова — он никому не мог понадобиться и только смущал своим неизменным молчанием.
Солнце переместилось, тень ушла, голову стало припекать. Велимир открыл глаза и увидал вокруг себя черноволосых, черноглазых и чернобородых людей, которые пристально на него глядели. Он безотчётно улыбнулся своей простодушной детской улыбкой. И произошло чудо: ненавидящие глаза потеплели. Никто из чернобородых не тронул Хлебникова. Только забрали винтовку. А потом один из чернобородых тихонько подтолкнул его в спину. Этот жест означал: „Иди с миром. Мы тебя не тронем”. Но Хлебников принял его за указание направления, в котором ушли свои, и отправился догонять.
Окончательно заблудившись, он прошёл почти через всю Персию, питаясь брошенными в песках арбузными корками и случайными подачками, которые ему с почтением вручали персидские дехкане, когда он проходил мимо их поселений в песчаной пустыне.
Несмотря на речевой барьер и непривычное обличье светловолосого путника, эти простосердечные люди приняли Велимира за святого и называли его гуль-мулла, что по-русски значит священник цветов.
Каким-то чудом Хлебников добрался до границы Персии и подошёл к нашим пограничникам у переправы через обмелевшую речку. Им он предъявил свое удостоверение военного корреспондента и благополучно вернулся на родину.
При содействии местных властей Хлебников добрался до Баку, откуда энергичный Абих сумел переправить его в Москву.
Мне кажется, в этом аспекте следует особо выделить воинствующий атеизм Хлебникова. Уже в 1919 году из дали времён, где предстоящее уже давно свершилось, он увидел земледельца таким:
Весьма показательно и его напутствие воображаемому пешеходу, который движется наугад в иной мир:
В 1920 году Хлебников переносит описание божьих деяний непосредственно в область услуг всевышнего богатым и сильным мира сего:
От богоборческих стихов Хлебникова перейдём к его странным поступкам. Странным для представителя передовой русской интеллигенции первой четверти XX века: Велимир предоставил Керенскому и Вильсону пропуск в Правительство звезды.
Напомню, когда и при каких обстоятельствах это произошло.
Через два месяца после Февральской революции Керенский подписал декрет об отмене в России смертной казни навсегда. Декрет потряс не только Хлебникова, но и тысячи образованных русских людей. Почти одновременно была опубликована декларация Вильсона о так называемой свободе морей. Жонглируя двусмысленными терминами, толкователи этой декларации заявляли, что все моря отныне ничьи, за отдельными государствами закрепляется только узкая прибрежная полоса, и этим устраняются бесконечные конфликты, перерастающие в войны.
Но личину всепланетного миротворца Вильсон проносил недолго. В первые же недели Октябрьского переворота он возглавил коалицию врагов республики Советов. И тогда, вместе с множеством русских интеллигентов, прозрел и Хлебников. Керенского он раскусил ещё раньше. Отменённую навсегда смертную казнь вскоре восстановили, и все усилия возглавляемого Керенским Временного правительства были направлены на продолжение чуждой народу войны. С этого времени Хлебников стал называть Керенского но иначе как „главнонасекомствующим на солдатской шинели”.
Однажды Григорий Николаевич Петников рассказал мне забавный случай времён его с Хлебниковым пребывания в Петрограде.
В середине августа 1917 года, то есть за два с лишним месяца до Октябрьского переворота, Хлебников позвонил в Мариинский дворец, где тогда находилась резиденция Керенского. Трубку поднял некто, назвавшийся адъютантом Керенского. Хлебников настоятельно попросил позвать к аппарату Александра Федоровича. Адъютант ответил, что в Керенского на месте нет, и полюбопытствовал, с кем имеет честь говорить. Хлебников ответил: „Звонят из артели грузчиков. Когда приезжать за вещами Александра Фёдоровича и куда их везти?”
Никогда прежде склонности к розыгрышам у Хлебникова не наблюдалось. А издёвка эта — ста шутникам не по уму. Как, впрочем, и всё остальное у Хлебникова.
Моё повествование подходит к концу. Остаётся выяснить: где же пресловутая “заумь”?
Десятки лет вузовские учебники по русской литературе клеили на Хлебникова один и тот же ярлык: автор заумных стихов. Кому и зачем понадобилось так односторонне упрощать (чтобы не сказать извращать) творчество выдающегося русского поэта?
В своих мемуарах я привёл немало его строк, самостоятельных строф и даже отдельных стихотворений. Нигде и намёка на “заумь”.
Так что, вообще никакой “зауми” у Хлебникова нет? Есть, и он сам об этом поведал. Исканиям в области стихосложения отдана немалая дань, чему свидетельством знаменитый степановский пятитомник. Но следует помнить, что Хлебников экспериментировал одновременно в десяти направлениях, и опыты по созданию заумных слов проводил наряду с прочими. Эксперименты продолжались около года, со второй половины 1909 года по середину 1910-го. Правомерно ли этот короткий отрезок времени противопоставить семнадцати годам творческой жизни Хлебникова?
Обратимся, например, к языковому строю поэм «Ночь перед Советами», «Ночной обыск» или «Настоящее». В «Ночи перед Советами» поражает точная передача языка старой крестьянки, очевидицы крепостного права и дикого самоуправства помещиков. «Ночной обыск» говорит колоритным матросским языком времён Октябрьской революции. Со всей ответственностью заявляю: если бы не эта поэма — не только наши потомки, но и мы, современники, не сохранили бы в памяти подлинную атмосферу той легендарной эпохи.
Недавно в беседе со мной один крупный литературовед счёл недостатком «Ночного обыска» множество повторов у Старшого. Я возразил ему, что это не изъян, а гениальное воспроизведение речи пьяного. Во хмелю человек иной раз так восхитится своим словам, что готов повторять их до бесконечности.
В поэме «Настоящее» Хлебников удачно передал выкрики отдельных людей, слышимые на фоне запевок в толпе бунтарей, идущих на штурм буржуйских дворцов. Эти выкрики Тай-тай-тара-рай! весьма своеобразны, однако никакой “зауми” в них нет.
Чтобы завершить разговор о сопоставлении Хлебникова с представителями русской интеллигенции первой четверти ХХ века, необходимо хотя бы вкратце остановиться на его взаимоотношениях с поэтами не из стана будетлян.
Известно, что Хлебников — впрочем, и Маяковский тоже — отвергал с порога иностранщину и манерные выкрутасы Игоря Северянина. К символистам как старшего, так и молодого поколения Хлебников относился весьма сдержанно, ко многим даже отрицательно. Исключение делалось только для Александра Блока и Вячеслава Иванова.
Наибольшее неприятие вызывали у него стихи Фёдора Сологуба, в особенности знаменитые «Чёртовы качели». После фамилии Ремизов Велимир ставил тире, а затем вписывал поясняющее слово: насекомое.
Совершенно иначе относился он к Сергею Городецкому. Это имя неведомо нынешней молодёжи. Я не нашёл его даже в Большой советской энциклопедии. А ведь в 1908–1914 годы каждые восемь из десяти читателей в России знали наизусть:
Без этого весёлого стихотворения не ощутить обстановку первых двух десятилетий XX века в деле писания и потребления стихов. Всё тогда упиралось в вопрос преемственности поколений.
Известно, что Маяковский, отвечая на вопрос о влиянии на его творчество поэтов прошлых лет, ответил, что не является Ивано-непомнящим и назвал своим предтечей автора популярного стихотворения «Слушай!»
Хлебников в одном из писем Сергею Городецкому признаётся, что всё предыдущее лето проносил за пазухой его первый сборник стихов «Ярь».16![]()
Об этом письме и об отношении к Городецкому Велимир мне рассказывал сам.
По возвращении в Москву из Средней Азии осенью 1929 года я тщетно искал в книжных магазинах и библиотеках какой-нибудь сборник стихов Городецкого. Даже самые опытные букинисты не смогли в этом помочь.
Завершив осенью 1940 года съёмки первого в мире полнометражного стереофильма «Земля молодости», предназначенного для просмотра без очков посредством проецирования на растровый (тогда ещё проволочный) экран изобретателя С.П. Иванова, я на полгода стал знаменитостью. По указанию Политбюро ЦК КПСС фильм был показан всему составу дипломатического корпуса и всем аккредитованным в нашей стране иностранным корреспондентам и получил широкий отклик не только в советской прессе, но и во множестве европейских периодических изданий.
Купание в лучах славы приятно разнообразила путёвка в «Сосны», подмосковный санаторий для избранных. Там и произошла моя встреча с Самуилом Яковлевичем Маршаком.
Естественно, вскоре после нашего знакомства зашёл разговор о Хлебникове, и Самуил Яковлевич рассказал один случай из его недавней поездки по стране.
В те годы скорый поезд Владивосток–Москва шёл десять суток. Маршак занимал верхнюю полку в двухместном купе первой категории международного вагона. Его соседом оказался неразговорчивый скромный старичок. В первые двое суток общение сводилось к вежливым репликам вроде: „Кажется, проводник разносит чай. Вам заказать ещё стакан?” Или: „Не беспокойтесь, пожалуйста, мне вовсе не тесно, я привык так располагаться внизу” и тому подобное.
Но вот старичок осмелел и спросил:
— У вас постоянно в руках томик стихов Хлебникова. Вам нравится этот поэт?
— Да, — ответил Маршак. — Я его очень люблю.
— А я старомодный человек, и Хлебникова не понимаю, — с грустью сказал старичок. — Между тем я его знавал. Я профессор математики Казанского университета. А он был студентом математического отделения естественного факультета. Способным, очень способным. Должен вам сказать, не одни только нынешние педагоги общаются со студентами вне стен университета. И в наше время устраивались встречи на частных квартирах, где студенты выступали с рефератами на интересующие их темы. С обсуждением и жаркими спорами. Иногда приходил и Хлебников. Удивительно, что при его появлении все вставали. И я вставал. Ординарный профессор вставал перед студентом второго курса, желторотым мальчишкой! До сих пор не понимаю: почему? Это непостижимо!
Догадаться, что спутником Маршака в поезде оказался заслуженный профессор Казанского университета А.В. Васильев, не составило труда: его монография «Целое число» была моей настольной книгой с 1924 года. Девятая страница — мистика вавилонских жрецов, считавших священным число 60, что привело к делению окружности на 360° и величине прямого угла в 90°. Именно то, о чём Велимир мне говорил. С каким же вниманием вслушивался он в лекции своего прославленного учителя!
Возвращаюсь к непостижимому поведению профессора Васильева, который почему-то вставал вместе со студентами при появлении Хлебникова на семинарах, проходивших приватно. Этот позыв встать я не раз ощущал сам и наблюдал у окружающих. Пожалуй, наиболее показательно поведение Маяковского.
Я много раз бывал на его выступлениях перед массовой аудиторией и всегда поражался находчивости и самообладанию. Казалось, ничто не могло смутить Маяковского. Достаточно было поданной из зала насмешливой реплики или ядовитого вопроса — и он в мгновение ока уничтожал противника остроумным ответом, вызывая всеобщий хохот.
— Ну и нахал, — перешёптывались его недруги, но громко возмущаться трусили.
Но я видел и другого Маяковского.
Случилось это в Москве, за два с небольшим месяца до безвременной смерти Хлебникова в деревне Санталово. Я жил тогда вместе с Катаевым и Олешей в квартире Ольги Николаевны Фоминой в Мыльниковом переулке (район Чистых прудов). В один из последних дней апреля Хлебников меня навестил, пригласив сходить к его хорошим друзьям, с которыми следует меня познакомить. Я согласился, и мы отправились.
В доме, куда мы пришли, был и Маяковский.
Должен признаться, что имею хорошую память на сложные философские тексты, математические формулы и стихи, но абсолютно неспособен запомнить с первого раза фамилии и адреса новых знакомцев. Не могу простить себе, что не записал тогда, куда и к кому мы с Велимиром ходили. Поэтому не могу сверить своё впечатление от увиденного с воспоминаниями других очевидцев. А такая сверка была бы нелишней, ибо моя память сохранила нечто неправдоподобное: Маяковский был неузнаваем.
Он смущался по каждому поводу, иногда говорил еле слышно и совсем замолкал каждый раз, взглянув в сторону Хлебникова.
Этот наш с Велимиром поход в гости оказалася последней встречей. В десятых числах июня я получил письмо Митурича, который извещал о тяжёлой болезни Хлебникова и просил приобрести и отправить посылкой в деревню Санталово катетер для удаления мочи при остановившемся мочеиспускании. Следовало также добиться указания из центра об остановке пассажирского поезда у ближайшего к деревне Санталово полустанка, чтобы отправить больного в Москву.
Сличив с календарём дату отправки, я с тревогой обнаружил, что письмо пришло на девятый день.
Случилось так, что у меня не было ни копейки. Я бросился занимать деньги на покупку катетера у знакомых. Только к вечеру удалось застать дома сослуживца, который одолжил двадцать рублей. Аптекарские магазины были уже закрыты, а в аптеках катетеры не продавались. На следующее утро я возобновил поиски. Сложность была ещё и в том, что я не мог назвать служителям аптекарских магазинов тип и размер катетера — Митурич ничего этого не сообщил. Руководствуясь собственной интуицией, я решил просить детский катетер. Раздобыв его, не теряя ни часа, отправил посылку из Центрального почтамта в адрес Митурича.
В тот же день мне удалось прорваться к Анатолию Васильевичу Луначарскому. Я изложил ему ситуацию и просил добиться указания соответствующих учреждений об остановке пассажирского поезда на полустанке около деревни Санталово и известить об этот Митурича телеграммой-молнией.
Луначарский объяснил мне, что не имеет права вмешиваться в работу железнодорожной сети, а запрос его по такому поводу в правительство приведёт к большой потере времени на оформление соответствующего решения. Обращение же к Ленину было исключено, поскольку тот был болен, и к нему никого не пускали.
Я тогда не знал, что заболевший Хлебников требовал, чтобы Митурич не просил помощи у Маяковского, а обратился ко мне и к С. Городецкому, что Митурич и сделал. Написал он и двум друзьям Хлебникова в Петроград.
Как выяснилось впоследствии, Городецкому удалось использовать свои связи. При помощи именитых знакомых он добиться указания соответствующих органов об остановке поссажирского поезда у названного Митуричем полустанка. Но всё это ничему не помогло, потому что Хлебников к тому времени уже умер.
Встретив Митурича после его возвращения в Москву, я спросил его, почему он не послал мне телеграмму, а отправил своё сообщение заказным письмом. Митурич мне объяснил, что с трудом наскрёб у знакомых ему деревенских людей недостающие копейки для отправления не одного, а четырёх заказных писем, и что после этого он долго оставался с женой и детьми совсем без денег. Тогда я упрекнул его:
— Как же вы могли, зная свой скудный бюджет, везти в такую глушь Велимира?
На этот вопрос Митурич мне ничего не ответил. И всё же я не хочу и не имею морального права в чём-либо обвинять Митурича, кроме сделанной им случайной ошибки, по которой он увёз Велимира в Санталово.
Более преданного и самоотверженного друга, чем Митурич, у Хлебникова не было во всю его жизнь. Чтобы в этом все могли убедиться, давно пора опубликовать его мемуары о последних днях жизни Хлебникова в деревне Санталово. Для устранения крутого перекоса в оценке действительных фактов, вызванного неприязнью Митурича к Маяковскому и ко всем “лефакам”, как он называл его соратников, считаю целесообразным дополнить мемуары Митурича комментарием В. Катаняна. Экземпляр незадолго до своей смерти Катанян передал мне, и я тщательно его берегу.
Подобный комментарий подготовлен и мной. Тянуть с публикацией мемуаров Митурича и наших с Катаняном комментариев не следует. Могут потребоваться дополнительные пояснения к этим уникальным и весьма важным документам, а я на восемьдесят втором году жизни.
Автором первого некролога Хлебникову был Сергей Городецкий. Он убедительно и с большой теплотой отметил крупный вклад Хлебникова в сокровищницу русской поэзии. Вслед за Городецким откликнулись и соратники Хлебникова раннего периода русского футуризма. Но сильнее и глубже всего меня захватило посвящённое памяти Велимира стихотворение Тихона Чурилина, которым я хочу закончить своё повествование о Хлебникове.
Вот это проникновенное и необычное стихотворение Чурилина:
В.М.
 Андриевский Александр Николаевич. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Член КПСС с 1920 г.
Андриевский Александр Николаевич. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). Член КПСС с 1920 г.| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 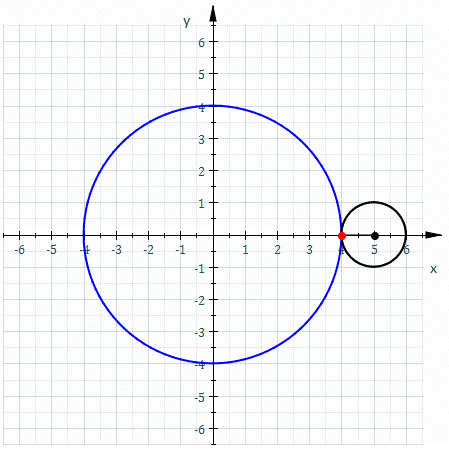 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||