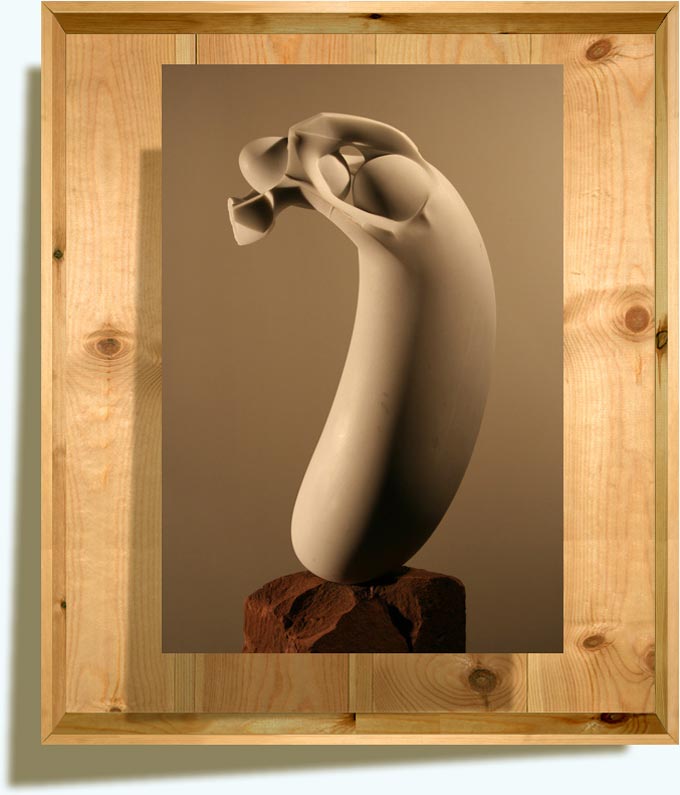
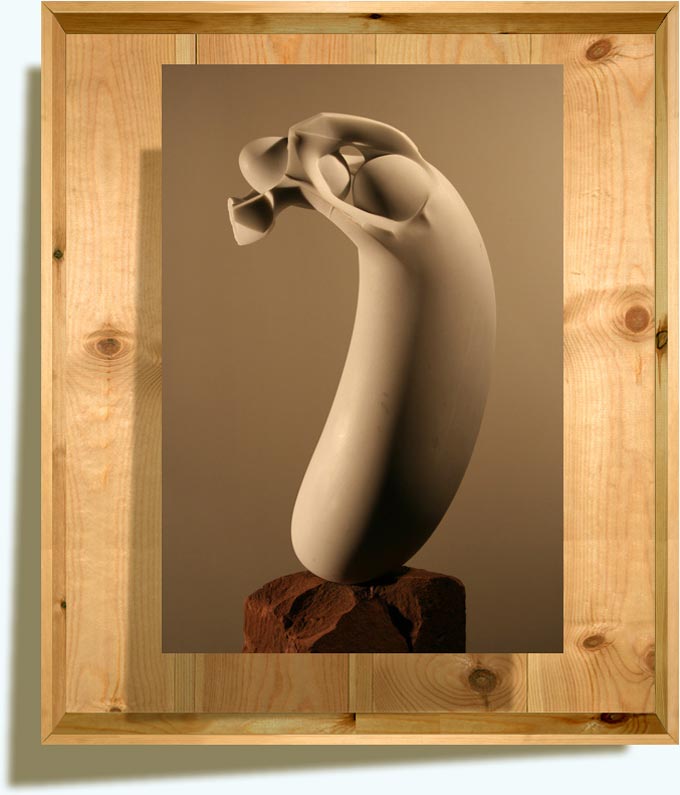
В «Кузнечике», в «Бобеоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его весёлый плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова.1![]()
К таким малым произведениям относится стихотворение Хлебникова, не столь известное, как «Заклятие смехом», но не менее значительное и так же стоящее в ряду его “заклятий” (Заклятие могуществом, Заклятие множественным числом, Заклятие двойным течением речи и др.). Его можно назвать “Заклятие именем”.
На первый взгляд оно представляется фрагментарным и противоречивым. Прежде всего вместо обычной двухчастной структуры фольклорных заклинаний мы видим только первую (условно говоря, “эпическую”) часть, а вторая (“лирическая”) отсутствует. Поэтому тема стихотворения, не выраженная эксплицитно, не даёт ясной опоры для установления связи между “заклятием” и “именем”. Какова же тема стихотворения и в каком качестве здесь взяты Достоевский, Пушкин и Тютчев?
Для буквального прочтения достаточно лишь пояснить примененный здесь метод неологизирования. Обычный хлебниковский метод состоит в том, что к корню (или основе) одного слова прививается формальная часть другого. В подобных словообразованиях важны не отвлечённые значения морфем, а именно ощущение гибридности, присутствия двух смыслов, дающих третий, как в нестёршемся тропе. Такие словообразования принципиально метафоричны (или метонимичны) и имеют сугубо окказиональную семантику, определяемую контекстом. Самим Хлебниковым этот метод осознавался по аналогии с приёмами пуантилистской живописи, где два чистых цвета, положенные рядом, на определенном расстоянии дают колеблющееся ощущение третьего.3![]()
Следовательно, достоевскиймо можно понять как сопряжение Достоевский и письмо (в значении “стиль”, “литературная манера”, “словесно-образная форма”), где понятие “писать” заменено именем писателя.4![]()
Соответственно пушкиноты — как сопряжение Пушкин и красóты (также в значении “словесно-образная форма”), где понятие “красота” заменено именем “творца красоты”, именем поэта, “художника”.5![]()
Но буквальным прочтением текста мы, очевидно, не можем ограничиться. Как его следует понимать?
Вправе ли мы толковать это стихотворение как импрессионистически-метафорический “пейзаж русской литературы”,6![]()
Основания для этого как будто бы легко найти и в творчестве Достоевского, Пушкина, Тютчева, и в поэтической рецепции их “сумеречности”, “солнечности” и “звёздности”. Так (возьмем ближайшие и несомненно известные Хлебникову примеры), Вячеслав Иванов неоднократно говорил о “тусклых сумерках” мира Достоевского, о том, что „‹...› он такой тяжёлый подземный художник, и так редко видимо бывает в его творениях светлое лицо земли, ясное солнце над широкими полями, и только вечные звёзды глянут порой через отверстия сводов ‹...›”.7![]()
![]()
Однако подобное метафорически-импрессионистическое толкование стихотворения Хлебникова всё-таки недостаточно. Главным образом потому, что предметом созерцания здесь является не литература, не мир слова, а мир природы. И Достоевский, и Пушкин, и Тютчев взяты для описания “сумерек”, “полдня”, “ночи”.
Может быть, естественнее рассматривать его в традиции натурфилософской лирики, прежде всего лирики Тютчева?
Для этого имеются не менее веские основания. Строки:
прямо восходят к стихотворению Тютчева «Как океан объемлет шар земной»:
На образную систему тютчевской лирики ориентирована и рифма тучи — Тютчев. Впервые это звуковое сближение использовано Хлебниковым в реплике Рыжего поэта в пьесе «Маркиза Дэзес» для косвенного описания месяца, восходящего к тютчевской метафоре “месяц-поэт”:11![]()
Несомненно, Тютчев был для Хлебникова исходным моментом, той ступенью, на которой он основывал своё построение.
В таком случае не вправе ли мы толковать наше стихотворение как антропоморфный пейзаж?
Свойственное вообще поэзии “одушевление” в крайнем выражении дает два основных типа антропоморфного пейзажа. Условно их можно определить: “пейзаж-душа” и “пейзаж-лик”. Первый преимущественно ориентирован на музыку, второй — на изобразительное искусство.12![]()
“Пейзаж-лик” часто встречается у Хлебникова. Например, в стихотворении «На родине красивой смерти Машуке»:
Примерно в этом же плане хлебниковское “Заклятие именем” было воспринято и усвоено Маяковским, вообще усиленно применявшим антропоморфный пейзаж, особенно в ранний период. Непосредственным резонансом (осложнённым эпатажной функцией) можно считать его стихотворение «Ещё Петербург».13![]()
Однако, возвращаясь к стихотворению Хлебникова, нельзя не увидеть, что оно выпадает из этого плана, никоим образом не укладываясь в рамки антропоморфного пейзажа. Достоевский, Пушкин, Тютчев в том смысле, в каком они даны здесь, лишены всякой антропоморфности, даже самой отвлечённой, необходимой для такого пейзажа. Достоевский, Пушкин, Тютчев здесь только имена. И пейзаж, созерцаемый здесь, увиден как бы сквозь призму этих имён.
Что же увидено? Во-первых, не одна неподвижная картина, а три последовательно сменяющиеся картины, являющие три состояния видимого мира в зависимости от положения земли относительно солнца. Несколько огрубляя, можно сказать, что в первой земля погружена в тень тучи, закрывающей солнце, во второй солнце в зените, полная освещённость, в третьей солнце в надире и земля погружена в собственную тень, открывающую звёздное небо.
Во-вторых, последовательность этих картин дана не линейно, а иерархически, как три ступени восхождения, как три степени “просветленности”. Последовательное “снятие завес” открывает за тучей солнце, за “дымом палящих солнечных лучей” звёзды, и — тютчевская „бездна нам обнажена”.
В-третьих, эти диалектически сменяющиеся картины интегрируются в единую картину видимого мирового пространства, взятого вне времени, в чистом становлении. Поэтому термин “пейзаж” здесь нужно понимать весьма широко — как весь космос, доступный непосредственному созерцанию.14![]()
Итак, не импрессионистический пейзаж русской литературы, не антропоморфный пейзаж, а интегральная картина видимого космоса сквозь призму “собственных имен русской литературы”. Как это можно понять? По-видимому, так, что перед нами космос в его эстетическом аспекте.
Рассматривая проблему эстетического в природе, Владимир Соловьёв писал, что порядок „явления красоты в мире соответствует общему космогоническому порядку ‹...› Говоря об этой красоте, мы разумеем собственно лишь световые явления, происходящие в пределах доступного нашим взглядам мирового пространства ‹...› Этот общий смысл раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты — солнечной, лунной и звездной”.15![]()
В отличие от него Хлебников, в своей трихотомии космоса исходивший из естественно-физического соотношения источника света и преграды, исключал из этой системы луну, хотя ассоциативно она присутствует в картине ночи (Тютчев туч).
В системе Хлебникова три степени “просветленности” порождают соответственно три мира — земной, солнечный и звёздный и, следовательно, три эстетические сферы. Им соответствуют три имени. Метаморфоза имен (достоевскиймо — пушкиноты — Тютчев) также дана как три фазы, три ступени восхождения имени: в первом остро ощущается его составной, связанный характер, во втором центр тяжести перемещается на первую часть, в третьем — чистое имя.
В каком же значении нужно понимать эти имена? Очевидно, не в личностном, не в портретном, а в мифопоэтическом. Тютчев, скажем, знаменует здесь не имя этого человека, а имя мира, созданного его творчеством. В мифопоэтической эстетике имя писателя есть символ его мира понимаемого как миф. Таким образом, мир Достоевского здесь тождествен миру земному, мир Пушкина — миру солнечному, мир Тютчева — миру звёздному.
Словарь русских писателей внешне использован Хлебниковым в той же функции, что и мифологический словарь в классической поэзии. Например, у Тютчева:
Но эстетический смысл хлебниковского мифологизирования гораздо глубже, и словарь писателей взят не просто в качестве высокой лексики, соответствующей объекту описания. Устанавливая прямые соответствия между поэзией и космосом, Хлебников, безусловно, исходил из мифологической концепции искусства. В таком контексте Достоевский — не что иное, как “бог” земного мира, Пушкин — “бог” солнечного мира, Тютчев — “бог” звёздного мира. Но за этим стоит второй, более важный момент. Почему, скажем, здесь не использован словарь художников, словарь музыкантов и т.п.? По-видимому, ответ должен заключаться в том, что имя писателя — это имя мира, построенного из слов, это слово слов, имя имён. Только таким способом и мог быть выдержан принцип соответствия и иерархическая цельность конструкции.
Перед нами, следовательно, интегральная картина космоса, воплощённого в имени в его предельном выражении. Или, другими словами, ономатоморфный пейзаж.
Но это ещё не все. Перед нами ономатоморфный пейзаж в форме заклятия. Теперь легко увидеть, что противоречия здесь нет. Наоборот, заклятие как раз и является адекватным выражением такого понимания имени. Магический акт, как мы его сейчас “поэтически” понимаем, как раз и состоял в назывании имени, ибо древние „в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой”.16![]()
Для поэта нет никакого другого средства познать и выразить мир, кроме слова. Потому-то для поэтического сознания весь мир есть слово, имя (как для живописца — цвет, для музыканта — звук и т.д.); все бытие с точки зрения его осмысленности и выраженности есть разная степень смысловой напряжённости слова. Для поэта понять мир означает “найти” слово, “подняться” до имени; как писал Хлебников, для поэта все лишь ступог17![]()
![]()
До сих пор речь шла лишь о трёх строках четверостишия, устанавливающих сетку соответствий мира природы и мира слова. Теперь следует поставить вопрос об объединяющем принципе, на котором основаны эти соответствия. В чём принцип гармонии, или “согласие разногласного?” Как нужно понимать заключительную строку?
В её истолковании мы можем опереться на заключительные строки другого стихотворения Хлебникова, также построенного на соответствиях, но в более откровенном, даже демонстративном виде:
Итак: мера, ритм, число, уравнивающее творческую силу бога и поэта, Вселенную и Наташу, горничную старухи Волконской. Мера управляет космосом и “волхвует словом”, потому-то и возможно сопоставление космических явлений и искусства, мира действительного и мира воображаемого. Мера и есть принцип гармонии, “лад мира”, его “ось”, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца (СП, V, 243).19![]()
Замерное и безмерное, очевидно, предполагают наличие мерного. В таком случае земной мир (Достоевский) — мерный; солнечный мир (Пушкин) — замерный, т.е. обладающий другой мерой;20![]()
Сказанного достаточно для общего понимания стихотворения. Но перед нами не отвлечённая конструкция, а живой организм, малый мир слова, существующий в каких-то отношениях с миром природы. Как же устроен микрокосмос этого четверостишия?
Для ритмической структуры стихотворения прежде всего существенно ямбическое распределение ударений и отсутствие изосиллабизма. I и II стихи можно интерпретировать как пятистопный ямб, III стих — как трёхстопный, а IV — как четырёхстопный ямб. Но самое существенное в этом стихотворении — изотонизм (трёхударность), играющий конструктивную роль, что подчёркивается сверхсхемным ударением на первом слоге III стиха (ночь).
При всей цельности четверостишия, объединённого перекрёстной рифмовкой (АВАВ) и общим для всех стихов акцентом на шестом слоге, можно заметить противопоставленность “длинных” стихов (общий акцент на 10-м слоге) стихам “коротким” (общий акцент на втором слоге) и перекличку первого и четвёртого стихов (общий акцент на восьмом слоге). Следует также отметить любопытное передвижение общего акцента на шестом слоге: в I стихе — первое ударение, во II — второе, в III — третье, в IV — снова второе. Если взять за ось симметрии шестой слог, то окажется, что II и IV стихи (рифмующие) лежат в центре, I стих сдвинут вправо, а III — влево, образуя ступенчатое построение.
Еще более семантизирована фоническая структура четверостишия. Что касается консонантизма, то он, не играя здесь конструктивной роли, по-моему, даже несколько ослаблен в сравнении с обычным хлебниковским уровнем. Но зато вокализм обнаруживает совершенно поразительные свойства.
Под ударением встречаются только три гласных: [э] — 3 раза, [у] — 3 раза, [о] — 6 раз. Они же дают около 70% от общего количества гласных в стихотворении. Этот ряд [э] — [о] — [у], по-видимому, можно рассматривать как гармонический ряд, в котором центральное положение занимает [о]. Причем [э] и [о] объединяются как гласные среднего подъёма, [о] и [у] — как гласные заднего ряда. Каждый стих состоит из 1 + 2 гласных, причем сочетание [э] — [у] не встречается.
Прежде всего необходимо отметить симметрию первых трёх стихов (“зеркальность” I и III) и параллелизм III и IV стихов, одинаковых по схеме и различных по составу, затем перекличку рифмующихся стихов, одинаковых по составу, но различных по схеме.
Ещё более убедительно выглядит органическая цельность вокалической структуры стихотворения в динамической развёртке.
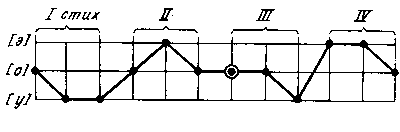
Схема движения гласных представляет почти полную обратную симметрию, центр которой — первая гласная III стиха, т.е. [о] в слове ночь, на которое падает единственное сверхсхемное ударение! Таким образом, на этом односложном слове как бы сконцентрирована вся ритмическая и фоническая энергия стихотворения. И это понятно, ибо ночь как раз и является его образным центром.21![]()
Об отношении Хлебникова к фонической структуре поэтической речи можно судить хотя бы по его статьям 1913 г. «Воин ненаступившего царства... » и «Разговор Олега и Казимира», где говорится об остове мысли внутри самовитной речи — лучах звука, сквозящего сквозь слова (СП, V, 187) и разбираются закономерности звукового строения некоторых его собственных стихов.
И особенно значительна в этом отношении его статья «Второй язык» (1916 г.), специально посвящённая проблеме соответствия фонической и семантической структур поэтического текста. Наблюдая числовой закон звукового построения пушкинского «Пира во время чумы» и лермонтовских «Тамары» и «Демона», Хлебников выдвигал гипотезу о втором языке песен, т.е. о системе звуковой символики. Переход от количественных отношений в стихе (ритмический уровень) к качественным (словесно-образный уровень) осуществляется на звуковом уровне, который с этой точки зрения является центральным моментом стиха. Простые имена языка (согласные и гласные) в стихе живут как бы двойной жизнью: числа и слова, поэтому Хлебников и называл их числоимена. Таким образом, всякая стихотворная структура — по Хлебникову — членится на три основных уровня: числовой, числоименной и именной (словесный).
В «О, достоевскиймо... » трихотомический принцип отчётливо наблюдается на всех уровнях структуры: трёхударность на ритмическом уровне, троегласие на фоническом уровне и троесловие на лексическом,22![]()
Следовательно, само стихотворение принципиально тождественно космосу в его актуальном смысле. Подобно античному мифологическому космосу микрокосмос стихотворения „устроен числом и явлен в своём имени”.23![]()
Проблема космоса в его эстетическом аспекте получает последовательное разрешение в мифопоэтическом слове. Такое слово основано на диалектическом тождестве микрокосмоса стихотворения (отдельного поэтического произведения), космоса поэзии и макрокосмоса природы.
Именно поэтому остановиться на трёх именах “заклятия” нельзя. Поэтическая диалектика требует выхода в иной мир, требует новой ступени, требует ещё одного имени. Имя это не названо, но должно угадываться в перспективе построения. Если Достоевский, Пушкин и Тютчев — это имена имён, то подразумеваться должно имя имён имён. Понятно, что таким именем “третьего порядка” может быть имя только самого автора. Ср. в стихотворении «Единая книга»:
Правильность такой перспективы подтверждается текстом четверостишия, который приведён Р. Якобсоном:
Последний стих, по-видимому, следует рассматривать не столько как вариант, сколько как продолжение: мерное — замерное — безмерное — замирное, где изменение корня знаменует выход в иной поэтический мир и соответствует четвёртому, подразумеваемому имени. Это имя и есть отсутствующая, “лирическая” часть заклинания.
И наконец, последний вопрос: каков же историко-литературный смысл хлебниковского «Заклятия именем»?
Для того чтобы его понять адекватно, необходимо принять во внимание не только его утверждающий аспект, но и его скрытую полемичность. В поле зрения нужно включить и ещё одно имя — Верлен, но уже под знаком отрицания.
Отношение Хлебникова к Верлену (как и вообще к новой французской поэзии) было достаточно сложным. С одной стороны, в его творчестве видны следы внимательного изучения французских поэтов (кроме Верлена, особенно Бодлера и Верхарна), с другой — везде присутствует оттенок неприятия. Тем более враждебным было его отношение к их русским эпигонам. В сатире «Карамора № 2», изображая выступление поэта П.П. Потёмкина в редакции «Аполлона», он доводил описание до фантастического гротеска:
Этот отрывок во многом близок пьесе «Маркиза Дэзес», где в реплике Рыжего поэта дан первый намёк на «О, достоевскиймо... ». Здесь же другой намёк дан в реплике Верлена. Дэлямюзик — это, конечно, начало первого стиха знаменитого верленовского «Искусства поэзии».
А канвой для хлебниковского ономатоморфного пейзажа послужил “импрессионистически-метафорический пейзаж” третьей строфы:
На этой канве и строил Хлебников своё искусство поэзии. Верленовской поэтике “намёка”, поэтике “невыразимого” он противополагал поэтику полного выражения, верленовскому требованию “музыки” — “слово” в его максимальной смысловой напряжённости.
Понятно, что хлебниковское “искусство поэзии” было не столько антиверленовским, сколько вообще антисимволистским. Ассоциация с верленовским “искусством поэзии” должна была указывать на принципиально-программный характер стихотворения. Достоевский, Пушкин, Тютчев, взятые на первый взгляд вполне в духе символистских рецепций, в таком контексте, с одной стороны, прямо противопоставлялись Верлену, с другой — получали иной, не “символистский”, а подлинно символический смысл. Вместо алогического “выражения невыразимого” они становились адекватным выражением диалектической цельно-раздельности мира.
Хлебниковское мифопоэтическое “слово”, тождественное “природе”, должно было преодолеть антиномию смысла и его выражения, бывшую еще живой и плодотворной в позднеромантической традиции, но доведённую в символистской эстетике до абсолютного дуализма. Мифопоэтическая эстетика не знает проблемы выражения, поскольку весь бесконечный цельно-раздельный, гармонически устроенный, насквозь пронизанный смыслом мир и есть слово; он принципиально открыт и выразим во всей полноте, со всеми “безднами”.
Проходя “сквозь” символизм, Хлебников оказывался ближе к Достоевскому, Пушкину, Тютчеву, чем к своим непосредственным предшественникам (субъективно в ранний период — даже “учителям”). К нему полностью можно отнести ироническое определение Вячеслава Иванова: Пушкин — „великий словесник, ибо убеждён, что всё в поэзии разрешимо словесно”.27![]()
Ни скрытый полемический смысл, ни пафос новых “поэтических убеждений” хлебниковского “заклятия собственными именами русской литературы” не были по достоинству оценены современниками. Тем не менее, в историко-литературной перспективе оно находится в ряду таких принципиальных явлений, как «Пророк», «Silentium!», «Необычайное приключение».
Своеобразие, трудность и вместе с тем убедительность этого стихотворения заключаются в том, что перед нами одновременно и поэтическая декларация, и поэтическая “вещь”, и поэтический принцип, и его полное воплощение, и философия “слова” и сам живой организм “слова” в его противоречивом единстве. Но это самосознательное, “самовитое” слово лишь “подражает” космосу, являющемуся здесь и предметом изображения, и принципом изображения одновременно. Поэтому не только ввиду верленовского подтекста, но и по существу «О достоевскиймо...», представляющее законченный и наглядный образец интегрально-синтетического метода хлебниковской поэтики,28![]()
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 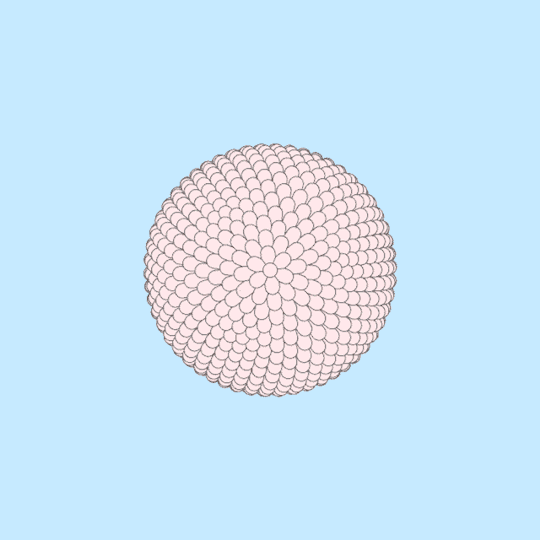 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||