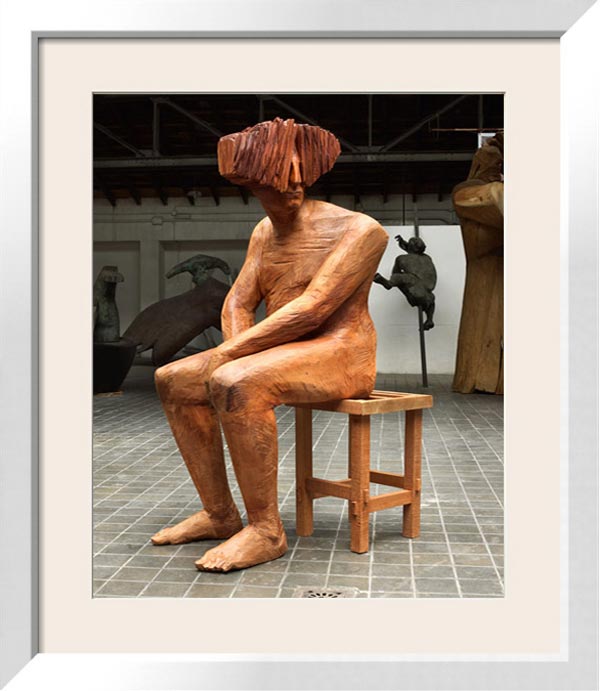
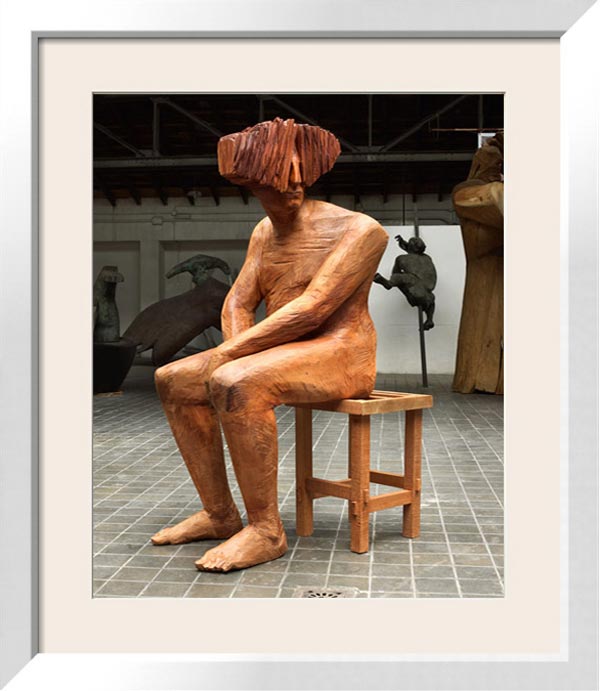
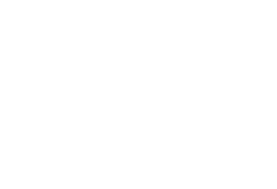 а вопрос, почему пьеса называется «Баня», Маяковский отвечал двояко. Первый ответ: „«Баня» моет (просто стирает) бюрократов“ (XII, 200) — удовлетворил, кажется, всех и надолго остался определением простодушного и прямолинейного „обличительного“ восприятия пьесы. Другой ответ: „Потому что это единственное, что там не попадается“ (XII, 379) — показался, вероятно, обычным маяковским юмористическим „отплёвом“ (выражение Сельвинского) и был прочно забыт. Между тем второй ответ гораздо больше касается существа дела. Он указывает не на предмет, а на метод его восприятия и тем самым на способ его понимания. Баня, конечно, не единственное, чего в пьесе нет, но дело не в этом — название пьесы определяет единственно верную точку зрения на неё. Тут так же, как и в названиях «Владимир Маяковский», или «Мистерия-буфф», или «Клоп», прямо дан принцип интерпретации драмы. И с этой точки зрения в «Бане» действительно важнее всего то, что там предметно „не попадается“.
а вопрос, почему пьеса называется «Баня», Маяковский отвечал двояко. Первый ответ: „«Баня» моет (просто стирает) бюрократов“ (XII, 200) — удовлетворил, кажется, всех и надолго остался определением простодушного и прямолинейного „обличительного“ восприятия пьесы. Другой ответ: „Потому что это единственное, что там не попадается“ (XII, 379) — показался, вероятно, обычным маяковским юмористическим „отплёвом“ (выражение Сельвинского) и был прочно забыт. Между тем второй ответ гораздо больше касается существа дела. Он указывает не на предмет, а на метод его восприятия и тем самым на способ его понимания. Баня, конечно, не единственное, чего в пьесе нет, но дело не в этом — название пьесы определяет единственно верную точку зрения на неё. Тут так же, как и в названиях «Владимир Маяковский», или «Мистерия-буфф», или «Клоп», прямо дан принцип интерпретации драмы. И с этой точки зрения в «Бане» действительно важнее всего то, что там предметно „не попадается“.С одной стороны, пьеса названа «Баней», но с другой — никакой бани мы там не находим. С одной стороны, это “драма”, но с другой — „‹...› с цирком и фейерверком“, то есть прямо балаган, а никакая не драма. С одной стороны, вся коллизия в пьесе развёрнута вокруг “машины” Чудакова, но с другой — эта машина невидима, то есть её как будто бы и нет. С одной стороны, изобретение Чудакова — машина, то есть нечто пространственно-вещественное, но с другой — это машина времени, то есть нечто противоположное всякой пространственности и вещественности. С одной стороны, перед нами как будто бы театр, но с другой — мы видим ещё и театр в театре, так что первый театр уже как будто и не театр, а действительность. С одной стороны, Победоносиков видит в театре самого себя, но с другой — в этом театре он себя не узнаёт, то есть сам себе „не попадается“. И так далее. Короче говоря, во всей пьесе в целом и в каждом отдельном её элементе мы находим несовпадение предмета и его смысла. Самые отвлечённые понятия здесь снижаются, овеществляются, материализуются, и наоборот — конкретнейшие предметы, явления и даже люди развеществляются, дематериализуются вплоть до полного исчезновения.
Больше того. Эта парадоксальная двойственность присутствует в самой работе Маяковского с драматургическим материалом. С одной стороны, «Баня» производит настолько цельное и оригинальное впечатление, что даже такой знаток театра, как А.В. Февральский, обратив внимание на „два-три заимствования из произведений других авторов“, утверждает: „Если вспомнить, какую значительною роль заимствования играют в классической драматургии, то надо будет признать театр Маяковского одним из самых самобытных“. Но с другой стороны, как это будет показано, «Баня» просто переполнена всяческими прямыми и непрямыми литературно-театральными заимствованиями, реминисценциями, аллюзиями — настолько, что в некоторых частях её текст представляется какой-то мозаикой чужих слов, образов и положений. И тем не менее мы их не видим, они нам опять-таки „не попадаются“. Такова эта странная пьеса, с одной стороны — знакомая нам до мелочей, с другой — сейчас уже почти непонятная, веющая иногда каким-то, говоря словами Маяковского, „архаическим ужасом“. Именно поэтому сейчас, полвека спустя после её создания, нам важно увидеть то, что в ней „не попадается“, понять то ближайшее смысловое поле, которым она порождена, и таким образом вскрыть её внутренний смысл.
Структура и проблематика «Бани», сама её сатирическая злободневность таковы, что неизбежно толкают к поискам прототипов или протоперсонажей, на которых ориентированы действующие лица драмы. Различные предположения высказывались сразу же после первых чтений, ещё до постановки и публикации пьесы, и продолжаются до сих пор. Это естественный результат драматургического метода позднего Маяковского. „Каждый персонаж пьесы, — писал он по поводу «Клопа», — чем-нибудь на кого-нибудь обязан быть похожим“ (XII, 194). В ещё большей мере это относится к «Бане». Но если задача “похожести” неоспорима, то решение её — чем? на кого? — в большинстве случаев весьма затруднительно. Не говоря уж о Победоносикове (вызывающем обычно наибольшее любопытство), даже такие второстепенные фигуры, как Исак Бельведонский или Моментальников, далеко не просты. Ни одного из них нельзя возвести к какой-нибудь одной реальной “персоне”. Они — собирательны, и потому решение задачи в принципе не может быть однозначным. На одном из обсуждений пьесы Маяковский говорил: „Оптимистенко тоже образец бюрократа, его дополняет мадам Мезальянсова. Или вот ещё пример — ‹...› это Иван Иванович, который по всякому поводу звонит Сергею Никитичу, а если Сергей Никитич не согласен, то Никандру Федотовичу. А если Никандр Федотович не согласен, то тогда Семёну Пирамидоновичу. Все эти типы вместе должны составить общую фигуру бюрократа“ (XII, 396).
Однако, строго говоря, все персонажи пьесы — и отрицательные и положительные — не характеры и не типы. Слово “тип” Маяковский употребил здесь не в терминологическом, а в разговорном значении, в качестве своего рода местоимения. «Баня», — как разъяснял он сам, — вещь публицистическая, поэтому в ней не так называемые “живые люди”, а “оживленные тенденции” (XII, 200). А следовательно, “похожесть” оказывается моментом вторичным, она — результат “оживления тенденции”. Да, впрочем, ничего иного и не могло быть в пределах метода “тенденциозного реализма”, на котором настаивал Маяковский.
В таком случае на первый план выдвигается не вопрос о “похожести”, а вопрос о “тенденции”. И тут мы сталкиваемся с крайне любопытным и характерным явлением. Оказывается, что степень похожести, оживленности, реализованности персонажей пьесы весьма различна, причём различна не случайно, а вполне отчётливо и структурно осмысленно. Легко заметить, что наиболее похожи, наиболее реализованы персонажи отрицательные (Победоносиков, Оптимистенко, Мезальянсова и т.п.), менее реализованы персонажи нейтральные (Ундертон, Поля, Почкин и т.п.), ещё менее — положительные (Чудаков, Велосипедкин, рабочие, Фосфорическая женщина). Очевидно, степень оживленности является величиной переменной при постоянной тенденции и зависит от положения персонажа в структуре целого. Внутреннюю топографию «Бани» можно представить в виде нескольких концентрических кругов с положительным центром и отрицательной периферией. Чем дальше отстоит персонаж от некоего абсолютного центра, тем более ярко он освещён, тем более подробно обрисован, тем более оживлен и реализован. Потому-то наивное восприятие и обращено главным образом на эту внешнюю, сатирическую сторону пьесы, тогда как её центр остается в тени. Но дело вовсе не в слабости общей идеи и не в бледности персонажей, выражающих утверждающий пафос замысла. Дело тут в специфике самого метода, порождающего такую художественную структуру, в которой положительное и отрицательное противопоставлены со всей плакатной наглядностью и прямотой. Однако их противопоставление не линейно, а иерархнчно. Отрицательным персонажам не столько противостоят персонажи положительные, сколько весь замысел в целом, вся пьеса. Другими словами, если положительные персонажи самоутверждаются в своей близости к центральному смысловому ядру, то отрицательные, наоборот, самоотрицаются в своей удалённости от него. При этом, независимо от степени удалённости или степени реализованности, каждый персонаж непосредственно подключен к целому, для его характеристики несравненно важнее его место в этой иерархии, чем его отношения к другим персонажам. Между собой они входят в контакт только через посредство целого.
Проще говоря, вопрос о драматургическом замысле и методе его воплощения практически встает как вопрос о соотношении сюжета и персонажа. Известные разногласия Гоголя и Щепкина относительно трактовки «Ревизора» — не просто столкновение точек зрения автора и актёра, драматургического замысла и театрального воплощения, но выражение принципиально противоположного понимания самого метода и, следовательно, смысла драмы. Точка зрения Гоголя, по-видимому, достаточно определённо выражена в диалоге двух любителей искусств из «Театрального разъезда»:
Замысел «Бани» прямо развивал гоголевскую концепцию. Но Маяковский, понятно, шёл гораздо дальше. Если поздняя гоголевская “аллегорическая” трактовка «Ревизора» и в соответствии с ней интерпретация драматического пространства как “душевного города”, а персонажей как олицетворённых “страстей” оставалась, во всяком случае, проблематической, то метафорический строй «Бани», конечно, не вызывает сомнений. “Натуральное” толкование её попросту невозможно. В какой реальности можно встретить такие фигуры, как Победоносиков или Понт Кич, не говоря уж о машине времени и Фосфорической женщине? И никакие ссылки на театральную условность или научную фантастику ничего не объяснят, пока не будет понят сам принцип этой условности и этой фантастики.
Парадоксальная двойственность «Бани», как и всего вообще драматического творчества Маяковского, была прямым следствием специфического жанрового оформления его основного эстетического принципа. Содержанием всякой драмы всегда в конечном счете будет воля, стремление и борьба личности, взятой в её становлении. Но о какой или каких личностях можно говорить в связи с «Баней»? Тут есть персонажи, но нет ни одной личности, тем более в движении и становлении. Все они даны сразу и неизменно. Все они не свободны и не самостоятельны, ибо они только части какого-то целого. Их речь — не индивидуальна, это разные речевые конструкции, речевые механизмы, а не живые человеческие голоса. Их столкновения — не борьба личностей, ибо тут не личности выражают себя в стремлении, а, наоборот, стремление выражает себя в этих персонажах, в этих “оживленных тенденциях”. (‘Тенденция’ буквально и значит — стремление.)
Что же получается? Перед нами как будто бы драматическое произведение, но в то же время лишённое своего основного содержания — борющейся, стремящейся, становящейся личности, то есть как будто бы и не драматическое произведение.
Значит, разрешение парадокса надо искать на другом уровне, не внутри драмы, а вне её. Вот это необходимое и как будто отсутствующее драматическое содержание мы находим, конечно, в личности самого автора. И парадокс возникает оттого, что основное содержание всего творчества Маяковского — внутренняя жизнь личности, то есть лирика, — получает не лирическое, а драматическое воплощение. Внутреннее целостное единство лирики проецируется во внешнее пространство драмы с её динамической раздельной множественностью; все столкновения персонажей, все сюжетные коллизии являются объективацией мыслей и чувств личности. Потому-то перед нами и не “живые люди” с их индивидуальными и свободными переживаниями, а “оживленные тенденции”, “олицетворенные стремления” одной-единственной личности — автора. Его воля, становление, борьба и дают нам необходимое драматическое содержание.
Таким образом, единственное, что в «Бане» не попадается, но важнейшее, что там есть, — это личность автора. И как бы странно это ни казалось, надо признать, что «Баня» является не чем иным, как лирической драмой или, точнее, монодрамой. Её драматическое пространство — это концептуальная сфера внутреннего представления. Отсюда особый характер её условности и её фантастики.
Во-первых, всё, что мы видим здесь, все вещи, люди и положения, самые натуральные и самые фантастические, — все лежат в одной смысловой плоскости. Но, во-вторых, поскольку в то же самое время все эти вещи, люди и положения объективированы и материализованы во внешнем драматическом пространстве, постольку все они имеют двойной, метафорический смысл. Вся пьеса в целом есть метафора, то есть буквально “перенесение” — изнутри наружу. И, в-третьих, этим взаимодействием лирического “центра” и драматической “периферии” определяется вся структура пьесы, концентрическая система персонажей и, так сказать, радиальное развёртывание сюжета.
Лирическое ядро «Бани» — проблема времени — “центральная драма персонажей XX столетия”, — как заметил в своих предсмертных записках Эйзенштейн. Проекция лирики в драму осуществляется здесь посредством реализации метафоры в событие, поэтому сюжет пьесы оказывается развёрнутой и сложно разветвлённой метафорой времени. Борьба вокруг изобретения Чудакова дана со всей плакатной грубостью и зримостью как “машина истории”, которая движется сцеплением прошлого с будущим, присутствующими и действующими здесь, в настоящем, в столкновении регрессивной и прогрессивной тенденций.
Одно из основных “поэтических убеждений” Маяковского заключалось в том, что, говоря словами Хлебникова, родина творчества — будущее. Поэтическое и вообще всякое творчество есть изобретение, создание нового, и, таким образом, оно есть не просто проекция будущего, но реальное переживание будущего в настоящем. „Я хочу будущего сегодня“, — говорил Маяковский ещё в 1915 году, и Горький вспоминал об этом в связи с известием о его смерти. Настоящее всегда было для Маяковского ареной напряжённой драматической борьбы за время, борьбы внутренней и внешней.
Поэтому машина времени в «Бане» — не просто изобретение Чудакова, но и метафора самого изобретательства, новаторства, творчества. Ей сюжетно противопоставлена другая машина — бюрократическая, также реализованная в аспекте времени. Если машина Чудакова — „дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность“, то в бюрократической машине, наоборот, реальность превращается в фикции “циркуляров, литеров, копий, тезисов, перекопий, поправок, выписок, справок, карточек, резолюций, отчётов, протоколов и прочих оправдательных документов”, а теория относительности — в “теорию отношений, увязок и согласований” (см. гротескную реализацию метафоры “увязок” и “согласований” во II действии). Так же, как машина Чудакова, бюрократическая машина моделирует некие фундаментальные принципы мироздания:
И Победоносиков, и Оптимистенко, и всё Главное управление по согласованию функционируют как детали этого фантастического механизма фикции:
Или:
Кульминация противопоставления двух машин — последний монолог Победоносикова в VI действии (соответствующий первому монологу Чудакова в I действии):
Здесь противопоставлены не только реальность и фикция двух машин времени, Победоносиков и сам дан как словесная машина, перемалывающая реальность в ничто. И это своего рода заумное речепроизводство противопоставлено футуристическому слову вне быта и жизненных польз. Причём оппозиция зеркально удвоена репликой Победоносикова: „А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрёл? Тормоз Вестингауза он изобрёл? Самопишущую ручку выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал?“ Все эти известные изобретения поставлены в ряд с “рационализацией канцелярии” и, следовательно, получают регрессивные функции.
Кроме бюрократической машины изобретению Чудакова в пьесе противопоставлено множество других механизмов, которые все в конце концов оказываются различными реализациями метафоры времени.
Это прежде всего, конечно, часы. С разговора Чудакова и Велосипедкина об этой „тикающей плоской глупости“ начинается I действие, затем в III действии часам уподоблен театр („Победоносиков. А я вас попрошу... меня не будоражить! Подумаешь, будильник!“), а в V действии Понт Кич предлагает все часы „по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности... и тогда он поверит в коммунизм“. И, наконец, в последнем действии, перед отправкой машины времени в будущее, часы подносит Победоносикову Оптимистенко, а потом, когда они остаются, „скинутые и раскиданные чёртовым колесом времени“, требует обратно:
Сцена эта имеет особое значение, ввиду явной переклички с известным эпизодом из шестой главы поэмы «Хорошо!»:
А также:
Исторический поворот от капитализма к социализму в поэме показан, в частности, как переход часов (метафора времени) в другие руки. В том же значении, очевидно, часы выступают и в последней сцене «Бани», где машина времени вообще соотнесена с революцией (ср. ремарку V действия: „Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых Октябрьских дней“).
Машине Чудакова — „первому поезду времени“ — противопоставлен в пьесе и поезд, на котором Победоносиков собирается отправиться „на возвышенности Кавказа“. Па это указывает совпадение стоимости билетов и суммы, украденной бухгалтером Ночкиным для завершения машины Чудакова. (Ср. также реплику Победоносикова относительно „поезда времени“ в VI действии: „Я останавливаю поезд по государственной необходимости... “, содержащую намёк на случай с А.В. Луначарским, который при отъезде из Ленинграда в 1929 году задержал отправку поезда по личным соображениям — XI, 681.)
К таким же “задерживающим” машинам нужно отнести и телефон („Иван Иванович. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Маленькие недостатки механизма“), и пишущую машинку (ср. телефонный разговор Фосфорической женщины и Ундертон, не вошедший в печатный текст пьесы: „Алло! Кто говорит? — Машинистка. — С машины времени? — Нет, я временная... с пишущей машинки“, XI, 622), и трамвай, о котором диктует Победоносиков во II действии: „Кто ездил в трамвае до 25 Октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чём ездили? В жёлтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек“.
Все эти противопоставления построены с помощью так называемого локального приёма, в соответствии с которым даже такие детали, как увеличение стоимости проезда в трамвае, должны указывать на его отрицательное значение. Сами по себе все эти машины, конечно, нейтральны, но в системе бюрократического механизма они неизбежно приобретают регрессивные функции, подобно тормозу Вестингауза или самопишущей ручке.
Таким образом, сюжет реализуется не только в событиях, не только в персонажах, но и в мелочах, в деталях, в словесных конструкциях, так что пьеса своей сквозной организованностью приближается к структуре стихотворного произведения.
В результате всей этой сюжетной механики перед нами складывается грандиозный образ Машины, которая может быть и мёртвой машиной пространства, если она существует как ставшее, законченное и неизменное, и живой творческой машиной времени, если она существует в непрерывном становлении, изменении и обновлении. Машина может быть и фиктивной “вещью”, и реальной “идеей”.
Тут исходный момент всего замысла «Бани». Об этом свидетельствует первая заготовка к пьесе: „Это до Октябрьской революции был энтузиазм, а теперь материализм и никакого энтузиазма быть не может“ (XI, 565).
В окончательном тексте реплика звучит так:
Вот этот оптимистенковский „исторический материализм“ и есть та отрицательная периферия, которой противостоит смысловой центр пьесы. На периферии — неподвижное, косное, мёртвое пространство, в центре — живое, движущееся время, изменяющее мир. На периферии — безликая и бездушная механика, в центре — революционный и творческий энтузиазм. И всё вместе это дано в едином образе машины истории.
Но ведь и сама пьеса есть в некотором роде “машина”, и именно машина времени, со всеми её прогрессивными и регрессивными функциями, что наглядно представлено в образе “театральной машины”. В III действии (театр в театре) пародийно обнажена её функциональная обратимость. Театру агитационному, „стоящему на службе борьбы и строительства“, противостоит театр, где „делают нам красиво“:
На временные функции театра указывают и ремарки („‹...› крики: „Время!“ ‹...› Минута, снова крики: „Время!““), и реплики Режиссёра („Ну, не существенно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в какое время живём. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела“), и лозунги для спектакля („Крути, чтоб действие мчало, а не текло“).
В постановке Мейерхольда машинный образ создавало и оформление спектакля, сделанное С.Е. Вахтанговым: открытая площадка, вращающаяся сцена, сложная, так сказать, рационально-иррациональная многоплановость сценической конструкции (в духе Пиранези). Вместе с тем условность оформления подчёркивала метафорическую природу “театральной машины”, которая, по существу, так же невидима, как и машина Чудакова.
Машина времени оказывалась не только предметом изображения, но и самим принципом театрального представления. Мейерхольд говорил: „Зритель должен всё видеть воочию. Великие проблемы, высокие идеалы — всё это давайте как ощущение целого; в самом же процессе спектакля борьба должна вестись вокруг какой-нибудь определённой вещи или в связи с ней“. В «Бане» таким ощущением целого было время как машина, история как механизм, а такой театральной вещью, вокруг которой завязывается драматическая интрига, была машина времени, изобретённая Чудаковым.
Таким образом, мы видим воочию: время запечатлевается и материализуется в театральном представлении, в “театральной машине”, далее оно овеществляется в машине Чудакова и, наконец, в самой машине времени “материализуется постороннее тело” — Фосфорическая женщина. Это само овеществленное, отелесненное Время, ставшее театральным персонажем, действующим лицом драмы. Но образ этот принципиально отличается от, казалось бы, похожих образов, скажем, средневекового аллегорического театра или символистского театра начала XX века. Фосфорическая женщина не аллегория и не символ (в узком смысле), а в соответствии с поэтикой «Бани» точно такая же реализованная метафора, как и все остальные персонажи пьесы, с той разницей, что в ней мы видим наглядно весь ступенчатый процесс реализации метафоры.
Ещё в связи с первой постановкой «Бани» высказывалось весьма остроумное и верное соображение, что Фосфорическая женщина — не что иное, как deus ex machina античного театра. Однако необходимых выводов сделано не было. По-видимому, согласно распространённой трактовке этого приёма в качестве искусственной, немотивированной развязки запутавшегося действия божественным вмешательством, предполагалось, что среди реальных персонажей пьесы Фосфорическая женщина является чем-то инородным, прямо-таки потусторонним. Такое представление явно противоречит драматургическому методу Маяковского. Фосфорическая женщина имеет ту же природу, что и прочие люди и вещи в пьесе, и вся в целом театральная машина. Поэтому трактовка deus ex machina как чего-то внешнего и неорганического здесь не оправдана (как, впрочем, она не всегда верна и в отношении античного театра, в частности Еврипида).
Более того. Я думаю, что Маяковский сознательно использовал этот приём, демонстративно его снижая и опредмечивая. Если в античном театре deus ex machina был, с одной стороны, драматическим явлением божества, а с другой — техническим средством театральной постановки, то здесь мы видим буквально явление ех machina, но не божества, а человека будущего. Театральная машина прямо отождествляется с машиной Чудакова в едином образе метафорической машины времени. А значит, Фосфорическая женщина является из метафоры, это, так сказать, deus ex metaphora.
Метафора была не просто излюбленным художественным приёмом Маяковского, она — сама суть его поэтического метода. В волевом, творческом акте метафорического схватывания и овеществления заключалось для него постижение полноты и единства мира. На этом основана вся его поэтика и весь общеизвестный панметафоризм его стиля, ибо метафора Маяковского — это прежде всего структурно-творческая модель мира.
С этой точки зрения и саму машину времени, соединяющую времена, переносящую из прошлого в будущее и обратно, нужно так же понять как реализацию буквального значения слова metaphors — перенос. Поэтическая, новаторская, изобретательская работа есть творение будущего, перенос будущего в настоящее, а метафора — главный творческий механизм такого перенесения. Подобно тому как машина времени связывает времена, машина метафоры сопрягает далёкие и разрозненные смыслы в едином художественном образе. Поэтому образ Фосфорической женщины предстает нам воплощенной, персонифицированной поэтической „Идеей из будущего“. (По формуле Хлебникова: Родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова.) И тогда легко читается метафорическое значение её имени: фосфорическая означает не просто светящаяся, но — светоносная, то есть несущая свет смысла, свет истины, свет будущего в сумерки настоящего. Будущее — принцип понимания и оценки сегодняшнего дня. („Фосфорическая женщина ‹...› Здесь — ценность неясна. Будущему прошлое — ладонь“.)
В этом центральном образе, несомненно, пересекаются все основные конструктивно-смысловые планы пьесы.. Между тем роль Фосфорической женщины в драматической интриге совершенно пассивна, она только представляет будущее („‹...› я явилась только для убедительности“). Однако в первоначальном замысле «Бани» дело, видимо, обстояло иначе. На одном из обсуждений пьесы Маяковский обмолвился, что вначале хотел сделать явление Фосфорической женщины „подстроенным комсомольцами“ (XII, 379). Как это понять?
Вероятно, в этом варианте явление Фосфорической женщины должно было быть попросту мистификацией, подстроенной, надо думать, Велосипедкиным для того, чтобы воздействовать на Победоносикова. Как ни странно, но следы этого замысла сохранились в окончательном варианте пьесы, причём в явном противоречии со всем ходом действия. Кажется, никто не обращал внимания на странный факт: в ремарке IV действия, описывающей появление Фосфорической женщины, читаем: „Грохот, взрыв, выстрел“. (В первом варианте рукописи ещё определённее: „Грохот выстрела“, XI, 588.) То, что материализация будущего сопровождается грохотом и взрывом, понятно, но при чём здесь выстрел? Очевидно, он остался от первоначального замысла, так как в пьесе никто не стреляет и не стреляется.
Что происходит в IV действии? Чудаков с помощниками тащат машину времени к Победоносикову, чтобы эта „бомба времени разорвалась у него“. Победоносиков, собираясь уехать с Мезальянсовой, толкает Полю к самоубийству:
Казалось бы, всё говорит о том, что Поля кончает жизнь самоубийством и её выстрел совпадает с взрывом „бомбы времени“ и появлением Фосфорической женщины. Однако в дальнейшем этот мотив не получает подтверждения: Поля жива, и во всей пьесе нет ни намёка на неудавшееся самоубийство.
Понять это можно только так, что, согласно первоначальному замыслу, Поля должна была инсценировать самоубийство и играть роль „делегатки 2030 года“. Сюжетные перспективы такого сугубо театрального и вполне традиционного превращения были совершенно ясны, оно заведомо делало пьесу бытовой сатирической „комедией с самоубийством“ и разрушало её напряженный метафорический строй. Неудивительно, что Маяковский отказался от него, тем более что подобный сюжетный ход был уже использован в «Клопе», где самоубийца Зоя Берёзкина превращается в женщину будущего. Бытовой мистификации он предпочёл — по его несколько ироническому замечанию — “театральную условность феерического порядка” (XII, 379), которая разрушала привычные сюжетные мотивировки, но зато полностью выявляла смысл образа Фосфорической женщины. Почему же все-таки сохранились следы первоначального замысла? По-видимому, это не случайность. Помимо вполне внешнего, но театрально весьма эффектного совпадения ожидаемого самоубийства и неожиданного явления Фосфорической женщины Маяковскому, несомненно (сознательно или бессознательно), была необходима внутренняя, чисто смысловая соотнесённость этих женских образов. Если в образе Фосфорической женщины мы видим свободу и торжество преодоления времени, то в образе Поли — ограниченность, скованность, прямо подавленность временем, настоящим. А значит, эту загадочную ремарку „Грохот, взрыв, выстрел“ следует опять-таки понимать как театральную метафору, реализующую, делающую зримым и слышимым мгновенный поворот времени, неуловимое превращение настоящего в будущее. В этом взрыве и выстреле времени — кульминация всей пьесы.
Но такое разрешение внутренней конфликтности нельзя ни в коем случае относить целиком на счёт стремления Маяковского к форсированной театральности и зрелищности. Здесь мы, безусловно, сталкиваемся с действием более глубокого эстетического механизма. Точно так же, как поэтическое слово Маяковского стремится выйти в засловесное пространство, в жест, в действие, в частности театральное, его театральное представление стремится выйти из рамок театра, причём не просто в иной эстетический ряд, но вообще за пределы эстетической сферы. На диспуте о постановке «Бани» он говорил: „‹...› вместо психологического театра мы выставляем зрелищный театр... Один говорит: „Балаган“, другой говорит: „Петрушка“. Как раз я и хотел и балаган и петрушку. Третий говорит: „Нехудожественно“. Я радуюсь: я и не хотел художественно, я старался сделать нехудожественно“ (XII, 440). Но это недвусмысленно указывало и название пьесы, и её жанровое определение: „драма с цирком и фейерверком“. Совмещение разных типов условности, разных систем выразительности в рамках одного произведения свидетельствует об основной установке, определившей реализацию замысла «Бани»: „Театр — не отобразительская вещь... он врывается в жизнь“ (XII, 379). Именно поэтому такие зрелищные аттракционы, как “цирк”, пародирующий театр в театре, и “фейерверк”, наглядно изображающий невидимое время, выступают в драме в качестве важнейших экстатических моментов.
С этой стороны замысел «Бани» вплотную соприкасается с театральной эстетикой Н.Н. Евреинова, с которой Маяковского вообще связывали давние и сложные отношения. Но это особая тема. Здесь же я ограничусь только прямым сопоставлением некоторых моментов «Бани» с пьесой Евреинова «Самое главное», поставленной в 1921 году в театре «Вольной комедии».
Прежде всего в этой „для кого комедии, а для кого и драме“ мы найдём ряд сюжетных положений и персонажей, с которыми явно перекликается пьеса Маяковского. Так, образы нейтральных персонажей «Бани» напоминают образы „униженных и оскорблённых“ персонажей «Самого главного». Особенно наглядно сравнение машинистки Унтертон и Ремингтонистки, в «Самом главном» есть даже эпизод с накрашенными губами, как и в «Бане». В этой связи фамилию Ундертон можно понять как каламбурную контаминацию «Ундервуд» и «Ремингтон» (известные марки пишущих машин). Вместе с тем её можно толковать и как прямую характеристику (ср. to speak in under tone — говорить вполголоса). Затем, „письмо из будущего“ от Фосфорической женщины функционально напоминает письма Гадалки к разным персонажам «Самого главного», предсказывающие „перемену судьбы“ и т.п. По-видимому, можно даже говорить об известной противопоставленности Чудакова с его машиной времени этой „предсказательнице судеб человеческих“, в личине которой выступает главное действующее лицо евреиновской пьесы, — Параклет (ср. в первом монологе Чудакова: „Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей“). Вообще же Параклету — “советнику, помощнику, утешителю” — со всеми его личинами (Гадалка, д-р Фреголи, Шмит, Монах, Арлекин), воплощающему евреиновскую концепцию театра, призванного “спасти мир” и прямо уподобленного Христу, функционально в «Бане» соответствует Фосфорическая женщина. С той разницей, что если Фосфорическая женщина — ex metaphors, то Параклет — ех illusio. Кроме того, в обеих пьесах обращает на себя внимание мотив самоубийства. Образы Студента с его навязчивой идеей самоубийства, от которой его избавляет театральная терапия Параклета, и Классной дамы с её карнавальным “самоубийством за дверью” (не состоявшимся, как того и требует дух карнавала), несомненно, отразились на первоначальном замысле «Бани» — превращении мнимой самоубийцы Поли (тоже “самоубийство за дверью”) в Фосфорическую женщину.
Сама идея такой мистификации, конечно, вполне евреиновская, но для Маяковского в этом превращении женского образа, по-видимому, таился какой-то глубоко волнующий личный смысл. И вот что удивительно: в «Самом главном» мы встречаем совершенно непритязательный балаганный каламбур: идеал и одеяло. Но он сразу же заставляет вспомнить о другом замысле Маяковского — неосуществленном киносценарии 1928 года «Идеал и одеяло» (XI, 486–487). И дело даже не в каламбуре, дело в том, что сюжет тут тоже откровенно евреиновский: любовь идеальная и любовь, так сказать, одеяльная оказываются ипостасями одной и той же женщины. Больше того, именно этот сюжет Маяковский позже предполагал использовать в пьесе о любви „с двумя только действующими лицами“, также оставшейся неосуществленной (XI, 697–698). Главное же, что мы находим в пьесе Евреинова, — это как раз те моменты, которым Маяковский придавал особое значение в структуре «Бани», а именно “цирк” и “фейерверк”. Второе действие «Самого главного» изображает репетицию “художественной постановки” в провинциальном театре:
Ср. в III действии «Бани»:
Совершенно очевидно, Маяковский прямо заимствовал у Евреинова приём построения этой сцены. Но, используя “фигуру фикции” (термин А. Белого в книге «Мастерство Гоголя»), усиливая и развивая её до конца, он доводил её до абсурда. Разница большая. У Евреинова мы видим пародию на театральную ложь, но пародию, не выходящую за условные рамки игрового драматического пространства. В «Бане» же посредством циркового алогизма вскрывается относительный характер всякой игровой условности. И в эстетике Евреинова, и в эстетике Маяковского театр — не “отражающее зеркало” (ср. эпиграф к гоголевскому «Ревизору»), но если евреиновский театр — “Кривое зеркало”, то театр Маяковского — “увеличивающее стекло”. И дело тут не в степени увеличения и не в характере искажения. Отрицание пассивного “отражательского” театра у них имеет разную почву. Театр Евреинова прямо выходит в жизнь, театр и жизнь едины, но едины они исключительно на почве эстетизма, ибо жизнь отличается от театра лишь тем, что это более высокая игра, более волнующая условность, более подлинная ложь. В этом отношении «Самое главное», подобно «Бане», вполне агитационная пьеса.
Однако и этот выход тоже иллюзия. Сюжет в «Самом главном» оборачивается так, что выход из театра в жизнь оказывается возвращением к маскам комедии дель арте, то есть к ещё более откровенной игре и более глубокой условности. Финал пьесы, как и следовало ожидать, отсылает нас опять к репетиции “художественной постановки”:
Сама иллюзия, таким образом, и есть спасение мира. Иллюзия безусловна и абсолютна, тогда как игра на сцене театра или игра на сцене жизни — равно условны и относительны. Игра изменяет и преображает жизнь, но это всего лишь глубоко безнадёжная замена одной игровой иллюзии другой, это какой-то замкнутый, бесконечный травестийный хоровод. Театр Евреинова не отображает жизнь, ввиду их полного содержательного различия, театр подменяет жизнь на основе формально игрового подобия.
Напротив, в «Бане» всячески демонстрируется формальное различие театра и жизни (недаром Победоносиков в театре себя не узнаёт). Подчёркивая условность всякого игрового (драматического, балаганного, циркового) представления, Маяковский тем самым указывал на принципиальное содержательное единство театра и жизни. Если для Евреинова театр есть лаборатория иллюзий, то для Маяковского он — лаборатория метафор. В отличие от иллюзии, которая подменяет и в конечном счёте скрывает смысл, метафора, действуя как “увеличивающее стекло”, концентрируя и усиливая смысловое напряжение, раскрывает и овеществляет смысл явления, на которое она направлена. Метафора — орудие осмысления жизни.
Поэтому карнавальный бенгальский огонь в финале «Самого главного» так же отличается от фейерверка в «Бане», как иллюзия отличается от метафоры. Бенгальский огонь знаменует возвращение из жизни в театр. Максимум смысла, который из него можно извлечь, это увидеть в нём своего рода эмблему театра, подобную осклабленной маске с пустыми глазницами. В фейерверке же наряду с чисто эмоциональным зрелищным аттракционом мы видим и его метафорический смысл, перед нами как бы непосредственное „зрелище времени“. Из этого огня является светящаяся Фосфорическая женщина, и в этом огне исчезают вместе с ней все достойные будущего. Фейерверк знаменует драматическое столкновение пространства и времени, так же как цирк — столкновение театра и жизни; вместе же они в «Бане» означают выход из непосредственно данного в сферу мыслимого.
Хотя на первый взгляд возвращение Евреинова к комедии дель арте и стремление Маяковского к “балагану” и “петрушке” совпадают, на самом деле их усилия полярны. В противоположность эстетизму Евреинова Маяковский всегда тяготел к откровенной деэстетизации и снижению. Даже такие “метафизические субстанции”, как Время, История, Творчество, Идея и т.п., грубо и зримо овеществлялись в образах машины и бани. Но тут надо иметь в виду, что весь этот шокирующий механизм деэстетизации приводился в движение отнюдь не для „ожизнения театра“ в противоположность евреиновской “театрализации жизни”. Наоборот, это означало, что, по-видимому, ощущая противопоставленность действительного и художественного недостаточно напряжённой, Маяковский посредством “нехудожественной художественности” стремился вернуть театру остроту столкновения с жизнью. Только так, скорей всего, можно понять его призывы к театру, врывающемуся в жизнь.
Впрочем, отношение Маяковского к Евреинову (и, в частности, замысла «Бани» к «Самому главному») было бы понято неверно, если бы мы ограничились внешним сопоставлением. Маяковский вовсе не был чужд искушения театрализации жизни, особенно в ранний период, когда и его теоретические выступления, и его значительнейшие произведения, и весь его литературный быт, весь стиль его “поэтического поведения” свидетельствовали о воздействии эстетики Евреинова. Отношение Маяковского к ней было отношением внутреннего преодоления. Опыту „театра как такового“ и „театра для себя“ он в значительной мере обязан осознанием собственного метафорического театра.
Чтобы представить всю глубину „евреиновского искушения“, вспомним последние страницы книги «Театр как таковой»:
Не этот ли образ “весёлой смерти” или “бессмертного веселья” диктовал Маяковскому фейерверочный финал «Бани»? — добавим мы.
С другой стороны, и ещё более существенно, замысел «Бани» связан с Гоголем. Но адекватное истолкование гоголевских мотивов, которыми буквально пронизана пьеса, невозможно без учёта того современного полемического контекста, в котором возникал и оформлялся замысел.
Ответвления основной метафоры времени, раскрывающиеся в противопоставлении машины времени и различных машин “антивремени”, часто имеют и дополнительное значение. Таков, например, незначительный, казалось бы, юмористический эпизод с трамваем, о котором диктует Победоносиков. Толстой, Пушкин, Байрон, попавшие в красный трамвай „в нарушение литературно-трамвайных правил“, — это гротескная реализация принципиальной полемики. Трамвай, идущий вспять, — не что иное, как метафора современного литературно-театрального процесса. Лозунг Победоносикова: „Назад к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого“ — пародирует известный лозунг Луначарского „Назад к Островскому!“. А трамвай, в свою очередь, идёт от не менее известной в своё время книги Шкловского «Третья фабрика»: „Время искусства тяжёлое, реставраторское. Трамваи «А» не писатели. От Гоголя к Гоголю... Люди мечтают о будущем как об улучшении, как о продолжении. Будущее — это революция. В будущем не будут спорить о квартирной плате“.
Там же Шкловский говорит и о Толстом, и о Пушкине, и о Лермонтове (которого цитирует Победоносиков). Вопрос о трамвае — это вопрос о пути литературы:
Об этом пути литературы говорил и сам Маяковский в заключительном слове на диспуте «ЛЕФ или блеф» в 1927 году, отстаивая изобретательские методы в искусстве, и в частности Шкловского (XII, 345–347). По существу, третий путь и был путём самого Маяковского. Во всяком случае, именно так написана «Баня».
С этой же точки зрения и нужно рассматривать гоголевские элементы в пьесе. К ним относятся, в первую очередь, приёмы речевых характеристик и некоторые сюжетные ходы. Например, каламбурное построение речи Понт Кича найдено, вероятно, в диалоге Хлестакова и Гибнера из сцены, не вошедшей в печатный текст «Ревизора» (Хлестаков. ‹...› вы мне giebt теперь, а я вам после назад отгибаю»). Отсюда, по-видимому, его первоначальное имя Понт Спич (speech — реплика). Ещё нагляднее гоголевское влияние в реализации таких персонажей, как Оптимистенко и Иван Иванович. Можно предположить, что в первоначальном замысле это были парные персонажи, подобно Бобчинскому и Добчинскому в «Ревизоре», то есть Иван Иванович был Иваном Ивановичем Оптимистенко, а Оптимистенко — Иваном Ивановичем Пессимистенко, судя по оптимистическому характеру первого и пессимистическому второго. (Ср. также в плане речевых характеристик героев «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».)
Особенно обязан Гоголю образ Победоносикова. Тут вспоминается и городничий из «Ревизора» („Победоносиков. Инкогнито? Понимаю!“), и правитель канцелярии из третьей главы первого тома «Мёртвых душ» („‹...› просто бери кисть да и рисуй: Прометей, решительный Прометей!“), и полковник Кошкарёв с его бюрократическим „бумажным производством“ из третьей главы второго тома. В «Мёртвых душах», кстати, упоминается и помещик Победоносный (восьмая глава). В связи с Гоголем проясняется и семантика его имени. С одной стороны, Победоносиков, конечно, напоминает об одиозной фигуре К.П. Победоносцева, обер-прокурора Святейшего Синода. Но с другой — это имя ассоциируется с важным чиновником, пытавшимся уехать по чужому паспорту и, будучи задержанным, оказавшимся носом ничтожного майора Ковалёва. В последнем эпизоде «Бани» откровенно воспроизводится гоголевская “носология”:
Победоносиков, следовательно, нужно понимать в значении ретроградности, регрессивности (Победоносцев) и фиктивности («Нос»). Кроме того, тут важен гоголевский колорит, который вообще в именах отрицательных персонажей усиливает их регрессивно-временные характеристики: художник Бельведонский (ср. бельведер), изображающий Победоносикова “ретроспективно”; журналист Моментальников (ср. момент) — „сотрудник ДОреволюционной и ПОреволюционной прессы“; Мезальянсова (ср. мезальянс), осуществляющая “культурные связи” с Западом, то есть с прошлым.
Но дело не только в этих более или менее значительных деталях. Весь замысел «Бани» в целом можно понять как «Нового Ревизора», где машина времени предстает тем “истинным ревизором”, о котором говорил Гоголь в «Развязке Ревизора»: „‹...› страшен тот ревизор, который ждёт нас у дверей гроба“.
Финал «Бани» функционально полностью соответствует “немой сцене” гоголевской пьесы — с той разницей, что сцена “потрясения” дублирована трижды: темнота, затем собственно “немая сцена” и, наконец, заключительные эксплицирующие реплики персонажей. (Мейерхольд вводил ещё одну, так сказать, ложную “немую сцену” — фотографирование перед отправкой машины времени.)
Вместе с тем предшествующий финалу монолог Фосфорической женщины прямо отсылает к заключительному монологу Автора в «Театральном разъезде»:
Сравним:
Эти переклички опираются на III действие «Бани», которое в значительной мере было задумано как параллель к «Театральному разъезду». (Ср., например, диалог Победоносикова и Режиссёра с диалогом Господина П. и Господина Б., реплику Мезальянсовой с репликой Светской дамы, реплики Ивана Ивановича и Победоносикова с диалогом двух Бекеш.) По всей вероятности, мысль включить театральный разъезд в структуру самой драмы возникла у Маяковского ещё в связи с постановкой «Клопа». Тогда, на обсуждении пьесы в клубе рабкоров «Правды», он заметил: „Когда говорят о том, что в «Клопе» нет положительных типов, мне вспоминается «Театральный разъезд» Гоголя. Критика похожая“ (XII, 509). И, предваряя будущие критические „мненья и толки“ о «Бане», он включил пародию на них в саму пьесу.
Более того, он не ограничился этим полемическим использованием гоголевских элементов в структуре драмы, он как бы вновь возвращал их с театральных подмостков в действительность. На премьере «Бани» в Театре Мейерхольда 16 марта 1930 года Маяковский и сам сыграл замечательную сцену (но как это далеко от евреиновского „театра для себя“).
„После спектакля, который был не очень тепло принят публикой (и этот приём, во всяком случае, болезненно почувствовал Маяковский), он стоял в тамбуре вестибюля один и пропустил мимо себя всю публику, прямо смотря в глаза каждому выходящему из театра“.
Задумывался ли кто-нибудь из них над тем, что из зрителей они невольно превратились в исполнителей «Театрального разъезда»?
Но самое поразительное, что отзывы о «Бане» на различных обсуждениях и в прессе — по существу и даже в некоторых деталях — повторяли бессмертные гоголевские диалоги. Задумывался ли сам Маяковский над иронией “трамвая истории”, этой машины времени, переносившей его из 1930 года не на сто лет вперёд, а почти на столетие вспять? От Гоголя и к Гоголю? Во всяком случае, в ответ на критику он всерьёз и, кажется, вполне сознательно чуть ли не дословно воспроизводил заключительный монолог Автора из «Театрального разъезда» (см. XII, 395–398, 399 — 400, 438–440).
С Гоголем, таким образом, связан преимущественно полемический, сатирический, обличительный, вообще отрицающий пафос замысла «Бани». Но это, очевидно, лишь часть дела. Ещё важнее понять его положительный, утверждающий пафос. Тут мы должны обратиться к философским идеям, к художественному творчеству и к самой личности Хлебникова.
В этом, как и в обращении к Гоголю, нет ничего удивительного. Проблема времени, проблема овладения временем в сознании Маяковского была прочно связана с Хлебниковым — и как „живописцем своего нечеловеческого времени“, и как исследователем „материков времени“. Таким я уйду в века — открывшим законы времени, — говорил Хлебников. И его концепция времени, и в частности, идея будетлянства имела для Маяковского, да и для многих его современников, не только поэтический, но и непосредственно жизненный авторитет. Поэтому естественно, что замысел «Бани», и прежде всего образ машины времени как творческого очищения, прямо восходит к Хлебникову. Ещё в 1916 году в брошюре «Труба марсиан» Хлебников писал:
Там же в думу марсиан приглашался Уэллс, которого Хлебников ценил очень высоко, в первую очередь как изобретателя машины времени.
В этой декларации мы легко увидим и основной творческий импульс замысла «Бани», и исходные моменты некоторых сюжетных положений и мотивировок, и источник отдельных ключевых образов. Причём всё это здесь дано в знаменательном переплетении с Гоголем: ведь и само словцо приобретатель, и образ мертвецов прошлого восходят к «Мёртвым душам» и «Страшной мести».
Ещё Р. Якобсон отметил как „самые хлебниковские слова“ у Маяковского первый монолог Чудакова:
Позже Н. Харджиев указал конкретные источники монолога. Это — предисловие к «Доскам судьбы»:
А также повесть «Ка»:
Характер этих совпадений таков, что неизбежно возникает вопрос: не имеем ли мы здесь дело с каким-то более сложным явлением, чем простые заимствования?
Но прежде необходимо продолжить конкретные сопоставления. В тех же «Досках судьбы», в стихотворном предисловии, Хлебников писал:
С этим можно связать первоначальный замысел превращения Поли в Фосфорическую женщину. Речь здесь, понятно, идёт совсем о другом “самоубийстве за дверью” — это самоубийство древнего Рока, неотвратимой и непознаваемой Судьбы, а мысль-отмычка — это открытие законов времени, понять которые — значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Превращение Поли в Фосфорическую женщину должно было метафорически выражать эту идею превращения Рока в Свободу. И хотя Маяковский отказался от прямолинейного сюжетного решения, тем не менее, а может быть, как раз благодаря этому, образ Фосфорической женщины несёт всю высокую хлебниковскую символику („светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах“).
В «Досках судьбы» Хлебников даёт, между прочим, таблицу побед и поражений английского флота и выводит Морской закон Англии. Отсюда можно понять появление в «Бане» такого персонажа, как „британский англосакс“ Понт Кич, интересующийся „химическими заводами, авиацией и вообще искусством“, а в особенности изобретением Чудакова. („Велосипедкин (Чудакову) ‹...› Ты хочешь, чтоб твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?“)
К Хлебникову восходит и письмо из будущего, полученное посредством машины времени (БД 5-24-20), которое Чудаков расшифровывает так: „Не “бе дэ”, а “бу-ду”“. Они пишут одними согласными, а 5 — это указание порядковой гласной. А-е-и-о-у: “Буду”. (Ср. в «Предложениях» Хлебникова, напечатанных в 1915 году в футуристическом сборнике «Взял»: Называть числа пятью гласными: а, у, о, е, и ‹...›).
Реплика Чудакова: „Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей“ отсылает к статье Хлебникова «Наша основа», где он писал, что законы времени дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчёта. Другая реплика Чудакова: „Если в грядущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим хрупким тельцем в занятое сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И, может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чёртовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно... “ — представляет собой развёрнутый тезис из хлебниковского «Воззвания председателей земного шара»: Наша тяжёлая задача быть стрелочниками на путях встречи Прошлого и Будущего.
С Хлебниковым прямо связан и диалог Чудакова и Велосипедкина о часах, с которого начинается пьеса:
Во-первых, в тех же «Предложениях» Хлебников, выдвигая новую систему единиц времени, писал, что таким образом не будет глупых секунд и минут ‹...›. Во-вторых, и это особенно интересно, за диалогом о часах стоит история издания первой книжки Хлебникова. В воспоминаниях Д. Бурлюка читаем:
Кроме двух фактов, которые Д. Бурлюк запамятовал, и одного, о котором он умолчал, эти воспоминания совершенно точны. На самом деле книжка Хлебникова, изданная в Херсоне в 1912 году, называлась «Учитель и ученик» и не оканчивалась 1917 годом. А умолчал он о том, что деньги на её издание (именно 20 рублей) он дал под залог золотых часов.
В этой книге, написанной для изумления мира, Хлебников задавал вопрос, вытекавший из его расчётов закономерностей мировой истории: ‹...› не следует ли ждать в 1917 году падения государства? Пророчество близкого катастрофического будущего если и не изумило мир, то уж во всяком случае не могло не восхитить его соратников. Это был футуризм на деле, действительное овладение временем. Потому-то «Пощёчина общественному вкусу» и заканчивалась таблицей падения государств, где за датой 1917 стоял Некто. Можно не сомневаться, что именно Маяковскому с его „пафосом социалиста“ принадлежала инициатива дать на ней особый акцент. А его знаменитая строка из «Облака в штанах»: „Вижу идущего через горы времени“ — почти повторяла Хлебникова: ‹...› я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род ‹...›
Такого нешуточного значения, оказывается, был полон для Маяковского простой юмористический разговор о часах.
И ещё один диалог Чудакова и Велосипедкнна в том же действии можно связать с отношениями Хлебникова и Маяковского:
В статье «Вас не понимают рабочие и крестьяне», напечатанной в первом номере «Нового Лефа» за 1928 год, Маяковский писал:
Практическое применение машины времени Чудакова, предлагаемое Велосипедкиным, явно повторяет схему: Волховстрой — подстанции — лампочки, приводимую Маяковским для пояснения связи экспериментального, изобретательского искусства с массовым. Это очевидно. Но и разговор о курицах здесь также не случаен, его источник — те же хлебниковскке «Доски судьбы»: Когда мы осмелимся вылететь из курятника наук, мы увидим один и тот же лик числа, одно и то же его дерево, в трёх плоскостях: 1) времени, 2) пространства, 3) множеств или толп.
И когда мы построим взаимные углы этих плоскостей, множители перехода, особого рода выключатели, мы сразу будем выключать счёт из плоскостей времени в плоскость пространства, мы выйдем на широкую дорогу. Сравним в связи с этим ещё одну реплику Чудакова: „Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени“.
Приведённых сопоставлений (а их можно было бы увеличить) вполне достаточно, чтобы понять, что перед нами не просто заимствования из Хлебникова и даже не только сознательная и систематическая ориентация на него. Кажется, можно утверждать, что в образах Чудакова и Велосипедкина, в их взаимосоотнесённости, дана своеобразная проекция Хлебникова и самого Маяковского.
Но, разумеется, это не портреты и не характеры. Это, как и все персонажи драмы, и даже в ещё большей мере, — „оживленные тенденции“. Здесь нет бытовых, биографических черт ни Хлебникова, ни Маяковского. (Хотя нельзя не заметить, что Чудаков всё-таки более “оживлен”, в его образе намечены некоторые черты — доверчивость, непрактичность, легко соотносимые с Хлебниковым. Велосипедкин же явно шаржирован, что также легко соотносится с обычной для Маяковского автошаржировкой.) Здесь нет и поэтических черт Хлебникова и Маяковского, то есть того, что их объединяло и уравнивало. Что же остается, если вынести за скобки в Маяковском и Хлебникове их бытовое и поэтическое? Остаются тенденции: Чудаков — учёный, изобретатель, фантаст; Велосипедкин — общественник, организатор, борец с бюрократами. Характерно, что в уста Велосипедкина Маяковский почти дословно вложил фразы из своего письма Н.Ф. Чужаку, написанного в разгар его тяжбы с бюрократической машиной Госиздата в 1921 году: „Здесь приходится так грызться, что щёки летают в воздухе... Постараюсь перегрызть всё, что возможно“ (XIII, 51). Сравним: „Велосипедкин.‹...› Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щёки будут летать в воздухе“. Что же касается Чудакова, то все сколько-нибудь значительные его реплики имеют своим источником “фантастико-исторические”, по определению Маяковского, работы Хлебникова.
Чудаков и Велосипедкин, взятые как тенденции и только как тенденции, дают верную проекцию Хлебникова и Маяковского. Характеристика Велосипедкиным Чудакова: „Хоть ты и гений, а дурак!“ — с одной стороны, повторяла реплики Прохожих в драме Хлебникова «Зангези», с другой — воспроизводила слова самого Маяковского о Хлебникове. В известном письме И. Груздеву по поводу смерти Маяковского М. Горький вспоминал о Маяковском 1915 года:
Тенденции Чудакова и Велосипедкина в связи с машиной времени (в её прямом и во всех метафорических смыслах — это тенденции теоретика и практика. (Д. Бурлюк вспоминал, что Маяковский всегда настаивал на том, что он “жизненнее” Хлебникова.) Как же с такой точки зрения можно понять их имена? Семантика имени Чудаков вполне прозрачна: с одной стороны — чудак, с другой — чудо (ср. ‘дурак’ и ‘гений’). На одном из обсуждений «Бани» Маяковский разъяснял: „‹...› говорили, что я дал своему изобретателю фамилию Чудаков. Я выступал на съезде изобретателей, и я знаю, что изобретатель действительно прежде всего чудаковатый человек. Я знаю изобретателей как людей, занятых своей идеей, которые надеются, что за них по организационному вопросу вступятся товарищи, и поэтому хотят заниматься своей работой, и часто им бюрократ в такой работе становится поперёк дороги. Я не хотел его дурачком сделать“ (XII, 396). По существу же характеристика изобретателя совершенно совпадала с той характеристикой, которую мы находим в известной статье Маяковского «В.В. Хлебников»: „«Ладомир» сдан был в ГИЗ, но напечатать не удалось. Разве мог Хлебников пробивать лбом стену? Практически Хлебников — неорганизованнейший человек. Сам за всю свою жизнь он не напечатал ни строчки... Конечно, отвратительна непрактичность, если она прихоть богача, но у Хлебникова, редко имевшего даже собственные штаны (не говорю уже об акпайках), бессеребренничество принимало характер настоящего подвижничества мученичества за поэтическую идею“ (XII, 27–28). Хлебников и сам называл себя и чудаком и чудом.
В свою очередь, имя Велосипедкин можно понять только в соотношении с Чудаковым и машиной времени. Что такое машина времени? Великое изобретение, чудо. Что такое велосипед? Простейшая машина пространства, нечто обыденное, легковесное, даже смешное (ср. “изобретать велосипед”). С таким восприятием велосипеда мы неоднократно сталкиваемся у Маяковского (например, в первом варианте автобиографии «Я сам»: „Дисциплина заставила б меня что-нибудь “делопроизводить”. А это всё равно что броненосец на велосипед переделывать“). Получается любопытное семантическое пересечение:
И, таким образом, перед нами не просто говорящие фамилии, но опять-таки, как и у отрицательных персонажей, имена-метафоры. (Вместе с тем нелишне отметить, что ещё в 1913 году в связи с постановкой «Трагедии» Маяковского назвали “велосипедистом”.)
В том же ключе, видимо, нужно понимать и имена самых, пожалуй, загадочных персонажей «Бани» — Фоскин, Двойкин и Тройкин. На первый взгляд кажется, что подразумевается обычное театральное обозначение второстепенных персонажей: 1-й рабочий, 2-й рабочий, 3-й рабочий. (Фоскин — от карточного термина фоска — в значении ‘простой’, ‘рядовой’). Но, поскольку они имеют самое непосредственное отношение к машине времени, их можно толковать как хлебниковские числа. Я строю здание только из двоек и троек, — говорил Хлебников, утверждая, что в основании чистых законов времени лежат только числа 2 и 3, чёт и нечет. Поэтому вполне естественно, что метафорическую машину времени строят метафорические Двойкин и Тройкин, так же как здание времени строится двойками и тройками. (В таком случае Фоскин можно связать и с англ. forth — вперед, дальше.) Не случайно, что эти рабочие в пьесе прямо связаны с числами:
Ср. в статье Хлебникова «Наша основа»: Мы должны раздвоиться: быть и учёным, руководящим лучами, и племенем, населяющим волны луча, подвластным воле учёного ‹...› Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать клинопись созвездий.
В известном смысле метафорический строй «Бани» вообще можно понять как реализацию этого принципа раздвоения. Автор в одно и то же время находится вне драматического пространства и внутри его, он конструирует сюжет и управляет действием и вместе с тем сам оказывается действующим лицом, подвластным воле автора. То же самое мы видим и во всех персонажах, являющихся одновременно и концептами творческого сознания, и образами самой реальной злободневной действительности, современной машины истории.
В этой драматической борьба за время Маяковскому, по-видимому, необходима была не просто идейная опора на Хлебникова, но и его непосредственное участие, хотя бы в виде “оживленной тенденции”. Тут в образах Чудакова и Велосипедкина, строящих машину времени, можно даже видеть воплощение завещания Хлебникова, высказанного им незадолго до смерти в стихотворении «Признание»:
Оно было опубликовано только в 1931 году и скорей всего не было известно Маяковскому. Тем знаменательней совпадение сознания общности судьбы в прошлом и в будущем, будь то машина времени в «Бане» или числовое дерево времени в «Признании» Хлебникова.
Мы же должны задуматься над той несомненной закономерностью, с какой две крайние вехи творческой судьбы Маяковского — его первое большое произведение — трагедия «Владимир Маяковский» и его последнее произведение — «Баня» — оказались больше всего связанными с хлебниковской тенденцией. Причём если в первой пьесе с её доминирующим образом трагического рождения эта тенденция была воплощена в тысячелетнем, древнеегипетском Старике и его магических „чёрных и сухих кошках“, то в последней пьесе с её доминирующим образом весёлой смерти она воплощалась в Чудакове и машине времени и, таким образом, была обращена в будущее.
Жестокая судьба Хлебникова и его жуткая смерть не могли не казаться Маяковскому пророчеством его собственной судьбы. „После смерти Хлебникова, — писал он, — появились в разных журналах и газетах статьи о Хлебникове, полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия посмертных лечений?! Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплёванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих равный конец!“ (XII, 28). Маяковский знал и то, что последние дни Хлебникова были омрачены болезненным и несправедливым враждебным чувством к нему, старательно раздуваемым иными сочувствующими. Это была одна из самых страшных душевных ран Маяковского, и поразительно, с каким благородством и выдержкой он её переносил. В 1928 году к этому прибавилось и ещё одно обстоятельство. С выходом первого тома Собрания произведений Велимира Хлебникова стало ясно, что это издание направлено против Маяковского, чтобы исторически их разделить и противопоставить.
Всё это входило в ту напряженнейшую атмосферу 1929 года, в которой созревал замысел «Бани» и которую драма должна была художественно разрешить.
Зададим ещё раз вопрос, с которого мы начинали: почему пьеса названа «Баней»? Теперь мы можем сказать, что, несмотря на очевидное несоответствие названия и изображения, это слово точнейшим и исчерпывающим образом определяет не только предметную данность драматического представления, не только метод его восприятия и понимания, но целиком все содержание пьесы, которое мы можем понять во всей его глубине и сложности лишь тогда, когда найдем верное толкование имени этого содержания.
Во-первых, совершенно ясно, что «Баня» — это метафора сатиры в её общественной функции, метафора очищающего смеха, вполне соответствующая тому гоголевскому „положительному лицу“ комедии, которое в ней „не попадается“. Это социальный аспект пьесы.
Во-вторых, «Баня» — это метафора очищения, но не просто очищения от социального зла, но очищения именно творческого, то есть такого внутреннего очищения, просветления и обновления, к которому мы приходим в результате художественного осмысления и осознания действительности. И в этом смысле «Баня» буквально соответствует катарсису античного театра. Надо думать, что Маяковский сознательно и последовательно (как и в случае с deus ex machina) снижал и овеществлял это “метафизическое” очищение души от скверны в “реальном” образе „мытья и парки“ (ср. например, аналогичное снижение у Хлебникова: И люди спешно моют души в прачешной ‹...›). В таком значении «Баня», очевидно, указывает на театрально-эстетический аспект пьесы.
И, наконец, в-третьих, «Баня» — это метафора времени. Тут надо остановиться подробнее. В самом деле, как связана баня в её конкретном и вещественном значении с временем? Конечно, прежде всего нужно иметь в виду очищающую функцию времени. Как говорил Гоголь, „всё перемалывает время“. Как шелуха, слетают ложные и, как твёрдые зерна, остаются не просто время и не просто механизм времени, но фантастическая машина времени, которая может двигаться по времени в любом направлении и для которой время становится неким пространством, содержащим сразу и вместе все времена — и прошлое, и настоящее, и будущее. А это значит, что перед нами уже не время, необратимо движущееся в одном направлении, а вечность. Именно таков окончательный смысл изобретения Чудакова; с помощью его машины можно прямо выйти из времени в вечность, да по существу она сама и есть уже готовая, так сказать, искусственная, управляемая вечность.
Отсюда, понятно, вся символика двери в пьесе, ибо эта машина — дверь между замкнутым пространством времени и бесконечно открытым пространством вечности („Чудаков. ‹...› я вам в будущее дверь пробиваю... “) Она вполне амбивалентна, она и выход и вход, и смерть и рождение, ведь смерть — не что иное, как выход из времени, а рождение — вход во время. Всё это мы и видим в сцене ожидаемого самоубийства Поли и появления Фосфорической женщины или в последней сцене пьесы, когда положительные персонажи уносятся в будущее, а отрицательные остаются в настоящем. В финале эта амбивалентность особенно наглядна. С точки зрения настоящего он означает “смерть” положительных и “жизнь” отрицательных персонажей, с точки же зрения будущего, — истинной точки зрения, наоборот, — “смерть” отрицательных и “рождение” для будущего положительных.
В связи с этим надо иметь в виду актуальность некоторых мифологических представлений, в частности христианских, в творчестве Маяковского. Они, как правило, травестийно снижены и метафорически реализованы, но их концептуальная роль весьма существенна. Так, не случайны, конечно, “инфернальные” характеристики машины времени („О, чёрт, адово пламя!“ или „чёртово колесо времени“), как не случайна и явная перекличка имени женщины из будущего с известным “адским” персонажем (Фосфор и Люцифер — две формы его имени, греческая и латинская). В этом ключе машина времени представляется какой-то контаминацией ада и чистилища. (Ср., например, функционально ей соответствующий ковчег в «Мистерии-буфф», где нечистые очищаются от чистых.) И тут машина времени опять смыкается с баней.
Однако если образ бани времени кажется вполне естественным и понятным, то несомненно ощущаемая связь бани с вечностью остаётся всё-таки не ясной. Очевидно, здесь должно быть ещё какое-то важное посредствующее звено.
Его мы, по-видимому, найдем у Достоевского. В «Преступлении и наказании» — романе, вообще имевшем исключительное значение для Маяковского, — нельзя не обратить внимание на диалог Раскольникова и Свидригайлова (Часть четвёртая, глава 1):
Огромная принудительная сила этого образа заключается не только в его визионарной убедительности; здесь кощунственное снижение христианской символики. (Ср. в «Посланиях апостолов»: „Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни“ (Тит 3, 5–6). И вместе с тем образ „бани с пауками“ опирается на языческую и вплоть до двадцатого века вполне живую народную мифологию бани. С баней была связана вся жизнь человека в её самых существенных событиях от рождения до смерти:
Ввиду особого значения этого места в банях устраивались самые ответственные святочные гаданья о будущей судьбе; на радуницу для умилостивления душ предков бани топили, ожидая их посещения, и посыпали пол пеплом, чтобы наутро увидеть их следы; верили, что в банях собираются на свои шабаши деревенские ведьмы и колдуны; бани вообще считались наиболее удобным местом (наряду с перекрёстком дорог) для заключения сделок с нечистой силой; в банях же колдуны обычно и умирали в страшных мучениях... и так далее. Короче говоря, особое, сакральное значение бани как раз и состояло в её принципиальной обратимости, что точно выражено в поговорке: „Нет зляе банника, да нет его добряе“. Баня представлялась каким-то перекрёстком “этого” и “того” света, каким-то местом встречи прошлого и будущего, живого и мёртвого, чистого и нечистого.
Вот на этом фоне и должен, по-видимому, читаться образ „бани с пауками“ у Достоевского. Для Маяковского же такой глубоко амбивалентный образ вечности был связан, как можно предположить, с двумя исключительно сильными и личными переживаниями. С одной стороны, с тем, что этот безнадёжно нигилистический дьявольский образ какой-то тупиковой вечности в романе Достоевского дан как порождение предсмертного сознания Свидригайлова, самоубийцы, смерть которого, обставленная сниженно пародийной символикой, описана как отъезд в Америку (метафора “того света”). С другой стороны, с тем, что Хлебников, „Колумб новых поэтических материков“, открывший законы времени, умер и “ушёл в века” в деревенской бане. Во всём этом Маяковский мог видеть выражение трагических антиномий судьбы поэта. (Ср. аналогичное переплетение мотивов Достоевского и Хлебникова в поэме «Про это».)
В таком значении «Баня», следовательно, говорит нам о третьем аспекте пьесы — лично-мифологическом. С этой точки зрения мы увидим в пьесе то самое главное, что в ней “не попадается”, но что составляет её глубинное драматическое содержание — личность поэта. И весь замысел этой сатирической “драмы с цирком и фейерверком” мы поймём тогда как реализацию его творческой воли, его героической борьбы с судьбой, его стремления к будущей жизни.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 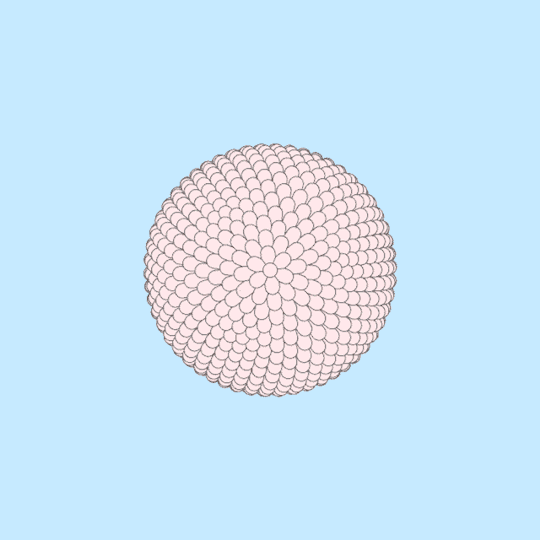 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||