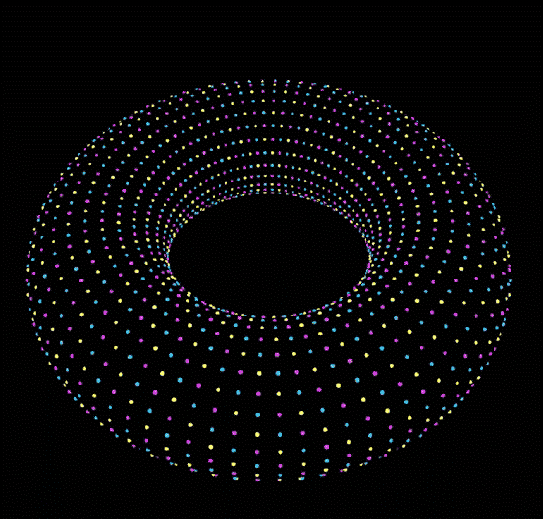Г.О. Винокур
о лингвистической утопии Хлебникова.
Язык вне времени и пространства
Вступительная статья М.И. Шапира
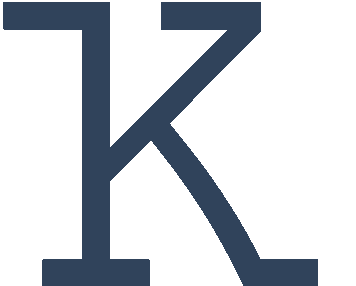
творчеству Хлебникова Г.О. Винокур обращался на протяжении всей своей авторской жизни: в рецензии на сборник «Лирень» (1921),
1
в статье «Футуристы — строители языка» (1923),
2
вошедшей в существенно переработанном виде в оба издания книги «Культура языка» (1925, 1929; глава «Речевая практика футуристов»),
3
в монографии о Маяковском (1943)
4
и, главное, в двух специальных эссе, одно из которых увидело свет в 1924 г.,
5
а другое — только в начале 1991-го.
6
За четверть века (1921–1945) критическую оценку Хлебникова Винокур не изменил: он всегда считал его „человеком, наделённым несомненными признаками поэтической гениальности“,
7
поэтом „исключительного дарования и исключительной судьбы“,
8
но к стихам его относился очень избирательно, принимая лишь те из них, где ему виделась „подлинная, благородная и возвышенная простота“.
9
В то же время филологическая интерпретация поэтического языка Хлебникова претерпела у Винокура существенную эволюцию, требующую внимательного анализа и осмысления.
1
Первое эссе о Хлебникове Винокур написал во второй половине 1924 г. Отчасти оно явилось результатом его работы над подготовкой к печати произведений Хлебникова. Ещё в марте 1923 г. «Леф» сообщал, что планирует издать собрание хлебниковских сочинений: „‹...› вещи напечатанные, вещи ещё не печатавшиеся, биографические материалы, статьи о творчестве. Редактора: Н.Н. Асеев и Г.И. Винокур“.10 В феврале 1924 г. Винокур порвал с редакцией «Лефа» (см. его письмо О.М. Брику от 21.11 [1924]).11
В феврале 1924 г. Винокур порвал с редакцией «Лефа» (см. его письмо О.М. Брику от 21.11 [1924]).11 Острым разочарованием в “формализме” и футуризме продиктованы многие положения тогдашней статьи о Хлебникове, понятом как “знамя”, как “партийный лозунг” левой эстетики: теоретической (Опояз) и практической (Леф). На протяжении статьи Винокур попеременно выступает то как обвинитель, то как защитник и, как судья, выносит в конце свой оправдательный приговор (в тексте четыре раза встречаются слова с этим корнем: оправдано, оправданы, оправдать, оправдание). De facto Винокур вершит суд быта (или, как говорит он сам, “человеческий суд”) над явлением духовной культуры: из многообразных её порождений он готов принять только те, которые могут быть ассимилированы бытом и без потерь переведены на его язык. Винокур оценивает опыты Хлебникова с точки зрения “практической стилистики” бытовой речи: „В эволюции поэтического языка найдёт себе, конечно, место и историческое оправдание как словотворчество футуристское, так и заумь: всё это, очевидно, для чего-то в каком-то смысле было нужно в истории поэзии. История практической речи может, однако, пройти мимо футуристской поэзии вполне равнодушно“.12
Острым разочарованием в “формализме” и футуризме продиктованы многие положения тогдашней статьи о Хлебникове, понятом как “знамя”, как “партийный лозунг” левой эстетики: теоретической (Опояз) и практической (Леф). На протяжении статьи Винокур попеременно выступает то как обвинитель, то как защитник и, как судья, выносит в конце свой оправдательный приговор (в тексте четыре раза встречаются слова с этим корнем: оправдано, оправданы, оправдать, оправдание). De facto Винокур вершит суд быта (или, как говорит он сам, “человеческий суд”) над явлением духовной культуры: из многообразных её порождений он готов принять только те, которые могут быть ассимилированы бытом и без потерь переведены на его язык. Винокур оценивает опыты Хлебникова с точки зрения “практической стилистики” бытовой речи: „В эволюции поэтического языка найдёт себе, конечно, место и историческое оправдание как словотворчество футуристское, так и заумь: всё это, очевидно, для чего-то в каком-то смысле было нужно в истории поэзии. История практической речи может, однако, пройти мимо футуристской поэзии вполне равнодушно“.12
Отбор написанного Хлебниковым Винокур вел не только по линии простота / сложность, но и по линии завершённость / незавершённость. В бумагах Хлебникова, писал он, „есть записочка, содержащая суммарный перечень вещей, которые должны были войти в собрание сочинений, проектировавшееся Якобсоном: перечень этот прямо устраняет ‹...› груду бессмысленных обрывков, которыми наполняли книжечки Хлебникова его издатели, и указывает на вещи, только законченные и более или менее цельные“.13 Эта точка зрения находит своих защитников и в наши дни,14
Эта точка зрения находит своих защитников и в наши дни,14 хотя на чём она основана, ясно не вполне — ведь сам „Хлебников не подготовил ни одного сборника своих произведений. Так называемое „Завещание Хлебникова” представляет собой только предварительный набросок издательского плана, составленного не Хлебниковым, а редактором неосуществленного собрания его произведений Р.О. Якобсоном (1919)“.15
хотя на чём она основана, ясно не вполне — ведь сам „Хлебников не подготовил ни одного сборника своих произведений. Так называемое „Завещание Хлебникова” представляет собой только предварительный набросок издательского плана, составленного не Хлебниковым, а редактором неосуществленного собрания его произведений Р.О. Якобсоном (1919)“.15 И вопрос не в том, были ли у Хлебникова вполне законченные стихотворения16
И вопрос не в том, были ли у Хлебникова вполне законченные стихотворения16 — разумеется, были, — а в том, что граница между законченным и незаконченным у него всегда относительна, несущественна (не случайно Хлебников мог собирать целые поэмы и сверхповести из разножанровых отрывков, вне эпического контекста воспринимающихся как лирическое целое17
— разумеется, были, — а в том, что граница между законченным и незаконченным у него всегда относительна, несущественна (не случайно Хлебников мог собирать целые поэмы и сверхповести из разножанровых отрывков, вне эпического контекста воспринимающихся как лирическое целое17 ). Отсутствие строгой (семиотической) границы между становящимся (ενεργεια) и ставшим (εργον) как нельзя лучше соответствует той смысловой подвижности формы, которая отличает “новую семантическую систему” Хлебникова.18
). Отсутствие строгой (семиотической) границы между становящимся (ενεργεια) и ставшим (εργον) как нельзя лучше соответствует той смысловой подвижности формы, которая отличает “новую семантическую систему” Хлебникова.18 Такой взгляд согласуется с выводом о “карнавальном” характере хлебниковского мироощущения,19
Такой взгляд согласуется с выводом о “карнавальном” характере хлебниковского мироощущения,19 „враждебного всему готовому и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность“.20
„враждебного всему готовому и завершенному, всяким претензиям на незыблемость и вечность“.20 Сходным образом представлял себе Хлебникова Винокур: в другом месте своей статьи он определил семантическое пространство поэта как „ландшафт без горизонта, лицо — без профиля“,21
Сходным образом представлял себе Хлебникова Винокур: в другом месте своей статьи он определил семантическое пространство поэта как „ландшафт без горизонта, лицо — без профиля“,21 одним словом, континуум без деления на дискретные единицы).22
одним словом, континуум без деления на дискретные единицы).22
Самой яркой чертой деятельности Хлебникова современникам казался его исключительный теоретизм, стиравший грани между эстетическим и научным творчеством. Впервые об этом написал В.М. Жирмунский в рецензии на исследование Якобсона: „‹...› из лаборатории Хлебникова, как из реторты гениального экспериментатора-физиолога, вышло не живое дитя, а недоношенный гомункул, интересный для учёного исследователя, но лишенный признаков органической жизни“.23 Эту линию в оценке Хлебникова продолжил Винокур: „Пусть оправданы “исторически” и “заумь”, и “словоновшество”, и “корявость” Хлебникова. Пусть учёные доказывают, что всё это “закономерно”, что уродство это кому-то и для чего-то было нужно ‹...› Но стихи пишутся не для учёных ‹...› Мы словно забыли, что отношение к поэзии возможно и иное — не научное, а просто человеческое“.24
Эту линию в оценке Хлебникова продолжил Винокур: „Пусть оправданы “исторически” и “заумь”, и “словоновшество”, и “корявость” Хлебникова. Пусть учёные доказывают, что всё это “закономерно”, что уродство это кому-то и для чего-то было нужно ‹...› Но стихи пишутся не для учёных ‹...› Мы словно забыли, что отношение к поэзии возможно и иное — не научное, а просто человеческое“.24 Очевидно, что критический пафос Винокура был направлен не только против самой поэзии, но и против её историко-литературной реабилитации.
Очевидно, что критический пафос Винокура был направлен не только против самой поэзии, но и против её историко-литературной реабилитации.
Критика хлебниковской “теоретичности” находит своеобразный аналог в полемике Московского лингвистического кружка (МЛК) с теориями символистов в области лингвистики и поэтики. В эту борьбу включился и Винокур: в статье «О символистах и научной поэтике» (1921), посвященной разбору лингвистической философии А. Белого («Глоссолалия», 1921), филолог поставил себе задачей „еще раз показать, что научное творчество символистов — ненаучно“.25 Но если “учёные штудии” автора «Петербурга» и «Котика Летаева» Винокур ещё мог противопоставить его художественной практике,26
Но если “учёные штудии” автора «Петербурга» и «Котика Летаева» Винокур ещё мог противопоставить его художественной практике,26 то в случае с Хлебниковым “наука” и поэзия, как заметил позднее Б. Лившиц, оказались неразделимыми,27
то в случае с Хлебниковым “наука” и поэзия, как заметил позднее Б. Лившиц, оказались неразделимыми,27 и потому неизбежным образом изменилась общая оценка.
и потому неизбежным образом изменилась общая оценка.
Неприятие “научной” поэзии Хлебникова во многом сложилось под влиянием идей Г.Г. Шпета, особенно авторитетных для Винокура в 1924–1925 гг. Именно Шпет квалифицировал гипертрофированную теоретичность как определяющий признак футуризма: „Футуризм, — утверждал он, — есть теория искусства без самого искусства“, а футурист — это „тот, у кого теория искусства есть начало, причина и основание искусства“. „Утверждающие примат поэтики над поэзией — футуристы“.28 Такое понимание футуризма, и по сей день печатно не оспоренное, представляется отчасти справедливым — в особенности, по отношению к будетлянину Хлебникову. Вопрос только в том, заслуживает ли теоретический пафос хлебниковской поэзии столь резкого осуждения, какое она вызвала у Винокура и его единомышленников. Ю.Н.Тынянов, который ещё в 1924 г. дал Хлебникову определение “поэт-теоретик”,29
Такое понимание футуризма, и по сей день печатно не оспоренное, представляется отчасти справедливым — в особенности, по отношению к будетлянину Хлебникову. Вопрос только в том, заслуживает ли теоретический пафос хлебниковской поэзии столь резкого осуждения, какое она вызвала у Винокура и его единомышленников. Ю.Н.Тынянов, который ещё в 1924 г. дал Хлебникову определение “поэт-теоретик”,29 сумел увидеть едва ли не самую важную черту духовной культуры XX в.: он понял, что „совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства“. Этому учит нас Хлебников, который „смотрит на вещи, как на явления, — взглядом учёного, проникающего в процесс и в протекание, — вровень“.30
сумел увидеть едва ли не самую важную черту духовной культуры XX в.: он понял, что „совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства“. Этому учит нас Хлебников, который „смотрит на вещи, как на явления, — взглядом учёного, проникающего в процесс и в протекание, — вровень“.30 Статья Тынянова положила начало целому ряду исследований, в которых Хлебников предстает не только как объект науки, но и как её субъект.
Статья Тынянова положила начало целому ряду исследований, в которых Хлебников предстает не только как объект науки, но и как её субъект.
2
Второе эссе о Хлебникове представляет собой доклад, который был прочитан Винокуром 29 ноября 1945 г. во время юбилейного заседания в музее В.В. Маяковского.31 Помимо связного текста, который воспроизводится в настоящем издании, черновик заключает в себе маргиналии, большая часть которых хотя и поддается прочтению, но не содержит ясно сформулированных тезисов (например: „Эпос — без начала и конца“, „связь с биографией: наволочка и т.д.“32
Помимо связного текста, который воспроизводится в настоящем издании, черновик заключает в себе маргиналии, большая часть которых хотя и поддается прочтению, но не содержит ясно сформулированных тезисов (например: „Эпос — без начала и конца“, „связь с биографией: наволочка и т.д.“32 и др.). Сохранился также набросок плана33
и др.). Сохранился также набросок плана33 и машинопись с расшифровкой стенограммы:34
и машинопись с расшифровкой стенограммы:34 почти все содержащиеся там положения вошли в основной текст.
почти все содержащиеся там положения вошли в основной текст.
Доклад выдержан в уникальном для его автора жанре лингвофилософского рассуждения: мировоззрение исследователя раскрывается в нем в такой же степени, как и мировоззрение исследуемого. В изучении Хлебникова работа Винокура составила целый этап, во многом ещё не пройденный наукой: мысли, высказанные здесь, до сих пор не получили должной известности (они лишь отчасти вошли в книгу о Маяковском35 ). Наряду с тезисами, продолжающими статью 1924 г. (например, о теоретизме как основном недостатке заумной поэзии), в докладе заключен ряд принципиально новых положений, афористически выраженных Винокуром в формуле „вне времени и пространства“.
). Наряду с тезисами, продолжающими статью 1924 г. (например, о теоретизме как основном недостатке заумной поэзии), в докладе заключен ряд принципиально новых положений, афористически выраженных Винокуром в формуле „вне времени и пространства“.
На свободное обращение с пространственно-временным континуумом, не раз провозглашавшееся самим Хлебниковым,36 современники обратили внимание уже в 1920-е годы. В одном из некрологов автор, скрывшийся под псевдонимом Вел. (= Л.Е. Аренс), писал: „В то время как Уэллс в своих фантастических вещах по рельсам, последнее слово техники, разъезжает во времени, нажимая попеременно назад-рычаг, вперед-рычаг, — Хлебников, азиатский дух, одновременно и в прошлом и в будущем, и довлеет настоящему“.37
современники обратили внимание уже в 1920-е годы. В одном из некрологов автор, скрывшийся под псевдонимом Вел. (= Л.Е. Аренс), писал: „В то время как Уэллс в своих фантастических вещах по рельсам, последнее слово техники, разъезжает во времени, нажимая попеременно назад-рычаг, вперед-рычаг, — Хлебников, азиатский дух, одновременно и в прошлом и в будущем, и довлеет настоящему“.37 Созвучен этому был другой некролог, принадлежащий Д.И. Выгодскому: „Чтобы понять Хлебникова ‹...› надо вместе с ним выйти за пределы не только грамматики и синтаксиса, но и логики, и времени, и пространства“.38
Созвучен этому был другой некролог, принадлежащий Д.И. Выгодскому: „Чтобы понять Хлебникова ‹...› надо вместе с ним выйти за пределы не только грамматики и синтаксиса, но и логики, и времени, и пространства“.38 А через полгода после смерти поэта О. Мандельштам выразил ту же мысль иначе: „Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умевший различить, что ближе — железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”“.39
А через полгода после смерти поэта О. Мандельштам выразил ту же мысль иначе: „Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умевший различить, что ближе — железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве”“.39
Разумеется, в какой-то мере эти отзывы современников нашли свое продолжение в размышлениях позднего Винокура, однако в его интерпретации формула “вне времени и пространства” выражает нечто большее — саму суть хлебниковской борьбы против знаковости языка. Речь идёт об асемиотической (антисемиотической) утопии поэта, который отказывался от услуг знака во имя торжества смысла. Категории пространства и времени Винокур понял как семиотические: они суть необходимые условия реализации смысла в знаковой форме.40 В 1919 г. Якобсон указал на то, что „науке ещё чужд вопрос о времени и пространстве как формах поэтического языка“.41
В 1919 г. Якобсон указал на то, что „науке ещё чужд вопрос о времени и пространстве как формах поэтического языка“.41 Их знаковая природа позднее была раскрыта М.М. Бахтиным: „Наука, искусство и литература имеют дело ‹...› со смысловыми моментами, которые как таковые не поддаются временным и пространственным определениям“. Но „каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт ‹...› они должны принять какое-либо временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами“.42
Их знаковая природа позднее была раскрыта М.М. Бахтиным: „Наука, искусство и литература имеют дело ‹...› со смысловыми моментами, которые как таковые не поддаются временным и пространственным определениям“. Но „каковы бы ни были эти смыслы, чтобы войти в наш опыт ‹...› они должны принять какое-либо временно-пространственное выражение, то есть принять знаковую форму, слышимую и видимую нами“.42
Преодоление времени и пространства было для Хлебникова (так понимал Винокур) преодолением формы во имя содержания: „Форма — это материальное, историческое, национальное, т.е. нечто, наделенное свойствами временного, местного, „случайного”. Содержание же — бесплотно, внеисторично, вневременно, оно — всеобщее“.43 Хлебников хотел избавиться от неизбежных потерь, которые несет содержание, выраженное намеками слов (II, 11), то есть переводимое попеременно со смыслового уровня на знаковый и обратно: „Содержание должно быть доступно непосредственно, не через форму, а само по себе“.44
Хлебников хотел избавиться от неизбежных потерь, которые несет содержание, выраженное намеками слов (II, 11), то есть переводимое попеременно со смыслового уровня на знаковый и обратно: „Содержание должно быть доступно непосредственно, не через форму, а само по себе“.44 Борьба против знакового многообразия велась за единство смысла — это и есть то “единое, живое целое”, о котором Винокур говорил как о предмете хлебниковских чаяний.45
Борьба против знакового многообразия велась за единство смысла — это и есть то “единое, живое целое”, о котором Винокур говорил как о предмете хлебниковских чаяний.45 В таком плане следует понимать и “антиформализм” Хлебникова. Поэт испытывал не просто “вражду к форме”46
В таком плане следует понимать и “антиформализм” Хлебникова. Поэт испытывал не просто “вражду к форме”46 или “презрение к слову”,47
или “презрение к слову”,47 но и вражду к семиотической форме, презрение к семиотическому слову: абстрактному, неизменному, конечному.48
но и вражду к семиотической форме, презрение к семиотическому слову: абстрактному, неизменному, конечному.48 Он стремился избежать условности (“произвольности”) знака.49
Он стремился избежать условности (“произвольности”) знака.49 „Слово в теперешнем смысле — случайное слово, нужное для какой-нибудь практики. Но слово точное должно варьировать любой оттенок мысли“.50
„Слово в теперешнем смысле — случайное слово, нужное для какой-нибудь практики. Но слово точное должно варьировать любой оттенок мысли“.50 „“Самовитое слово”, “слово как таковое”, “воскрешенное слово” ‹...› освобождено ‹...› созданным, вновь рожденным названием предмета“.51
„“Самовитое слово”, “слово как таковое”, “воскрешенное слово” ‹...› освобождено ‹...› созданным, вновь рожденным названием предмета“.51 У этого текучего, творимого Хлебниковым “слова” часто нет не только устоявшегося (конвенционального) значения, но и денотата: „Важная возможность поэтического неологизма — беспредметность“.52
У этого текучего, творимого Хлебниковым “слова” часто нет не только устоявшегося (конвенционального) значения, но и денотата: „Важная возможность поэтического неологизма — беспредметность“.52
Таким образом, заумный язык есть язык незнаковый („непосредственно несущий смысл“53 ). Хлебникову претило безразличие умного языка — всяких дательных падежей (V, 235) — по отношению к передаваемому содержанию. „Вся суть его теории в том, что он перенес ‹...› центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет не окрашенного смыслом звучания“.54
). Хлебникову претило безразличие умного языка — всяких дательных падежей (V, 235) — по отношению к передаваемому содержанию. „Вся суть его теории в том, что он перенес ‹...› центр тяжести с вопросов о звучании на вопрос о смысле. Для него нет не окрашенного смыслом звучания“.54 Потому Хлебников и не мог примириться с “асимметрическим дуализмом знака”,55
Потому Хлебников и не мог примириться с “асимметрическим дуализмом знака”,55 при котором одни и те же формы передают разные смыслы, а единство смысла получает разное языковое выражение. Борьбой с синонимией объясняется стремление поэта к материковому языку, борьбой с омонимией — стремление к „языку бесплотному“, „в котором звук сам по себе, буква сама по себе несли бы всю полноту смысла“.56
при котором одни и те же формы передают разные смыслы, а единство смысла получает разное языковое выражение. Борьбой с синонимией объясняется стремление поэта к материковому языку, борьбой с омонимией — стремление к „языку бесплотному“, „в котором звук сам по себе, буква сама по себе несли бы всю полноту смысла“.56
Основное содержание деятельности Хлебникова Винокур увидел в торжестве смысла за счет знака, семантики за счет грамматики: желаемое единство содержания и выражения Хлебников хотел сделать действительным — путем искусственной семантизации фонетических и грамматических форм.57 Такое понимание поэтического языкотворчества развивает идею К. Фосслера о том, что „футуристы языка существовали во все времена“: „‹...› суть этого явления заключается не в чём ином, как в восстановлении равновесия между грамматической структурой и душевным мнением — в пользу этого последнего“.58
Такое понимание поэтического языкотворчества развивает идею К. Фосслера о том, что „футуристы языка существовали во все времена“: „‹...› суть этого явления заключается не в чём ином, как в восстановлении равновесия между грамматической структурой и душевным мнением — в пользу этого последнего“.58 Как и Фосслер, Винокур увидел психическую основу хлебниковских опытов в свойственной человеку неудовлетворенности наличными средствами выражения и передачи смысла: пусть мечта поэта „есть только мечта — но разве ‹...› нет, не бывает такой мечты у человечества? Хлебников разглядел эту мечту в жизни и сделал её своим идеалом“.59
Как и Фосслер, Винокур увидел психическую основу хлебниковских опытов в свойственной человеку неудовлетворенности наличными средствами выражения и передачи смысла: пусть мечта поэта „есть только мечта — но разве ‹...› нет, не бывает такой мечты у человечества? Хлебников разглядел эту мечту в жизни и сделал её своим идеалом“.59 Но, прощая пансемантизм как тему, Винокур не простил его Хлебникову как реально пережитую ситуацию. Попытки поэта кажутся ему изначально обреченными на неудачу. Он готов предпочесть перифраз непосредственному осуществлению идеи. Одно дело, пишет Винокур, если бы Хлебников „нам действительно рассказал о том языке, о каком он мечтает“60
Но, прощая пансемантизм как тему, Винокур не простил его Хлебникову как реально пережитую ситуацию. Попытки поэта кажутся ему изначально обреченными на неудачу. Он готов предпочесть перифраз непосредственному осуществлению идеи. Одно дело, пишет Винокур, если бы Хлебников „нам действительно рассказал о том языке, о каком он мечтает“60 — как, например, это сделал Фет: О если б без слова / Сказаться душой было можно («Как мошки зарею...», 1844),61
— как, например, это сделал Фет: О если б без слова / Сказаться душой было можно («Как мошки зарею...», 1844),61 но Хлебников „поспешил ‹...› реализовать эту мечту в самом своем творчестве: он стал творить уже на мечтаемом, а для него самого — чуть ли не вполне реальном языке“.62
но Хлебников „поспешил ‹...› реализовать эту мечту в самом своем творчестве: он стал творить уже на мечтаемом, а для него самого — чуть ли не вполне реальном языке“.62
Винокур отверг донкихотство Хлебникова, который оказался для него недостаточно семиотичен. Поэт “вне времени и пространства” в большой степени получил оценку hie et nunc. Но мы обязаны отличать ценностный аспект от сущностного, хотя в жизни они неразделимы: тот, кто правильно понимает, но неправильно оценивает, должен быть нам дороже тех, кто правильно оценивает, но неправильно понимает.
* * *
Г.О. Винокур
Хлебников63
Хлебников однажды написал про себя следующее:
Я задался вопросом, не время ли дать Вам очерк моих работ, разнообразием и разбросанностью которых я отчасти утомлен. Мне иногда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как возможности, скитаться в этом мире, то они, утомленные ничтожеством других людей, должны были бы избирать, как остров, душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней. Таким образом, душа одного человека может казаться целым собранием великих теней. Но если остров, возвышающийся над волнами, несколько тесен, то неудивительно, если они время от времени сталкивают одного из бессмертных опять в воду. И таким образом состав великих постоянно меняется ‹...›
64
Эта реально-биографическая ссылка могла бы показаться неуместной в отношении написанного Хлебниковым. То, что написано Хлебниковым, — в реально-биографическом комментарии для понимания своего не нуждается: есть такие “неличные” поэты — Хлебников из их числа.65 Но мы, инстинктивно почти, ищем всё же биографических справок, ибо, читая Хлебникова, хотим также понять и то, что поэтом написано не было. Последнее чуть ли не важнее первого. Мы недоумеваем — какая же, в самом деле, притягательная сила поддерживает нас в этом героическом переходе через бездонные пропасти и мрачные провалы хлебниковского косноязычия, которым даже сам поэт, по живому его признанию, был отчасти утомлен. Усвоение Хлебникова — это мучительный процесс разгадывания по немногим намекам того, что могло бы быть написано поэтом, что он должен был бы написать, если бы — не его биография.
Но мы, инстинктивно почти, ищем всё же биографических справок, ибо, читая Хлебникова, хотим также понять и то, что поэтом написано не было. Последнее чуть ли не важнее первого. Мы недоумеваем — какая же, в самом деле, притягательная сила поддерживает нас в этом героическом переходе через бездонные пропасти и мрачные провалы хлебниковского косноязычия, которым даже сам поэт, по живому его признанию, был отчасти утомлен. Усвоение Хлебникова — это мучительный процесс разгадывания по немногим намекам того, что могло бы быть написано поэтом, что он должен был бы написать, если бы — не его биография.
Жестокая судьба Хлебникова нам всем — ещё современникам поэта — хорошо известна. И не о ней сейчас речь — оставим эти “естественные” объяснения специалистам своего ремесла. Не только внешняя судьба Хлебникова — вечная нужда, вечное непонимание, улюлюкание образованной толпы, странные психические предрасположения — повинна в том, что из человека, наделенного несомненными признаками поэтической гениальности, в конечном итоге — будем честны хотя бы перед памятью поэта — ничего не вышло;66 на этот итог Хлебников был осужден уже самими внутренними качествами своего таланта, самою структурою своей личности, тем культурным типом, какой был в ней исторически воплощен. Мне кажется позволительным думать, что эта основная характеристика хлебниковской личности ярко и точно указана самим поэтом в том признании, которое приведено выше. Хлебников и в самом деле был способен казаться — и, прежде всего, самому себе — целым собранием блуждающих великих теней, жаждущих воплощения и отдыха. И, вместе с поэтом, мы не станем, конечно, удивляться, что скорбные рамки жизненной судьбы Хлебникова не могли вынести этого вечного напряжения, что “бессмертным” в рамках этих оказалось тесно. Пейзаж древних культур, чувством которого в высшей мере обладал Хлебников, своеобразная лингвистическая метафизика, на фоне которой мелькают замечательные словотворческие догадки, дневник Марии Башкирцевой и квази-математические исчисления о судьбах человечества, «Труба Марсиан» и кресло Председателя Земного Шара, заумный язык и пророчества67
на этот итог Хлебников был осужден уже самими внутренними качествами своего таланта, самою структурою своей личности, тем культурным типом, какой был в ней исторически воплощен. Мне кажется позволительным думать, что эта основная характеристика хлебниковской личности ярко и точно указана самим поэтом в том признании, которое приведено выше. Хлебников и в самом деле был способен казаться — и, прежде всего, самому себе — целым собранием блуждающих великих теней, жаждущих воплощения и отдыха. И, вместе с поэтом, мы не станем, конечно, удивляться, что скорбные рамки жизненной судьбы Хлебникова не могли вынести этого вечного напряжения, что “бессмертным” в рамках этих оказалось тесно. Пейзаж древних культур, чувством которого в высшей мере обладал Хлебников, своеобразная лингвистическая метафизика, на фоне которой мелькают замечательные словотворческие догадки, дневник Марии Башкирцевой и квази-математические исчисления о судьбах человечества, «Труба Марсиан» и кресло Председателя Земного Шара, заумный язык и пророчества67 — во всем этом личность Хлебникова расплылась каким-то недоуменным пятном, болезненной тенью, утеряла свои контуры. Это — ландшафт без горизонта, лицо — без профиля. Утомленные души великих усопших, пригрезившиеся поэту, так и не отдохнули на том острове, куда он их гостеприимно зазвал. “Состав великих” слишком часто менялся. Хлебников — мы знаем уже — плохое убежище для ищущих отдыха.
— во всем этом личность Хлебникова расплылась каким-то недоуменным пятном, болезненной тенью, утеряла свои контуры. Это — ландшафт без горизонта, лицо — без профиля. Утомленные души великих усопших, пригрезившиеся поэту, так и не отдохнули на том острове, куда он их гостеприимно зазвал. “Состав великих” слишком часто менялся. Хлебников — мы знаем уже — плохое убежище для ищущих отдыха.
Но станем ли мы пугаться этого? Перед нами всё же — реальные стихи, реальная литература; больше того: перед нами — поэзия. Глухие пусть остаются у порога. Но мы — даже через все пропасти и провалы — отчетливо слышим этот поэтический зов:
Вы что-то не знали, о чем-то молчали,
Вы ждали каких-то неясных примет,
И тополи дальние тени качали,
И поле лишь было молчанья совет.68
Поэзия Хлебникова. Что сказать о ней? Мудрый «Опояз» не расчислил еще, какую младшую линию предшествующей литературной генерации канонизировал Хлебников, но место поэта в эволюции наших поэтических стилей в общих чертах своих особых сомнений не вызывает. Конечно, нужно было быть символизму, чтобы появилось самовитое слово Хлебникова, нужны были ослепительный блеск «Правды вечной кумиров» и высокая патетическая риторика «Cor Ardens»,69 чтобы зазвучала чистая, замкнутая фраза хлебниковской прозы, “снижающий” говорок «Сельской Очарованности», «Лесной Девы» или домашняя разговорная интонация хлебниковского дольника:
чтобы зазвучала чистая, замкнутая фраза хлебниковской прозы, “снижающий” говорок «Сельской Очарованности», «Лесной Девы» или домашняя разговорная интонация хлебниковского дольника:
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: кто же я?
Мы создадим слово о полку Игореви
Или же что-нибудь на него похожее.70
Труднее, конечно, было бы говорить о конкретной зависимости Хлебникова от старших поэтов, да и вряд ли это чему-либо помогло. Сам Хлебников ничего не сказал нам о своих поэтических пристрастиях: лишь два-три раза в стихах его упоминается имя Пушкина, “пушкинская красота” — и это, конечно, симптоматично.71 С другой стороны — далеко не выясненной ещё остается роль Хлебникова в развитии современной нам поэзии. Принято думать, что роль эта — исключительно крупная. Но мнение, будто Хлебников — исток новой поэзии, так охотно поддерживаемое его поклонниками, — основано на явном преувеличении и несомненно искажает историческую перспективу.72
С другой стороны — далеко не выясненной ещё остается роль Хлебникова в развитии современной нам поэзии. Принято думать, что роль эта — исключительно крупная. Но мнение, будто Хлебников — исток новой поэзии, так охотно поддерживаемое его поклонниками, — основано на явном преувеличении и несомненно искажает историческую перспективу.72 Хлебников своей традиции не создал. Традиция российского футуризма — есть, конечно, традиция Маяковского, а не Хлебникова. Правда, сам Маяковский считает, что он весьма многим обязан своему “гениальному учителю”; в действительности же, усвоив ряд внешних приемов хлебниковского письма, Маяковский очень скоро уже вышел за рамки, которые намечались для русского поэтического слова творчеством Хлебникова. Культура слова никогда не стояла перед Маяковским в качестве непосредственной задачи: поэзия его строится на иных моментах, и “словоновшество” его, достаточно, в конце концов, благоразумное и осторожное, есть лишь побочный продукт его лирики. Маяковский и Хлебников не только ‹не› родственны друг другу, но они просто — антиподы. И если есть поэт, в стихах которого до сих пор, хотя и не всегда внятно, чувствуется хлебниковская походка, то это, конечно, только Николай Асеев. Творчество Асеева шло разными путями, но в лучший его период — в период «Оксаны»73
Хлебников своей традиции не создал. Традиция российского футуризма — есть, конечно, традиция Маяковского, а не Хлебникова. Правда, сам Маяковский считает, что он весьма многим обязан своему “гениальному учителю”; в действительности же, усвоив ряд внешних приемов хлебниковского письма, Маяковский очень скоро уже вышел за рамки, которые намечались для русского поэтического слова творчеством Хлебникова. Культура слова никогда не стояла перед Маяковским в качестве непосредственной задачи: поэзия его строится на иных моментах, и “словоновшество” его, достаточно, в конце концов, благоразумное и осторожное, есть лишь побочный продукт его лирики. Маяковский и Хлебников не только ‹не› родственны друг другу, но они просто — антиподы. И если есть поэт, в стихах которого до сих пор, хотя и не всегда внятно, чувствуется хлебниковская походка, то это, конечно, только Николай Асеев. Творчество Асеева шло разными путями, но в лучший его период — в период «Оксаны»73 — он прямо примыкает к Хлебникову, не только уже внешними формами и приемами, но и по существу: из четырех строчек хлебниковского дольника, выше приведенных, первые три строки могли бы быть написаны Асеевым, и лишь четвертая — Маяковским.74
— он прямо примыкает к Хлебникову, не только уже внешними формами и приемами, но и по существу: из четырех строчек хлебниковского дольника, выше приведенных, первые три строки могли бы быть написаны Асеевым, и лишь четвертая — Маяковским.74
Да, традиции своей Хлебников не создал — и в этом, конечно, нет ничего удивительного. Литературная “революция” эпохи «Пощечины Общественному Вкусу»75 — была, конечно, не революцией, а лишь своеобразной артиллерийской подготовкой. Хлебников, занимавший центральное место в эту эпоху, — явился лишь знаменем, партийным лозунгом в руках тех, кто позже, как футуристы, вышли на большую дорогу русской поэзии. Все те внешние приметы, на основании которых сложилось общее представление о Хлебникове и которые самому ему всегда мешали делать свое дело, — заумь, смехачи и вообще весь тот мучительный мусор, который доживает ныне свой век в упорной бессмыслице Кручёных,76
— была, конечно, не революцией, а лишь своеобразной артиллерийской подготовкой. Хлебников, занимавший центральное место в эту эпоху, — явился лишь знаменем, партийным лозунгом в руках тех, кто позже, как футуристы, вышли на большую дорогу русской поэзии. Все те внешние приметы, на основании которых сложилось общее представление о Хлебникове и которые самому ему всегда мешали делать свое дело, — заумь, смехачи и вообще весь тот мучительный мусор, который доживает ныне свой век в упорной бессмыслице Кручёных,76 где стоит уже на границе шарлатанства, — всё это по существу поэтического наследия Хлебникова никак не определяет и в лучшем случае сохраняет за собой значение разве лишь исторического симптома, временной тенденции. Хлебников не многое успел внести в сокровищницу русского поэтического слова, — но то, что осталось от него, это, конечно, не заумь, не бобэоби и не любхо.77
где стоит уже на границе шарлатанства, — всё это по существу поэтического наследия Хлебникова никак не определяет и в лучшем случае сохраняет за собой значение разве лишь исторического симптома, временной тенденции. Хлебников не многое успел внести в сокровищницу русского поэтического слова, — но то, что осталось от него, это, конечно, не заумь, не бобэоби и не любхо.77 Любопытно отношение самого Хлебникова к тому, что печаталось под его именем его друзьями. В его бумагах, собранных Р.О. Якобсоном, есть записочка, содержащая суммарный перечень вещей, которые должны были войти в собрание сочинений, проектировавшееся Якобсоном: перечень этот прямо устраняет из собрания сочинений груду бессмысленных обрывков, которыми наполняли книжечки Хлебникова его издатели, и указывает на вещи, только законченные и более или менее цельные.78
Любопытно отношение самого Хлебникова к тому, что печаталось под его именем его друзьями. В его бумагах, собранных Р.О. Якобсоном, есть записочка, содержащая суммарный перечень вещей, которые должны были войти в собрание сочинений, проектировавшееся Якобсоном: перечень этот прямо устраняет из собрания сочинений груду бессмысленных обрывков, которыми наполняли книжечки Хлебникова его издатели, и указывает на вещи, только законченные и более или менее цельные.78 И действительно, пора, наконец, сказать, что воспоминание наше о Хлебникове оправдано может быть не косноязычными гримасами, которые столь выгодно были использованы для себя его учениками, а лишь теми немногими, но зато подлинными блестками поэтического золота, которые, как молния в пустыне, озаряют вдруг перед нами далекие видения его поэтической интуиции. Многое хочется простить Хлебникову, многое становится понятным и близким, когда, после тяжелой и часто бесплодной борьбы с проволочными заграждениями его “разорванного сознания”,79
И действительно, пора, наконец, сказать, что воспоминание наше о Хлебникове оправдано может быть не косноязычными гримасами, которые столь выгодно были использованы для себя его учениками, а лишь теми немногими, но зато подлинными блестками поэтического золота, которые, как молния в пустыне, озаряют вдруг перед нами далекие видения его поэтической интуиции. Многое хочется простить Хлебникову, многое становится понятным и близким, когда, после тяжелой и часто бесплодной борьбы с проволочными заграждениями его “разорванного сознания”,79 вдруг засверкают перед тобой такие полновесные, чистой мелодией слова напоенные, строки:
вдруг засверкают перед тобой такие полновесные, чистой мелодией слова напоенные, строки:
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем,
Всегда, навсегда‹,›
здесь и там.80
После сухой и безводной степи «Творений»81 и тому подобных сборников, канонизированных в Хлебникове его ближайшими соратниками и “общественным мнением”, как легко и вольно дышит хлебниковский примитив в какой-нибудь «Иранской песне» или «Сельской Очарованности»:
и тому подобных сборников, канонизированных в Хлебникове его ближайшими соратниками и “общественным мнением”, как легко и вольно дышит хлебниковский примитив в какой-нибудь «Иранской песне» или «Сельской Очарованности»:
Верю сказкам наперед,
Прежде сказки
‹—›
станут былью,
Но когда дойдёт черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.
Или все свои права
Брошу будущему в печку?
Эй, черней, лугов трава,
Каменей навеки, речка!82 Я — лесное правительство
Я — лесное правительство
Волей чистых усмешек,
И мое местожительство —
Где зеленый орешек.83
И уже последние препятствия к взаимному пониманию устранены, когда Хлебников — вдруг, следуя непостижимой прихоти, дарит неожиданно читателя таким вершинами поэтического слова:
И крикнет, и цокнет весенняя кровь:
Ляля на лебеде! Ляля — любовь!84
Пусть оправданы “исторически” и заумь, и “словоновшество”, и “корявость” Хлебникова. Пусть учёные доказывают, что всё это — “закономерно”, что уродство это кому-то и для чего-то было “нужно”. Этому охотно можно поверить, это действительно так. Но стихи пишутся не для учёных: мы стали слишком историками, мы отвыкли от конкретного поэтического восприятия, от той непосредственности, которая одна только способна ввести нас в сердцевину поэтического слова. Мы словно забыли, что отношение к поэзии возможно и иное — не научное, а просто — человеческое. И сколь бы легко ни было оправдать исторически все эти больные наросты, которые мешают нам расслышать подлинное слово Хлебникова, для живого, конкретного сознания — в Хлебникове останутся всё же не снезини, не времири и смехачи, а вот эта изумительная Ляля на лебеде.85 Здесь — подлинное в Хлебникове, здесь — оправдание нашего воспоминания о нем.
Здесь — подлинное в Хлебникове, здесь — оправдание нашего воспоминания о нем.
Панна пены, Панна пены,
Что вы — тополь или сон,
Или только бьется в стены
Роковое слово “он”,
Иль за белою сорочкой
Голубь бьется с той поры,
Как исчезнул в море точкой
Хмурый призрак серой при.86
Для такой поэзии нет иного слова, кроме старого, но в иных случаях незаменимого термина: классическая поэзия. Этот классицизм Хлебникова — не гимназический парнассизм, не эллинистические бирюльки, которыми забавляются всякого рода “нео-классики” нашего времени, а та подлинная, благородная и возвышенная простота, проникновенность, которая чистым и светлым ключом бьет из самого родника поэтического сознания. Это тот классицизм, неповторенным и неповторимым образцом которого остается для нас стих Пушкина. Присутствие того, что мы обычно зовем “пушкинским”, — несомненно в Хлебникове. Наглядно убеждает в этом также хлебниковская проза, в лучших своих образцах — в рассказе «Ка», напр‹имер›, или печатаемом выше «Есире»,87 — эта поразительная чистота линии, легкой и четкой, как пушкинский почерк, эта синтаксическая скупость, эта ровная фраза.88
— эта поразительная чистота линии, легкой и четкой, как пушкинский почерк, эта синтаксическая скупость, эта ровная фраза.88 Насколько же сильнее после этого наше недоумение, насколько труднее понять нам, — почему же так мало этих светлых точек, живых мазков на необозримом пространстве болезненной невнятицы и уродливых судорог, почему столь странное историческое воплощение избрал для себя — где-то в глубине тлеющий, но всё же подлинный, действительный огонек поэзии. Какая судьба!
Насколько же сильнее после этого наше недоумение, насколько труднее понять нам, — почему же так мало этих светлых точек, живых мазков на необозримом пространстве болезненной невнятицы и уродливых судорог, почему столь странное историческое воплощение избрал для себя — где-то в глубине тлеющий, но всё же подлинный, действительный огонек поэзии. Какая судьба!
На Хлебникове отдохнуть трудно. Он далеко не сразу и далеко не всегда позволяет „забыться праздною душой“.89 Но для того, кто любит и умеет отыскивать редкие золотые крупицы в несчетном песке морском, — этот путь по Хлебникову безрезультатным не останется. Потому что одной какой-то стороной своего неустроенного и скорбного духа Хлебников коснулся всё же того вечного огня, всепрощающий свет которого помогает нам брать неодолимые с виду крепости его исторической уродливости.
Но для того, кто любит и умеет отыскивать редкие золотые крупицы в несчетном песке морском, — этот путь по Хлебникову безрезультатным не останется. Потому что одной какой-то стороной своего неустроенного и скорбного духа Хлебников коснулся всё же того вечного огня, всепрощающий свет которого помогает нам брать неодолимые с виду крепости его исторической уродливости.
Таков наш — человеческий — суд над Хлебниковым. Таким можем мы его принять и усвоить. И только таким может остаться он навсегда в лоне русской поэзии.
1924
Подготовка текста М.И. Шапира
Хлебников
‹Вне времени и пространства›90
Содержательных личных воспоминаний о Х‹лебникове› у меня нет, хотя в период 1914–1916 гг. я не раз встречался с ним‹,› и не только в официально-общественной, но и в частной обстановке. Именно, в эти годы, я, ещё совсем молодой человек, только начинавший свою самостоятельную жизнь, был своим человеком в среде лиц, пытавшихся создать большое и богатое футуристическое из‹дательст›во, но успевших издать всего две книги: «Весеннее контрагентство муз» (1915) и «Московские Мастера» (1916).
91
В этой среде я познакомился с Бурлюками, Хлебниковым, Асеевым, позднее — с С. Бобровым, Пастернаком и др. Знакомство мое и близость с Маяковским и Бриками относится уже к более позднему времени. Я присутствовал на выступлениях Хлебникова, слышал его беседы с другими, но сам с ним, по молодости лет и по застенчивости, и по общей трудности говорить с Хлебниковым, личного общения не имел. В этом смысле мне, след‹овательно›, рассказывать нечего. В моих воспоминаниях остался только общий аромат этого времени, времени юношеского — конечно, глуповатого, но очень искреннего — преклонения перед Хлебниковым, жадных и довольно бесплодных усилий понять его, и твердого, несмотря на эту бесплодность, убеждения, что перед нами человек исключительного дарования и исключительной судьбы. Это убеждение, разумеется, остается в силе и сейчас, когда мне уже кажется, что кое-что я в Хлебникове понимаю.
Что же я мог бы сказать о Хлебникове с этой стороны?
Мне хочется найти общую формулу, в которой бы выразился центральный смысл того, что я вижу в явлении, именуемом “Хлебников”?
Такой формулой может послужить банальное выражение “вне времени и вне пространства”, но очищенное от своего метафорически-банального смысла, ‹и› взятое в своем точном и буквальном значении — след‹овательно›, не в том обывательском смысле, в каком оно, как могло бы показаться, применимо к “чудаку”, неприспособленному к жизни “мечтателю” Хлебникову. Как раз в этом смысле данное выражение неприменимо к Хлебнико‹в›у, к‹ото›рый остро чувствовал и переживал то время и то пространство, в рамках которых судьба поместила его биографию. Но я хочу сказать, что основная поэтическая мысль, с к‹ото›рой пришёл и с к‹ото›рой ушёл из литературы Хлебников, была мысль о своеобразном преодолении пространства и времени. В своем видении Хлебников сразу обнимал одним взором все времена и весь мир. Он интересовался отдаленными эпохами жизни человечества, старыми, забытыми культурами всех времен и всех народов. Он, в высшем, конечно, смысле, “не понимал” разницы между VI и XX в., между египтянами и полабянами (Ка, Леуна),92 всё это было для него живым и цельным единством. Философски он ненавидел историю, он был не только ей чужд, но относился к ней, как ‹к› извечно враждебному началу. История — это разные эпохи, разные культуры, разные государства и народы, разные литературы, разные языки. Но Хлебников видел только одну общую культуру, одно человечество, одну литературу, один, наконец, язык.93
всё это было для него живым и цельным единством. Философски он ненавидел историю, он был не только ей чужд, но относился к ней, как ‹к› извечно враждебному началу. История — это разные эпохи, разные культуры, разные государства и народы, разные литературы, разные языки. Но Хлебников видел только одну общую культуру, одно человечество, одну литературу, один, наконец, язык.93
В черновой заметке «О расширении пределов российской словесности» он скорбит, что р‹усская› словесность, именуемая богатой — узка своими очертаниями и пределами. Она не содержит, по словам Х‹лебникова›, в своем составе инославянского материала, не знает персидских и монгольских веяний, забыла про камских болгар, ей плохо известно существование евреев, и т.д. Х‹лебников› заключает: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым.94 Это вовсе не любовь к архаике, это рассуждает не историк и не филолог — люди, имеющие вкус к конкретным и индивидуальным воплощениям деятельности человеческого духа — к разны‹м› культурны‹м› укладам, к разны‹м› костюмам и языкам. Нет, в Хл‹ебникове› говорит здесь не “архаист”, как говорят люди, понимающие слова Х‹лебникова› внешним образом95
Это вовсе не любовь к архаике, это рассуждает не историк и не филолог — люди, имеющие вкус к конкретным и индивидуальным воплощениям деятельности человеческого духа — к разны‹м› культурны‹м› укладам, к разны‹м› костюмам и языкам. Нет, в Хл‹ебникове› говорит здесь не “архаист”, как говорят люди, понимающие слова Х‹лебникова› внешним образом95 — в нем говорит современник всех эпох, соучастник всех культур, Председатель Земного Шара, мечтающий об одном языке для всех, ожесточенный враг всего, что делает одного человека непохожим на другого, что мешает понимать разные времена и разные пространства как единое, живое целое: Умные языки разъединяют — говорит он в защиту своего заумного языка.96
— в нем говорит современник всех эпох, соучастник всех культур, Председатель Земного Шара, мечтающий об одном языке для всех, ожесточенный враг всего, что делает одного человека непохожим на другого, что мешает понимать разные времена и разные пространства как единое, живое целое: Умные языки разъединяют — говорит он в защиту своего заумного языка.96 Для Хл‹ебникова›, в сущности, вообще нет времени, вообще нет пространства. Всё вечно, всегда, в своей глубокой сущности, неизменное и постоянное одно.97
Для Хл‹ебникова›, в сущности, вообще нет времени, вообще нет пространства. Всё вечно, всегда, в своей глубокой сущности, неизменное и постоянное одно.97
Ничего не может быть более неверного, чем представлять Х‹лебникова› славянофилом, националистом, истинно-русским человеком в старом смысле этих слов.98 Все эти мотивы для Х‹лебникова› — просто ближайшие пределы расшир‹ения› росс‹ийской› словесности — это минимальное осуществление мечты, программа-минимум. Его анти-европеизм — тоже надо понимать только с этой точки зрения — “интернациональная”, т.е. общеевропейская буржуазная культура есть смерть для материковых устремлений Хл‹ебникова›, п‹отому› ч‹то› она-то, уж, наверняка узка и ограниченна.
Все эти мотивы для Х‹лебникова› — просто ближайшие пределы расшир‹ения› росс‹ийской› словесности — это минимальное осуществление мечты, программа-минимум. Его анти-европеизм — тоже надо понимать только с этой точки зрения — “интернациональная”, т.е. общеевропейская буржуазная культура есть смерть для материковых устремлений Хл‹ебникова›, п‹отому› ч‹то› она-то, уж, наверняка узка и ограниченна.
Если продолжить эту концепцию Х‹лебникова› до её конечных выводов, то “материк”, в сущности, есть только символ “вселенной”, а “человек” вообще — сливается со всяким живым существом.
Я вижу конские свободы
И равноправие коров99
—
такова свобода, за к‹ото›рую борется Хлебников.
Эта борьба с временем и пространством неразрывно связана в Хлебникове с тем же ненавистническим отношением к материи, как воплощению идеи, мысли, деятельности сознания. Хл‹ебников› стремится к освобождению содержания от формы, словно не хочет признать неизбежного посредничества материального оформления при передаче мысли от сознания к сознанию, точно также, как хочет освободить культуру вообще от тех случайных, историчных, национальных, временных форм, в к‹ото›рых она воплощается. Очевиднее всего это сказалось на отношении Хл‹ебникова› к языку. Только люди, совсем ничего не понимающие в л‹итерату›ре, или же притворяющиеся таковыми, могли назвать языковую концепцию Хл‹ебникова› формалистической. Наоборот, никогда еще, кажется, не бывало в человеческой истории такого убежденного, прямолинейного антиформализма, такой вражды к форме, без к‹ото›рой вообще невозможно человеческое общение.100 Хл‹ебников› преодолевал язык также, как преодолевал время и пространство. Он мечтал не только о едином, материковом языке, но ещё и языке бесплотном, в котором не было бы формы самой по себе, всяких дательных падежей, как ‹он› злобно выражался,101
Хл‹ебников› преодолевал язык также, как преодолевал время и пространство. Он мечтал не только о едином, материковом языке, но ещё и языке бесплотном, в котором не было бы формы самой по себе, всяких дательных падежей, как ‹он› злобно выражался,101 и в котором звук сам по себе, буква сама по себе несла бы всю полноту смысла: поиски таких звуков, непосредственно несущих смысл, доступный всем, всегда и каждому, лишенный временных и пространственных ограничений — это и есть заумный язык. Хл‹ебников› ищет смысла и там, где его не может быть по природе — и в отдельном, взятом сам по себе звуке, и в случайных совпадениях, которые он обнаруживал в числовых выражениях исторических дат — отсюда его математическая метафизика.102
и в котором звук сам по себе, буква сама по себе несла бы всю полноту смысла: поиски таких звуков, непосредственно несущих смысл, доступный всем, всегда и каждому, лишенный временных и пространственных ограничений — это и есть заумный язык. Хл‹ебников› ищет смысла и там, где его не может быть по природе — и в отдельном, взятом сам по себе звуке, и в случайных совпадениях, которые он обнаруживал в числовых выражениях исторических дат — отсюда его математическая метафизика.102
Когда говорят о хлебниковском “инфантилизме” (Тынянов), “примитивизме” etc.103 — то всё это только естественные следствия его бунта против времени, пространства, материи. Он, действительно, словно сегодня родился и совсем свободен от груза культуры и истории — он абсолютно свободен в своем отношении к миру — п‹отому› ч‹то› воспринимает его как живое единство, и не умеет и не хочет видеть в нем никаких разгораживающих различий.
— то всё это только естественные следствия его бунта против времени, пространства, материи. Он, действительно, словно сегодня родился и совсем свободен от груза культуры и истории — он абсолютно свободен в своем отношении к миру — п‹отому› ч‹то› воспринимает его как живое единство, и не умеет и не хочет видеть в нем никаких разгораживающих различий.
Разумеется, эта концепция есть чистейший иллюзионизм и утопия, и было бы просто не честно перед памятью замечательного поэта, если б мы потщились утверждать, что его мировоззрение — наше мировоззрение. Мы понимаем поэтов не только за те их слова, к‹ото›рые мы можем буквально повторить, как наши собственные. Мы ценим в их духовной работе не только чистый вывод, но и ту страсть, то напряжение сознания, тот творческий подъем, ту способность видеть и открывать, с которыми идут к своим выводам.104 Хл‹ебников› — сказал Маяк‹овский› — „честнейший рыцарь поэзии“.105
Хл‹ебников› — сказал Маяк‹овский› — „честнейший рыцарь поэзии“.105 Это поистине прекрасно сказано. Я хочу напомнить одно замечательное заявление Хлебникова) о поэзии: Стихи, сказал он, однажды, это своего рода путешествие — надо побывать там, где никто ещё не бывал.106
Это поистине прекрасно сказано. Я хочу напомнить одно замечательное заявление Хлебникова) о поэзии: Стихи, сказал он, однажды, это своего рода путешествие — надо побывать там, где никто ещё не бывал.106 И в самом деле, истинный поэт ‹—›это всегда человек, к‹ото›рый хоть раз да побывал там, где никто до него ещё не бывал, хоть что-то, да открывший, о чём мы не знали и не догадывались без него. Хлебникову принадлежит свое законное место в среде этих открывателей. Он сделал свое открытие, сказал свое слово. Пусть его мечта есть только мечта — но разве, в самом деле, нет, не бывает такой “мечты” у человечества? Хл‹ебников› разглядел эту мечту в жизни и сделал её своим идеалом — но иначе он и не мог бы выразить её с такой чистотой, с такой свежестью и силой, с какой он воплотил её в своих созданиях.
И в самом деле, истинный поэт ‹—›это всегда человек, к‹ото›рый хоть раз да побывал там, где никто до него ещё не бывал, хоть что-то, да открывший, о чём мы не знали и не догадывались без него. Хлебникову принадлежит свое законное место в среде этих открывателей. Он сделал свое открытие, сказал свое слово. Пусть его мечта есть только мечта — но разве, в самом деле, нет, не бывает такой “мечты” у человечества? Хл‹ебников› разглядел эту мечту в жизни и сделал её своим идеалом — но иначе он и не мог бы выразить её с такой чистотой, с такой свежестью и силой, с какой он воплотил её в своих созданиях.
Но вот вопрос: в какой мере он эту мечту, действительно воплотил? Мне, кажется, что не до конца. На этом пути перед ним явилось одно могучее препятствие, заключающееся в том, что его поэзия в известной, — и не слабой, — степени оказалась заражена теоретизмом.107 Одно дело — если бы он нам действительно рассказал о том языке, о каком он мечтает. Но он, и с одной стороны это естественно, поспешил попытаться реализовать эту мечту в самом своем творчестве — он стал творить уже на этом мечтаемом, а для него самого — чуть ли не вполне реальном языке. Он уже в нашем языке хотел видеть свой мечтаемый всечеловеческий и всевременной язык — вот почему Хл‹ебников› труден для понимания. Его надо читать, переводя с мечтаемого языка на наш собственный.108
Одно дело — если бы он нам действительно рассказал о том языке, о каком он мечтает. Но он, и с одной стороны это естественно, поспешил попытаться реализовать эту мечту в самом своем творчестве — он стал творить уже на этом мечтаемом, а для него самого — чуть ли не вполне реальном языке. Он уже в нашем языке хотел видеть свой мечтаемый всечеловеческий и всевременной язык — вот почему Хл‹ебников› труден для понимания. Его надо читать, переводя с мечтаемого языка на наш собственный.108 И это придает ряду его произведений, особенно ранним — (но до конца это не преодолено и в поздних) — печать теоретичности. Это — своеобразная творческая трагедия Хлебникова. Однако всякое истинное творчество по-своему имеет свою трагедию, и это опять есть признак истинного искусства. Трагичен Ш‹експир›, Пуш‹кин›, трагичен „наступающий на горло собственной песне“, великий трибун великой революции М‹аяковский› — Хл‹ебников› им сродни. Его своеобразное слово, принадлежащее только ему, — вошло в историю русского художества‹,› и никто уже не в силах его оттуда вычеркнуть.
И это придает ряду его произведений, особенно ранним — (но до конца это не преодолено и в поздних) — печать теоретичности. Это — своеобразная творческая трагедия Хлебникова. Однако всякое истинное творчество по-своему имеет свою трагедию, и это опять есть признак истинного искусства. Трагичен Ш‹експир›, Пуш‹кин›, трагичен „наступающий на горло собственной песне“, великий трибун великой революции М‹аяковский› — Хл‹ебников› им сродни. Его своеобразное слово, принадлежащее только ему, — вошло в историю русского художества‹,› и никто уже не в силах его оттуда вычеркнуть.
1945
Подготовка текста М.И. Шапира
————————
Комментарии М.И. Шапира
 1
1 См.: Новый путь, 1921, 28 июля, № 144, с. 4 (подпись: Л.К.).
 2
2 См.: Леф, 1923, № 1, с. 204–213.
 3
3 См.:
Винокур Г. Культура языка: Очерки лингв. технологии. М., 1925, с. 189–199;
Винокур Г. Культура языка, 2-е изд. М., 1929, с. 304–318.
 4
4 См.:
Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка. М., 1943, с. 11, 16–21, 65–67, 130.
 5
5 См.: Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 222–226.
 6
6 См.:
Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М., 1990, с. 250–253 (опубликовано со стилистическими, орфографическими и пунктуационными поправками).
 7
7 См.: Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 222.
 8
8 См.:
Винокур Г.О. Филологические исследования ‹...› с. 250.
 9
9 См.: Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 226.
 10
10 См.: Леф, 1923, № 1, с. 171.
 11
11 Точно и полностью текст письма воспроизводится в работе: «Теперь для меня невозможен даже компромисс»: (Из истории отношений Г.О. Винокура с «Лефом»): Вступ. ст., публ. и примеч. М.И. Шапира. — Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2000, т. 59, № 1, с. 62–63. С.И. Гиндин и Е.А. Иванова выразили сомнение в том, что разрыв Винокура с Лефом относился к именно к февралю 1924 г.: против этого якобы свидетельствует то, что „в 1924 г. Винокур продолжал печататься в «ЛЕФе»“ (Переписка Р.О. Якобсона и Г.О. Винокура: [Подгот. текста и коммент. С.И. Гиндина и Е.А. Ивановой]. — Новое лит. обозрение, 1996, № 21, с. 96 примеч. 21). В действительности регулярно писать для «Лефа» Винокур перестал ещё в конце 1923 г., а последняя его статья в этом журнале появилась во 2-м (6-м) номере за 1924 г., когда разрыв с редакцией был уже свершившимся фактом. На это недвусмысленно указывает вышеупомянутое письмо к О.М. Брику: „Дальнейшее мое сотрудничество в ЛЕФЕ становится для меня совершенно невозможным. К убеждению этому я пришёл, конечно, не сегодня и не вчера. В течение двух лет (то есть в 1920–1922 гг. —
М.Ш.) я был оторван от русской культурной жизни, что обусловило возможность временного подчинения моего некоторому влиянию так наз‹ываемой› идеологии левого фронта‹.› Но и при этом условии, для меня, конечно, весьма несчастливом, я, отдавая свою первую статью в ЛЕФ, никак не мог предвидеть, что ЛЕФ будет тем, чем он стал. С выхода первого номера и начинается история моих сомнений ‹...› которые, после выхода номера четвертого, превратились в твердую уже уверенность, что мне с Вами не по пути ‹...› теперь для меня невозможен даже компромисс. Со своей точки зрения, Вы, конечно, правильно поступили, заключив союз с МАПП (в октябре–ноябре 1923 г. —
М.Ш.). Для меня же МАПП был только предлогом ‹...› И всё же я боялся рвать сразу. Я написал ещё статью для пятого номера (она вышла, как уже было сказано, в № 2 (6). —
М.Ш.), хотя твердо знал, что пишу свою последнюю статью для ЛЕФА. Больше для ЛЕФА я писать не могу и не буду.“ [РГАЛИ, ф. 2164 (Г.О. Винокур), оп. 1, ед. хр. 244, л. 1].
 12 Винокур Г
12 Винокур Г . Культура языка... М., 1925, с. 199. О лингвокультурной стратификации языка см.:
Шапир М.И. Язык быта/ языки духовной культуры. — Путь, 1993, № 3, с. 120–138.
 13
13 Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 224–225.
 14
14 См., например:
Иванов Вяч.Вс. Славянская пора в поэтическом языке и поэзии Хлебникова. — Сов. славяноведение, 1986, № 3, с. 63.
 15
15 [
Харджиев Н.И.] От редакции. — В кн.: Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940, с. 5–6. В конце октября 1991 г. Н.И. Харджиев охарактеризовал это «Завещание» так: „Спешно составленный Якобсоном (при небрежном участии автора) предварительный план издания — курьезен: в него попали даже те словотворческие эксперименты, опубликование которых вызвало резкий протест самого Хлебникова“ [из письма Н.И. Харджиева к М.И. Шапиру от 29.Х. 1991 (собрание М.И. Шапира); ср., впрочем:
Vroon R. Velimir Xlebnikov’s «Krysa»: A Commentary. — Stanford Slavic Studies, 1989, vol. 2, p. 1–200; см. также рецензию Ж.-К. Ланна на книгу Р. Вроона (Рус. мысль, 1990, 6 апр., № 3822, Лит. приложение, № 9, с. XII)].
 16
16 См.:
Маяковский В. В.В. Хлебников. — В кн.: Маяковский В. Поли. собр. соч., т. 12. М., 1959, с. 23;
Степанов Н. Творчество Велимира Хлебникова. — В кн.: Хлебников В. Собр. произв., т. 1. Л., [1928], с. 34–37.
 17
17 Ср.:
Оraiс D. Nadpripovijest. — In: Poimovnik ruske avangarde, sv. 2. Zagreb, 1984, s. 77–85;
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986, с. 174;
Башмакова Н. Слово и образ: О творческом мышлении В. Хлебникова: Дисс. на соискание учён. степ, д-ра философии. Helsinki, 1987, s. 44;
Вроон Р. Генезис замысла
сверхповести «Зангези»: (К вопросу об эволюции лирического “я” у Хлебникова). — В кн.: Вестник Общества Велимира Хлебникова, [сб.] 1. М., 1996, с. 140; и др.
 18
18 В 1950-е годы И.А. Ильин выдвинул теорию, согласно которой изучение неосуществленного и незавершенного (поп finite) призвано было стать одним из центральных направлений в истории искусства (см.:
Ильин И.А. История искусства и эстетика. М., 1983, с. 67–98; ср.:
Пирамишвили О. Проблемы “нон-финито” в искусстве. Тбилиси, 1982;
Григорьев В.П. Указ, соч., с. 193 и др.).
 19
19 См.:
Lönnqvist В. Xlebnikov and Carnival: An Analysis of the Poem Poet. Stockholm, 1979, p. 131–132;
Гарбуз А.В. Карнавальная природа поэмы Хлебникова и Кручёных «Игра в аду». — В кн.: Фольклор народов РСФСР: Песенные жанры, их межэтнич. отношения, фольклорно-лит. связи: Межвуз. науч. сб. Уфа, 1988, с. 131–140;
Ланцова С.А. Карнавальное начало в поэме В. Хлебникова «Шаман и Венера». — В кн.: Тезисы докладов III Хлебниковских чтений. Астрахань, 1989, с. 24–25.
 20
20 См.:
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 14.
 21
21 Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 223.
 22
22 С этой точки зрения понятен взгляд Винокура на Хлебникова как на поэта “неличного”, не создавшего своего лирического двойника [см.: Там же, с. 222; ср.:
Ларин Б.А. О лирике как разновидности художественной речи: (Семантич. этюды). — В кн.: Русская речь. Новая серия, [вып.] I. Л., 1927, с. 45;
Тынянов Ю. О Хлебникове. — В кн.: Хлебников В. Собр. произв., т. 1. Л., [1928], с. 29;
Weststeijn W.G. The Role of “I” in Chlebnikov’s Poetry: (On the Typology of the Lyrical Subject). — In: Velimir Chlebnikov (1885–1922): Myth and Reality. Amsterdam, 1986, p. 217–238; Idem. Лирический субъект в поэзии русского авангарда. — Russ. Lit., 1988, vol. XXIV, № II, p. 245–248;
Вроон Р. Указ, соч., с. 140 и далее;
Lanne J.-C. La représentation du “Je” dans l’oeuvre de Velimir Xlebnikov. — Rev. Étud. slav., 1998, t. LXX, fasc. 1, p. 151–162].
 23
23 Начала, 1921, № 1, с. 215.
 24
24 Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 225–226. Ср. в этой связи письмо Якобсона к А. Кручёных (февраль 1914): „А на человеческую точку наплевать“ (
Jakobson R. From Alyagrov’s Letters. — In: Russian Formalism: A Retrospective Glance: A Festschrift in Honor of V. Erlich. New Haven, 1985, p. 5).
 25 Винокур Г.О.
25 Винокур Г.О. О символизме и научной поэтике [1921]. — В кн.: Хрестоматия по теоретическому литературоведению, [вып.] I. Тарту, 1976, с. 199; ср. также рецензию на «Глоссалолию» (sic!), принадлежащую перу С.П. Боброва (Леф, 1923, № 2, 156–157).
 26
26 См.:
Винокур Г.О. О символизме и научной поэтике, с. 198.
 27
27 См.:
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1933, с. 47.
электронная версия указанной работы на ka2.ru
 28 Шпет Г.
28 Шпет Г. Эстетические фрагменты, [вып]. I. Пб., 1922, с. 44–45;
Винокур Г. Рец.: Шпет Г. Эстетические фрагменты, [вып]. I — III. Пб., 1922–1923. — В кн.: Чет и нечет: Альманах поэзии и критики. М., 1925, с. 45 (отсюда превращение художественного манифеста в произведение искусства:
Perloff M. The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rapture. Chicago; London, 1986, p. 81–115). Близкую мысль на десять лет раньше высказал В. Брюсов (см.:
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы. — Рус. мысль, 1913, Март, с. 132).
 29 Тынянов Ю.
29 Тынянов Ю. Промежуток [1924]. — В кн.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 551.
электронная версия указанной работы на ka2.ru 30 Тынянов Ю.
30 Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 28–29.
электронная версия указанной работы на ka2.ru 31
31 По свидетельству Харджиева, в праздновании 60-летия Хлебникова принимали также участие Н.Н. Асеев, Т.С. Гриц, А.Е. Кручёных, В.Б. Шкловский и сам Харджиев; присутствовали Д.В. Петровский и В.О. Перцов. На взгляд Харджиева, „выступление Винокура ‹...› было самым интересным“ (из письма Н.И. Харджиева к М.И. Шапиру от 17. VII 1991). 4.XII 1945 Винокур сообщал Б.В. Томашевскому, что „умилил своим словом (о Хлебникове. —
М.Ш.) Реформатского и Шкловского — последнее было для меня вдвое неожиданно“ [РГБ, ф. 645 (Б.В. Томашевский), оп. 35, ед. хр. 77, л. 12]. Автограф доклада см.: РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 111, л. 1–7.
 32
32 См.: Там же, л. 6, 7. Ср. об “эпосе”:
Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 24;
Степанов Н. Указ, соч., с. 44;
Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов [1930]. — В кн.: Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931, с. 8;
Дуганов Р.В. Проблема эпического в эстетике и поэтике Хлебникова. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 5, с. 426–439;
Он же. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990, с. 134–153; и др.; о “наволочке”:
Маяковский В. Указ, соч., с. 27.
 33
33 См.: РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 111, л. 8–8 об.
 34
34 Экземпляр из личного собрания Харджиева был им передан автору настоящего комментария летом 1992 г.
 35
35 См.:
Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка, с. 16 и далее.
 36
36 Например:
Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекая время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в качалке (
IV, 47).
 37
37 Книга и революция, 1922, № 9/10, с. 22; ср.:
Григорьев А.Л. Велимир Хлебников и Герберт Уэллс. — В кн.: XXII Герценовские чтения: Филол. науки: Программа и краткое содержание докл. Л., 1969, с. 193–195.
 38
38 Москва, 1922, № 6, с. 15.
 39
39 Рус. искусство, 1923, № 1, с. 81.
 40
40 Ср.:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983, с. 114;
электронная версия указанной работы на ka2.ruLanne J.-C. L’utopie futurienne chez Xlebnikov et Majakovskij. — Rev. Étud. slav., 1996, t. LXVIII, fasc. 2, p. 228–230.
 41 Якобсон Р.
41 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия: Набросок первый. Прага, 1921, с. 23.
электронная версия указанной работы на ka2.ru
 42 Бахтин М.
42 Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по ист. поэтике [1937–1938]. — В кн.: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 406.
 43 Винокур Г.
43 Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка, с. 18. Ср. взаимоисключающие утверждения: „Бунт формы против содержания — в этом смысл футуризма“ (
Спасский К. У Маяковского. — Новый мир, 1921, 27 окт., №227, с. 4); „Заумный язык не есть борьба формы со смыслом, а наоборот — борьба смысла с формой ‹...› бунт “содержания” против той материальной структуры, в которой оно роковым образом осуждено воплощаться“ (
Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка, с. 18).
 44
44 Там же, с. 18.
 45 Винокур Г.О.
45 Винокур Г.О. Филологические исследования ‹...›, с. 251.
 46
46 Там же, с. 252.
 47 Винокур Г.
47 Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка, с. 19.
 48
48 Cp.:
Шапир М.И. Metrum et rhythmus sub specie semioticae. — Даугава, 1990, № 10, с. 63–64.
 49
49 См.:
Гофман В. Язык литературы: Очерки и этюды. Л., 1936, с. 197.
электронная версия указанной работы на ka2.ru
 50 Маяковский В.
50 Маяковский В. Указ, соч., с. 24.
 51 Винокур Г.
51 Винокур Г. Маяковский ‹—› новатор языка, с. 17.
 52 Якобсон Р.
52 Якобсон Р. Новейшая русская поэзия..., с. 47 [ср.:
Шапир М.И. Об одном анаграмматическом стихотворении Хлебникова: К реконструкции “московского мифа”. — Рус. речь, 1992, № 6, с. 7–9;
Он же. О “звукосимволизме” у раннего Хлебникова: («Бобэоби пелись губы...»: фонич. структура). — In: Readings in Russian Modernism: To Honor V.F. Markov. Moscow, 1993, p. 299–307]. Рядом с этим местом на полях книги Якобсона Винокур сделал примечание: „‹...› если слово есть слово‹,›то предметной отнесенностью оно должно обладать“. Беспредметное “слово” — это „только к‹о›мпл‹е›кс звуков, въ томъ или иномъ отнош‹ении› напоминающiй слово“ [цит. по фотокопии оригинала (собрание М.И. Шапира); полностью маргиналии Винокура опубликованы в работе: «Поэзия не слово, а криптограмма»: Полемич. заметки Г.О. Винокура на полях кн. Р. О. Якобсона: Вступ. ст., публ. и примеч. М.И. Шапира. — В кн.: Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999, с. 144–160].
 53 Винокур Г.О.
53 Винокур Г.О. Филологические исследования..., с. 252.
 54 Тынянов Ю.
54 Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 25–26.
 55
55 Термин С.О. Карцевского (см.:
Karcevsky S. Système du verbe russe: Essai de linguistique synchronique. Prague, 1927, p. 31–34;
Karcevskij S. Du dualisme asymétrique de signe linguistique. — Travaux du Cercle Linguistique de Prague, [t.] 1: Mélanges linguistiques dédiés au I
er Congr. philol. slaves. Prague, 1929, p. 88–93).
 56 Винокур Г.О.
56 Винокур Г.О. Филологические исследования ‹...›, с. 252.
 57
57 См.:
Гофман В. Указ, соч., с. 233.
 58 Vossler К.
58 Vossler К. Über grammatische und psychologische Sprachformen [1919]. — In: Vossler K. Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie. München, 1923, S. 129.
 59 Винокур Г.О.
59 Винокур Г.О. Филологические исследования ‹...›, с. 253.
 60
60 Там же, с. 253.
 61
61 В набросках к докладу Винокур дает Хлебникову такую характеристику: „Поэзия ‹...› преодолевающая плоть и материю слова (совсем не-Фет)“ (РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 111, л. 8 об.).
 62 Винокур Г.О.
62 Винокур Г.О. Филологические исследования ‹...› с. 253.
 63
63 Печатается по тексту первой публикации (ссылку см. в примеч. 5) с сохранением орфографии и пунктуации источника. Явные опечатки устраняются.
 64
64 Отрывок из письма Вяч.И. Иванову (1912?) был впервые опубликован в сб. «Молоко кобылиц» (Херсон, 1914; V, 296; в цитатах из Хлебникова здесь и далее сохраняется написание Винокура). Ср. показания психиатра, который наблюдал Хлебникова: „От животных исходят, по его мнению, различные, воздействующие на него силы. Он полагал, что в разных местах и в разные периоды жизни он имел какое-то особое, духовное отношение к этим локальным флюидам и к соответствующим местным историческим деятелям. В Ленинграде, например, ему казалось, что “он прикован к Петру Великому и к Алексею Толстому”, в другом периоде жизни он чувствовал воздействие Локка и Ньютона. По его ощущению у него в такие периоды даже менялась его внешность. Он полагал, что прошёл “через ряд личностей” (
Анфимов В.Я. К вопросу о психопатологии творчества: В. Хлебников в 1919 г. — Тр. 3-й Краснодар, клинич. гор. б-цы, 1935, вып. I, с. 69).
электронная версия указанной работы на ka2.ru
 65
65 См. примеч. 22. В 1921 г. Ю.Н.Тынянов поставил вопрос о “лирическом герое” как особом типе поэтического “отражения” авторской личности: „Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться и приводят
к человеческому лицу за нею“ (
Тынянов Ю. Блок и Гейне. — В кн.: Об Александре Блоке: Сб. ст. Пг., 1921, с. 250). Статья Тынянова была сочувственно встречена Винокуром [см. его рецензию на сборник о Блоке: Новый путь, 1922, 25 янв., № 294, с. 4 (подпись Г.В.)]. С первых этапов своей работы над философской концепцией биографии (1924) Винокур не уставал разъяснять, что история литературного творчества дает материал для истории личной жизни, однако последняя, в свою очередь, не может служить источником для истории литературы (см.:
Винокур Г.О. Биография как научная проблема: (тез. докл.) [1924]. — В кн.: Хрестоматия по теоретическому литературоведению/Изд. подгот. И. Чернов. Тарту, 1976, с. 196; и др.). В суждении Винокура о Хлебникове как о поэте “неличном” можно также услышать отголосок идей Томашевского, проводившего деление на писателей с биографией и без (см.:
Томашевский Б. Литература и биография. — Книга и революция, 1923, №4, с. 6–9). Как писал Винокур, „проводимое Томашевским различение ‹...› может быть сведено к вопросу о реальном комментарии: в первом случае такие слова, как “я”, “ты”, “люблю” и пр. будут, очевидно, обладать таким реальным смыслом, которого мы не найдем в случае втором“ (РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 87, л. 11; из статьи «Биография как научная проблема», 1924).
 66
66 Ср.: „Великая неудача Хлебникова была новым словом поэзии“ (
Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 22). И Винокур, и Тынянов — каждый по-своему — откликнулись на некролог А.Г. Горнфельда, где Хлебников был назван „вечным неудачником“, „несуразные попытки которого обновить русский стих и русскую речь будут отмечены в той научной истории русской поэзии, которая сумеет быть не только историей плодоносных побед, но и историей плодотворных поражений“ (Лит. записки, 1922, №3, с. 13; подпись: Г-д).
 67
67 Под „словотворческими догадками“ Винокур имеет в виду, по-видимому, те случаи паронимических сближений, когда поэтическая этимология находит подтверждение в этимологии лингвистической. По поводу паронимов
мерзость — мерзнуть, стыд — стужа, искренний — искра, злой — зола и т.п. Винокур заметил: „Некоторые из таких сопоставлешй ‹...› оправдываются и с точки зрения филолога“ (Новый путь, 1921, 28 июля, №144, с. 4). М.К. Башкирцева — русская художница, знаменитая как автор «Дневника»; упоминается Хлебниковым в письме к М.В. Матюшину (1915), в брошюре «Время — мера мира» (1916) и в статье «Свояси» (1919). «Квази-математическими исчислениями о судьбах человечества» Винокур называет работу Хлебникова над
чистыми законами времени (Вопр. лит., 1985, № 10, с. 169), проявляющимися в циклической повторяемости событий; крайние хронологические точки его числовых изысканий — статья «Учитель и ученик» (1912), с одной стороны, и «Доски судьбы» (1922), с другой (см., например:
Степанов Н. В.В. Хлебников: Биограф, очерк. — В кн.: Хлебников В. Избранные стихотворения. М., 1936, с. 68–71;
Иванов В.В. Категория времени в искусстве и культуре XX века. — В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974, с. 45–49; Он же. Хлебников и наука. — В кн.: Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке, сб. 20. М., 1986, с. 384–413;
Stоbbе P. Utopisches Denken bei V. Chlebnikov. München, 1982;
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля..., с. 119–130;
Lanne J.-C. Velimir Khlebnikov: Poete futurien, t. 1. P., 1983, p. 39–50;
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников, с. 53–64; и др.). «Труба марсиан» (Харьков, 1916) — воззвание, составленное Хлебниковым от имени будетлян.
 68
68 Из стихотворения «Вы были строгой, вы были вдохновенной...» (Временник. М.; [Харьков], 1917); вошло в поэму «Война в мышеловке» (1919).
 69
69 «Правда вечная кумиров» — название стихотворных циклов В. Брюсова в сборниках «Stephanos» (1906) и «Все напевы» (1909; «Пути и перепутья», т. III). «Cor ardens» — поэтический двухтомник Вяч. Иванова (1911–1912).
 70
70 Неточная цитата из стихотворения «Бой в лубке» (Центрифуга 2. М., [1916]); вошло в поэму «Война в мышеловке». В настоящее время такой размер принято называть не дольником, а акцентным стихом — в данном случае, 4-ударным.
 71
71 На поэтическое родство Пушкина и Хлебникова — одновременно с Винокуром и вопреки ему — указывали О. Мандельштам и Тынянов; позднее об этом писали В.Ф. Марков и Н.Л. Степанов (см.:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля..., с. 159 примеч. 10). Теме “Хлебников и Пушкин” посвящены статьи Э.В. Слининой (Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та, 1970, т. 434, с. 111–124), Якобсона (Сравнительное изучение литератур: Сб. ст. к 80-летию акад. М.П. Алексеева. Л., 1976, с. 35–37), Д. Кшицовой (Zagadnienia rodzajów literackich, 1982, t. XXV, z. 1, s. 43–57), X. Барана (Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, 1992, p. 356–381) и главы из книг В.П. Григорьева (
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля..., с. 155–172; ср.: Он же. Хлебников и Пушкин. — В кн.: Пушкин и поэтический язык XX века: Сб. ст., посвящ. 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. М., 1999, с. 132–151) и Н. Башмаковой (
Башмакова Н. Указ, соч., с. 197–222): здесь рассматриваются упоминания Хлебниковым имени Пушкина и многочисленные реминисценции из пушкинских произведений. Показательно, что ещё в 1922 г. Винокур утверждал: Пушкин „может сейчас быть лишь
темой для поэтики, но не для поэзии“ (Новый путь, 1922, 1 янв., № 275, с. 4).
 72
72 Ср.: „Голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался: он уже ферментировал поэзию одних, он дал частные приемы другим. Ученики подготовили появление учителя“. „Предугадать размеры его ферментирующего влияния пока невозможно“ (
Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 20, 22). По-видимому, сходные соображения высказал Якобсон (его письмо Винокуру до нас не дошло). Отвечая ему, Винокур писал (18.VIII [1925]): „Что касается «Хлебникова», то и здесь ты не прав, хотя, м‹ожет› быть, я не очень ясно выразил свою мысль. Что Хлебн‹иков› оказал влияние на многих — я знаю ‹...› Я же утверждал (или хотел утверждать), что Хлебников не создал традиции в недрах футуризма, что он не есть глава “школы” — здесь предполагалось, след‹овательно›, что его влияние могло быть только отрицательным“ [цит. по фотокопии оригинала (собрание М.И. Шапира); неточную публикацию письма см.: Переписка Р.О. Якобсона и Г.О. Винокура, с. 92]. Через несколько лет противопоставить Хлебникова футуризму попытался Тынянов, выступление которого вызвало отпор со стороны редакции «Нового лефа» (см.:
Силлов В. Шапочный разбор лесов. — Новый леф, 1928, № 11, с. 37–44;
Шкловский В. Под знаком разделительным. — Там же, с. 44–46;
Тоддес Е.А. ,
Чудаков А.П. ,
Чудакова М.О. Комментарии. — В кн.: Тынянов Ю.Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977, с. 477–478 примеч. 61).
 73
73 «Оксана» ([М.], 1916) — сборник стихотворений Н. Асеева.
 74
74 Об оппозиции Хлебников / Маяковский и её месте в творчестве Винокура см.:
Шапир М.И. Комментарии. — В кн.: Винокур Г.О. Филологические исследования..., с. 265–266 и др.; см. также:
Stephan H. «Lef» and the Left Front of the Arts. München, 1981, S. 120–122;
Ивлев Д.Д. Путь к Пушкину...: (Из исканий сов. филол. науки 20-х годов). — В кн.: Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983, с. 123–124.
 75
75 «Пощечина общественному вкусу» — название двух футуристических изданий: альманаха (М., 1912) и листовки (М., 1913).
 76
76 В отличие от Хлебникова, Кручёных разрабатывал по преимуществу не семантический, а синтактический аспект
заумного языка: не случайно Тынянов, так много писавший о Хлебникове, ни разу не упоминает в своих работах имя Кручёных (
Никольская Т.Л. Взгляды Тынянова на практику поэтического эксперимента. — В кн.: Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986, с. 72). Ср. слова Б. Пастернака, обращенные к Кручёных: „Если положение о содержательности формы разгорячить до фанатического блеска, надо сказать, что ты содержательнее всех“ (
Кручёных А. Календарь. М., 1926, с. 4; ср.:
Nilsson N.Å. Krucenych’s Poem «Dyr bul Scyl». — Scando-Slavica, 1978, t. XXIV, p. 139–148;
Циглер Р. Дешифровка заумных текстов А. Кручёных. — В кн.: Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе XX века: Сб. науч. трудов, эссе и коммент. Грозный, 1991, с. 31–35;
Янечек Д. Стихотворный триптих А. Кручёных «Дыр бул щыл». — Там же, с. 35–43;
Janecek G. Zaum: The Transrational Poetry of Russian Formalism. San Diego, 1996, p. 49–96, 111–134 и др.).
 77 Смехачи
77 Смехачи — ключевое слово «Заклятия смехом» (1908–1909), ставшее, наряду с
бобэоби («Бобэоби пелись губы...», 1908–1909), метонимическим обозначением хлебниковского словотворчества. Под условным заглавием «Любхо» были опубликованы неологизмы Хлебникова, производные от корня
люб- (1907–1909?). Как уточнял Харджиев,
любхо — это „даже не условное заглавие“, а „отдельная запись на странице, заполненной другими неологизмами. Правильное чтение:
любно (ср. людно)“ (из письма к М.И. Шапиру от 27.VI.1991).
 78
78 Ср. примеч 15.
 79
79 Ср.: „Величайший наш современник — Хлебников — обладает безусловно разорванным сознанием“ [
Пунин Н. Разорванное сознание. 2: (для художников). — Искусство коммуны, 1919, 26 янв., № 8, с. 2].
 80
80 Стихотворение «Свобода приходит нагая...» (Временник II. М.; [Харьков], 1917); вошло в поэму «Война в мышеловке».
 81
81 «Творения. Т. I. 1906–1908» (М., 1914; издано Д.Д. Бурлюком в Херсоне) — первый (и единственный) том собрания сочинений, содержащий в основном ранние произведения Хлебникова.
 82
82 Из стихотворения «Иранская песня» (1921).
 83
83 Из поэмы «Сельская очарованность» (1913?).
 84
84 Из стихотворения «В лесу» (1914–1915?).
 85 Снезини
85 Снезини — коллективный персонаж (
хор) в пьесе Хлебникова; под таким названием в альманахе «Весеннее контрагентство муз» (М., 1915) был напечатан отрывок из драматической сказки «Снежимочка» (1908).
Времири — последнее слово рефрена (
Стая легких времирей) из стихотворения «Там, где жили свиристели...» (1908).
 86
86 Стихотворение «Панна пены, панна пены...» (Временник. М.; [Харьков], 1917); вошло в поэму «Война в мышеловке».
 87
87 «Есир» (1918–1919) был впервые опубликован в том же номере журнала «Русский современник», что и статья «Хлебников». Текст рассказа подготовил к печати Винокур.
 88
88 Ср.: „В прозе он (Хлебников. —
М. Ш.) дал образцы столь органически прекрасного русского синтаксиса, что только Пушкин в свое время и в своей обстановке давал иного типа, но по легкости напоминающий“ [
Бурлюк Д. От лаборатории к улице: (Эволюция футуризма). — Творчество, 1920, №2, с. 24; ср. также:
Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 26].
 89
89 Из стихотворения А. Пушкина «Калмычке» (1829).
 90
90 Печатается по черновому автографу (ссылку см. в примеч. 31) с сохранением орфографии и пунктуации источника.
 91
91 Произведения Хлебникова были напечатаны в обоих сборниках, а во втором из них впервые опубликовался сам Винокур.
 92 Ка
92 Ка — герой одноименной повести Хлебникова (1915), пронизанной образами и мотивами египетской мифологии и истории.
Леуна — полабское название Луны; упоминается в статьях «О расширении пределов русской словесности» и «Свояси». О египетской теме в творчестве Хлебникова см.:
Mirsky S. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. München, 1975, S. 26–31;
Иванов Вяч. Bс. Хлебников и наука, с. 430–432; об интересе поэта к языку и культуре полабских славян см.:
Он же. Славянская пора в поэтическом языке..., с. 66–67.
 93
93 В статье «Свояси» (1919) Хлебников писал, что хочет
найти единство вообще мировых языков и проложить
путь к мировому заумному языку (II, 9; ср. V, 216, 236, 273; см. также:
Гофман В. Указ, соч., с. 200–214;
Степанов Н. В.В. Хлебников..., с. 71–74; Mirsky S. Op. cit, S. 59–66;
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля..., с. 74–83; и др.). Идею единого (универсального) языка и единой (универсальной) грамматики Винокур критически рассмотрел ещё в 1927 г. Основной недостаток проектов такого рода учёный усматривал в том, что они „упускают из виду специфичность связи между языком как знаком некоторого содержания и самим этим содержанием“ (
Винокур Г.О. О возможности всеобщей грамматики. — Вопр. языкознания, 1988, № 4, с. 80). Определенные культурные смыслы требуют определенных языковых форм, и наоборот: „Нет, следовательно, единого языка и единой грамматики, пока не изобретена единая мировая культура“ (Там же, с. 84).
 94
94 Статья «О расширении пределов русской словесности» (
НП, 341–342); впервые была напечатана в газ. «Славянин» (1913, 21 марта, № 11).
 95
95 Об архаистичности хлебниковского языка писали И.А. Аксенов, Б.М. Эйхенбаум, Н.Л. Степанов, В.А. Гофман и др. В этом смысле можно понять и Тынянова, который сближал Хлебникова с Ломоносовым. Ср. замечание о том, что „у Хлебникова неологизмы выступают в обличии архаизмов“ (
Панов М.В. О членимости слов на морфемы. — В кн.: Памяти академика В.В. Виноградова: Сб. ст. М., 1971, с. 173).
 96
96 Неточная цитата из статьи «Наша основа» (май 1919; V, 236).
 97
97 В рукописи два последних абзаца составляют один.
 98
98 Ср.: „Разумеется, здесь нет и следа дешевого славянофильства с мокроступами“ (
Маяковский В. Указ, соч., с. 25; ср., однако:
Степанов Н. В.В. Хлебников..., с. 29–32).
 99
99 Из поэмы «Ладомир» (1920).
 100
100 Ср.: „Что непосредственное общение душ невозможно — это является, конечно, аксиомой для научной психологии“ (
Выготский Л.С. Мышление и речь: Психол. исслед. М.; Л., 1934, с. 11); „Без ‹...› временно-пространственного выражения невозможно даже самое абстрактное мышление“ (
Бахтин М. Формы времени и хронотопа..., с. 406). Эту точку зрения разделяли не все современники Винокура (см., например:
Флоренский П.А. Строение слова [1922]. — В кн.: Контекст — 1972: Лит.-теорет. исслед. М., 1973, с. 353).
 101
101 Из статьи «Наша основа» (V, 235).
 102
102 Винокур критикует пансемантизм Хлебникова с точки зрения произвольности (языкового) знака, само собой разумеющейся для лингвиста-соссюрианца, но внутренне противоестественной для поэта, воспитанного на заветах символизма (см.:
Barooshian V.D. Russian Cubo-Futurism 1910–1930: A Study in Avant-Gardism, 2nd ed. The Hague; Paris, 1976, p. 23–29;
Lanne J.-C. Velimir Khlebnikov, t. 1, p. 185–193;
Mandelker A. Velimir Chlebnikov and Theories of Phonetic Symbolism in Russian Modernist Poetics. — Die Welt der Slaven, 1986, Jg. XXXI, H. 1, S. 20–36).
 103
103 См.:
Тынянов Ю. О Хлебникове, с. 23, 25. О “примитивизме” Хлебникова в 1924 г. писал сам Винокур (Рус. современник, 1924, кн. 4, с. 225).
 104
104 Ср.: „Мне дорог пример из Хлебникова не как достижение, а как дорога“ (
Маяковский В. Война и язык [1914]. — В кн.: Маяковский В. Поли. собр. соч., т. 1. М., 1955, с. 328). Возможно, философско-теоретическим источником комментируемого тезиса послужила также гумбольдтианская антиномия εργον / ενεργεια, решаемая в пользу второго члена: одна из маргиналий Винокура говорит о хлебниковском „отнош‹ении› к слову не как к готовому, а как к творимому“ (РГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 111, л. 7).
 105
105 Неточная цитата из некролога о Хлебникове (см.:
Маяковский В. В.В. Хлебников, с. 28).
 106
106 Неточная цитата из биографического очерка Н.Л. Степанова «В.В. Хлебников» (с. 51), где эти слова поэта приводятся со ссылкой на воспоминания (устные?) Н.О. Коган. Запомнившийся ей хлебниковский образ, по всей видимости, был использован Маяковским:
Поэзия/ — вся! — /езда в незнаемое («Разговор с фининспектором о поэзии», 1926).
 107
107 Парадоксальным образом под хлебниковским “теоретизмом” Винокур подразумевает нераздельность его лингвистической теории и поэтической практики.
 108
108 Речь идёт о переводе с языка духовной культуры (языка искусства, поэтического языка, языка Хлебникова) на литературный язык (язык официального быта). Как писал М.А. Петровский, „интерпретация ‹...› есть всегда
перевод с одного языка на другой“ (Художественная форма. М., 1927, с. 121). Осуществить такой перевод тем более трудно, чем выше смысловая валентность языковой формы, — в случае с Хлебниковым она стремится к пределу. Это, впрочем, не отменяет самой задачи построения двуязычных словарей типа “язык литературы — литературный язык”. Первый опыт такой работы над языком Хлебникова был предложен в статье А.Г. Костецкого «Лингвистическая теория Хлебникова» (Структурная и математическая лингвистика, [вып.] 3. Киев, 1975, с. 34–39; ср. также:
Sо1ivetti С. Азбука ума Велимира Хлебникова. — Russ. Lit., 1988, vol. XXIII, № II, p. 169–184).
Воспроизведено по:
Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования 1911–998.
М.: Языки русской культуры. 2000. Стр. 195–210, 793–803
Изображение заимствовано:
Ryan Johnson (b. 1978 in Karachi, Pakistan).
Watchman. 2008.
Casting tape, glass, plywood, cement, plastic, cardboard, spray paint,
enamel paint, aluminium, keys, fabric, rubber.
213.4×91.4×55.9 cm.
www.saatchi-gallery.co.uk/artists/artpages/ryan_johnson_watchman.htm
Using fiction as a departure point into making, this series of Ryan Johnson’s work
revolves around the literary archetype of the Watchman:
the ever-lurking ghostly observer, lonesome figure of security and surveillance.
Occupying an uneasy space between dreamscape and the material world,
Johnson’s figure is a haunting effigy, a character reduced to the tools of his trade.
With cog-like guts formed from giant key rings and a distorted clock for a face,
he’s more machine than man, wearied from unwavering routine, anchored to his post in a bucket of cement.


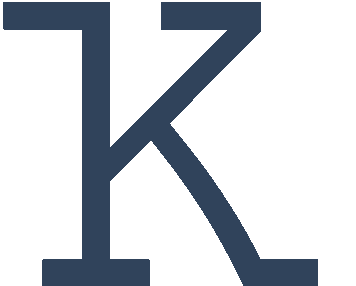 творчеству Хлебникова Г.О. Винокур обращался на протяжении всей своей авторской жизни: в рецензии на сборник «Лирень» (1921),1
творчеству Хлебникова Г.О. Винокур обращался на протяжении всей своей авторской жизни: в рецензии на сборник «Лирень» (1921),1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()