

Хлебников издан в пяти томах и с шестым дополнительным, но Хлебников ещё не прочитан. Он скончался в 1922 году, исполнился шестидесятый год его рождения, и он всё ещё новый и неизвестный поэт; он — богатство, которое ещё не израсходовано, из этого богатства появлялись кое-где в обороте рубли и полтинники, да и те на поверку оказывались фальшивыми. Пора узнать Хлебникова, отказаться от предрассудков против его поэзии и принять от неё всё живое, что есть в ней для нашего дня.
Поэзия Хлебникова сильна прежде всего своим содержанием, не речетворчеством и трудными опытами по части слова и стиха, а своим смыслом и объёмом этого смысла. Что в ней есть смысл, и весьма незаурядный, этого не хотели видеть, да и не умели, срок для смысла поэзии Хлебникова пришёл не сразу, и, быть может, поэзия Хлебникова так долго слыла непонятной не столько из-за трудностей словаря и синтаксиса, сколько из-за этой чуждости поэтических тем Хлебникова, его воззрений на мир, на жизнь, на историю и культуру. Хлебников впервые заявил о себе в литературной среде десятых годов. Это было время умирания буржуазной культуры в России, в Москве и в Петербурге, время упадочных литераторов, и это было худое время для того, чтобы Хлебников был услышан, понят и направлен по путям, свойственным ему. Среди подмазанных, разрисованных физиономий появился человек с лицом простым, ясным, появилось существо естественное и доверчивое, провинциал, волгарь, россиянин. Стремления и вкусы Хлебникова отличались величайшей натуральностью, он был заодно с нацией, с природой, с народным преданием; в кругу тогдашних литераторов и художников эти свойства и делали Хлебникова явлением странным и малопостижимым. Есть время и есть круг людей, для которых недоступно именно общедоступное и которым редчайшим отклонением кажется человеческая норма.
Так сложилось положение Хлебникова. На него указывали как на чудака, жителя кельи, тогда как он был человеком открытого поля и светлых горниц, философом и писателем от народа, посланцем от всех и каждого, никогда не забывавшим о пославших его. Простота, даже первозданность, наконец, национальный стиль по-своему были понятны литераторам десятых годов при условии, что всё это грим. Существовали и “адамиты”, прямо возводившие себя к библейскому первому человеку в том его периоде, пока он ещё не вкусил от добра и зла; существовали и националисты-византийцы, не трудившиеся отличать царство Комнинов и Палеологов от народной России. В романе одного западного модерниста нашего столетия говорится, что нет человека, который не имел бы позы, а вот если у такого-то поза отсутствует, то отсутствие позы и есть поза, которую этот человек выбрал для себя. В тогдашней литературе существовало множество направлений, не все торжествовали, но очень многие и разные пытали счастье на ярмарке искусств. Простота тоже пробовала чего-то добиться для себя, её тоже вырабатывали с надеждой на успех. Отличие и чуждость Хлебникова состояли в том, что он и на самом деле был прост, не притворялся земляком князя Святослава и героев «Слова о полку Игореве», поэтом с древней полевой свирелью, но и на самом деле был тот, за кого он себя выдавал. И эта подлинность создавала непонимание, искали маски и актёрства, не находили и удивлялись. О своём отщепенстве сам Хлебников сказал очень точно: Одинокий лицедей. Лицедеем он был по репутации, а одинок он был оттого, что нисколько не соответствовал ей, выступал без котурнов, без театрального костюма, одетый собственной кожей.
Один из первых истолкователей Хлебникова указывал на многообразие поэтических тем его — то каменный век, то князь Владимир, то русско-японская война, и отсюда делал вывод, что тема для Хлебникова глубоко безразлична, темы пестры, так как единство не в них, а в словесном приёме, — они лишь случайное приложение для него. На деле у Хлебникова есть единая тема, князь Владимир и русско-японская война для него значили очень много, единая же тема Хлебникова — Россия, какой она была, есть и будет; эта тема была его пафосом, управляла им едва ли не от первых написанных строк и до самого конца его писательской работы. Не Россия была для него поводом производить русские слова, а русские слова он рассматривал как средство на пользу огромной непознанной России. Труд Хлебникова над русским словом, разведки в глубь его, поиски скрытых смыслов и связей языка, стремление сохранить русское слово от порчи, борьба с теми, кто был небрежен к нему — всё это рвение настоящего “сына отечества”, желание в слове и через слово увидеть свою страну и свой народ в неизвестных и неясных ещё свойствах их, желание услышать неуслышанное. Для Хлебникова слово было откровением нации, он допытывался и как филолог, и как поэт, что содержит это откровение, в собственной своей работе стихотворца и поэта он хотел быть верным ему. Слова из общей книги Русь, — говорит Хлебников о том словаре, которым пользуется литература. Иначе: жизнь народная и народное слово для Хлебникова составляют одно, отражают друг друга. Весьма и весьма примечателен Хлебников в безукоризненной чистоте своего национального пафоса, а ведь рядом существовали национальные настроения более пристойные с виду и всё же до конца порочные. Но Хлебников оберёгся от них. Любить Россию не значило для него угнетать Россией. Национальное и всемирное были для него полны взаимностью друг к другу. Что такое интернационализм, Хлебников чувствовал, когда писал; ни он, ни другие литераторы ещё не знали этого слова.
Общим смыслом своей поэзии Хлебников восходит к классической русской литературе. Пора сосредоточиться на этой связи и на этом родстве Хлебникова, иначе он неясен. Ближайшие его современники и сподвижники, выпускавшие вместе с ним поэтические альманахи на цветных страницах с рассыпанными шрифтами, в сущности, совершенно незаконно завладели им. Они его отторгали от великого семейства старших русских поэтов, и его, художника, у которого в родной стране была глубокая традиция, кому издавна готовы были в ней и стол и дом, делали человеком случайным, без опоры в будущем и в прошлом, без очевидного призвания. Хлебников, несомненно, стоял на дороге, ведущей от Пушкина, и, как поэт национальный, он только через отклики свои Пушкину и может быть понят. На портрете, который рисовал Митурич, за Велимиром Хлебниковым видна легковейная тень Пушкина, и Хлебников имел право быть напутствованным этой тенью.
Россия как главный предмет поэзии, как её постоянный источник — это и есть первичное, пушкинское во всем, что создал Хлебников. Когда у молодого Пушкина однажды спросили, где его служба, он ответил: „Числюсь по России”. Хлебников тоже имел право на эти гордые слова. Он исходил и изъездил свою страну от моря до моря, от запада к востоку и от востока к западу, знал её леса и реки, знал её книги и песни, поэзию и науку, пришёл из провинции, учился в столице, был солдатом-пехотинцем первой мировой войны, знаком был с теплушкой, пробирался по шпалам, пил и ел из общего котла. Человек очень индивидуальный, всегда занятый своей мыслью, задумавшийся, он не отгородился от всех этих впечатлений большой массовой жизни, часто очень трудных и бедственных, они вошли в него, сделались своими. Он писал о войне, о голоде на Волге как человек, застигнутый событиями вместе со всеми, не отделяющий своей судьбы от общей. Хлебников почти не испытал того удобного быта, который вели его старшие сверстники, символисты и акмеисты. Иные из них умышленно искали бедствий и событий, выезжали на них, как на тигриную охоту, как в заповедник с зубрами. Хлебников в драмах из народной жизни участвовал взаправду и не сказал о них ни одного легкомысленного, принаряженного слова, его поэмы о войне и вокруг войны — это литература основательная и честная.
Один из значительных отзывов о Пушкине из среды современников принадлежит иностранцу Фарнгагену, которому с чужой стороны бросились в глаза национальные особенности и преимущества пушкинской поэзии. В 1839 году «Сын отечества» напечатал перевод статьи Фарнгагена, и вот одна из лучших тирад этой статьи:
Фарнгаген говорит о многонациональной России и о Пушкине как поэте её, о богатстве, которое предоставляет поэту многонациональная культура. Фарнгаген воспитывался в среде романтиков. Романтики европейские одним из величайших преимуществ культуры новых народов над античною считали многонациональное многообразие этой культуры: древний мир знал только две национально-однородные цивилизации — греческую и римскую, остальные народности были подавлены в глазах господствующих наций — это были рабы или варвары, тогда как новая Европа с самого начала была свободным поприщем больших и малых народов, каждый со своим лицом и со своим развитием, — Европа была живым многонациональным миром. Эта мысль о сожительстве национальных культур как о прекраснейшем и бесконечно производительном художественном явлении была столь обычной в романтической Европе, что многонациональность России сразу же отметил как особое благо иностранец, впервые познакомившийся и с Россией, и с Пушкиным. Пушкин сам с величайшей ясностью сознавал, что он поэт многонародного мира, — об этом прямо сказано в «Памятнике». Русские современники Пушкина тоже указывали, что русская поэзия и может, и должна обратиться к народам России, проникнуться их жизнью и сознанием. У нас чужие народы не были народами зарубежными, они принадлежали к тому же государству и к той же культуре, что и главенствующая нация, и делили с ней политическую судьбу, имели общего противника — царское правительство, добивались вольности наравне с нею. Для русского сознания народы России были живой силой, носителями человеческих прав, поэтому общение с ними питало нашу литературу и искусство наше. Перед историками литературы ещё стоит задача — показать, как русская литература, оставаясь русской, становилась также и всероссийской, органом великого собрания народов, населяющих нашу страну. В таком искусстве, как музыка, великая сила этого многонационального принципа очевидна — без него Глинка, Бородин, Балакирев, Римский-Корсаков, Мусоргский были бы не те. Что значила для русской музыки этническая география России, о какой этнической широте мечтали русские художники, можно судить хотя бы по этим отрывкам из писем Мусоргского: „На пароходе из Одессы записал от певуний греческую и еврейскую песни...”, „Затеяна сюита для оркестра с арфами и фортепиано на мотивы, собранные мною от разных добрых собранников мира сего: программа её от болгарских берегов через Чёрное море, Кавказ, Каспий, Ферган до Бирмы”.
Хлебников был тем художником, и русским, и всероссийским — многонациональным, какими были великие предшественники его в нашем искусстве XIX века. Единая и многообразная Россия — это основа его поэзии:
Вслед автору «Цыган», «Фонтана» и «Полтавы» Хлебников хотел вместить в свою поэзию весь русский этнический мир, с севера на юг и с запада к востоку, от ночного Невского до тех цветных пространств, где господствует труба Гуль-муллы.
Какой бы многонародной ёмкостью ни обладала русская поэзия, Хлебникову всё казалось мало, он требовал совершенно неуследимой программы расширения пределов русской словесности. Русская словесность, по напоминанию Хлебникова, ‹...› в пределах России забыла про государство на Волге — старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами, Биармское царство. Удельный строй, — кроме Новгорода, — Псков и казацкие государства остались в стороне от её русла. Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли ‹...› Из отдельных мест ею воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочены).
Хлебников создавал национальную эстетику без национализма, без какой-либо олонецкой или вятской ограниченности. Он умел быть поэтом национально-русским, без растворения в чужих стихиях, и в то же время он был знаток и ценитель всех национальных культур, исторически ужившихся одна с другой рядом. Равная восприимчивость художника сказывается у Хлебникова, кем бы и чем бы он ни был занят, будь то Украина, Кавказ или Средняя Азия. Кажется, он угадывал те богатства поэзии народов нашей страны, которые только сейчас стали в переложениях и переводах доступными для людей русского языка и культуры, — многое в поэмах Хлебникова как бы идёт навстречу эпическим памятникам Закавказья или Средней Азии, только теперь ставшими общеизвестными. И здесь опять-таки образец — это Пушкин, для которого ещё в поездке его в оренбургские степи была кратко записана на русском языке знаменитая народная поэма нашей Средней Азии, песня о Козы-Корпеш и Баян-Слу.
Хлебников умел соблюдать своё без всякого насилия в отношении чужого, и это чужое тоже всегда стояло у него на границе братского усвоения:
Русским может быть ислам — строка эта объясняет многие стилистические опыты Хлебникова, часто необычайные по своей смелости и новизне. Ревнитель русского слова, Хлебников без колебания вводил в русскую речь иноязычные фразы и речения, не боясь этой прививки, уверенный, что она нужна художнику и что она пойдет поэзии на пользу.
Чужое национальное слово обыкновенно входит в литературу на правах “местного колорита”: оно имеет значение цитаты, выделенного элемента, цитируются местные предметы и явления, местные люди, а заодно с ними и местные названия, местная речь. Это почти всегда мир не только чужой, но и несколько чуждый, внешний для нас. Поэтому и предоставляется ему слово на собственном его языке, предполагается, что на наш язык он непереводим сполна. Новшества Хлебникова сводились к тому, что он потревожил “местный колорит” в литературе, обычные его правила. У Хлебникова, если в стихи вступает украинская речь, это ещё не значит, что говорит украинец, у себя на Украине и об украинских своих делах. Для Хлебникова важны не те или иные национальные вещи или слова, а важен весь национальный язык в целом; если прозвучало только одно-единственное слово или полстроки из национального языка, то в стихах Хлебникова тем самым весь этот язык в целом своём составе, со всем, что он может напомнить нам, вызван к жизни. В русские стихи вводится голос иной нации, в стихи вводится внутренний её образ, каким он известен из её истории, вековой психологии и культуры. Хлебников эти фрагменты чужой национальной речи переносит в среду для неё малообычную, и тут, в новых для неё условиях, она должна заиграть своими наиболее общими качествами, освободиться от своих чересчур местных связей. Голос нации становится одним из голосов человечества, одной из душ его, и местная краска не лежит на слове так плотно и неподвижно, как это бывает у обычных мастеров местного колорита. Национальный голос, национальный тон становится одним из выражений человеческого сознания вообще, украинское становится чем-то более общим и широким, нежели только украинское.
Так, одно из свойств украинского языка для Хлебникова состоит в его обнажённом реализме, прямоте, способности откровенно называть вещи. И вот в русское стихотворение на тему о состоянии человечества в первую мировую войну внезапно вторгается украинское слово:
Хлебников обличает Европу — её цивилизацию, которою как бы правят учёные и где на самом деле готовятся убийства: правительства учёных ховают нож. Украинское ‘ховать’ взято как слово более обнажённое, чем русское ‘прятать’; ‘ховать’ — значит прятать так, что нам, кого вы хотите обмануть, видно: это ваше прятанье, ваш нож — шило в мешке.
Но украинская речь для Хлебникова и лирична, и нежна, в ней есть игривость и веселость, это голос жизни, голос девичьего юмора. В стихотворении «Осенняя» есть ещё остатки обыкновенного местного колорита: украинская тирада, которая врывается в него, очевидно, исходит от украинских девушек; но сила не в этой ограниченности колорита, а в общей тональности украинской речи, в том, как она укладывается в общей композиции стихотворения. Здесь говорится о прощании с летом, о наступающем осеннем умирании, о темноте смерти, и украинская строка: Три девушки пытали: / Чи парень я, чи нет? предшествует перелому в стихотворении — это самые быстрые по ритму, легкие и смешливые строки, в последний раз светлые, после чего тема смерти окончательно завладевает автором, идут строки развязки, замедленные, обрывочные, идёт краткий диалог со смертью и попытка отстранить ее: И всюду меркнет тень, / Ползет ко мне плетень. / Нет!
В стихотворении «“Верую” пели пушки и площади... », где описано грандиозными и напряженными образами городское восстание, вдруг появляется диалог с одной репликой по-украински и другой, ответной, — по-русски: — Мамо! / Чи это страшный суд? Мамо! / — Спи, деточка, спи! / Спи, деточка, спи! Это не диалог двух национальностей, это диалог двух возрастов. Ребенок говорит по-украински, мать отвечает, успокаивает по-русски. Здесь самым очевидным образом украинская речь взята не для местного колорита, а в одном из своих лирических качеств, как речь нежно-доверчивая, как музыкальный образ для детского страха, для детской исповеди; на трагически-мужественном фоне всего стихотворения нежность эта особенно выразительна.
“Украинизм” Хлебникова не цитата, а братание русской речи с украинской. У Хлебникова украинские слова вплетаются в русскую речь на правах внутренней родственности и неотъемлемости. Чужая национальная речь становится фактом русского языка именно потому, что она поднята до общечеловеческого значения, а здесь язык с языком сходятся. Хлебников постоянно помышлял о едином языке мира:
Те же опыты, что с украинским, Хлебников применял и к польскому языку — следуя примеру Пушкина, автора «Песен западных славян», Хлебников далеко заходил в область славянских культур и наречий. Когда у Хлебникова появляются полонизмы, то это опять-таки не цитата. Польский язык, а с ним и польская история, польский характер привлечены как один из “образов человечества”, и поэтому они существуют в стихах Хлебникова в самом общем и в самом свободном смысле.
В стихотворении, где тема — вызов господу богу, запрет, который хотел бы Хлебников наложить на движение земли, желание изменить это движение, поэт применяет параллельный образ. Шляхтич на польском сейме, пользующийся своим правом вето:
Польская тирада здесь — выражение стремительной человеческой дерзости. Вероятно, энергии ради, Хлебников в этом случае, как и в других своих полонизмах, не соблюдает польского ударения, завершает фразу ударным слогом и тем придает ей законченность и хлесткость.
Это обобщение национального колорита, применяемое Хлебниковым, вернее всего может найти для себя аналогию в языке музыки. Музыка умеет пользоваться местным материалом, возвышаясь над одной лишь местной характерностью, превращая местное в неосязаемо моральное. Когда Мусоргский вводил польскую танцевальную музыку в образ Марины или мотивы народных русских попевок в образ Самозванца, то Мусоргский, разумеется, шёл здесь гораздо дальше прямого смысла этого музыкального материала. Задача состояла не в том, чтобы через краковяк и мазурку лишний раз напомнить, что Марина — дочь польского воеводы и любительница балов, или через русский музыкальный фольклор подчеркнуть, что Отрепьев — малый из народа. В цель Мусоргского входило дать развитой внутренний образ героини и героя, воплотить блеск одной и дерзость и удачу другого. Моцартиана, которую Мусоргский готовил для сцен немецкой слободы в «Хованщине», отнюдь не означала, что жители немецкой слободы, пастор и его дочь, исполняют музыку Моцарта или знают её, это оказалось бы ненужным и вопиющим анахронизмом. Это была всего лишь общая музыкальная характеристика московских немцев — по Мусоргскому, Моцарт здесь был бы композитором чересчур красивым, мещанским.
История — один из важнейших источников поэзии Хлебникова. Его историческое сознание очень своеобразно, и здесь многое подсказано тем же русским опытом многонациональной культуры. Тот же Фарнгаген говорил о том, что для Пушкина этническое и бытовое разнообразие России было средством проникнуть в прошлое и обнять одним взглядом жизнь человечества на разных его исторических ступенях. Ведь Россия являла собой не только зрелище различных национальных культур, но также и культур, из которых каждая лежала в другой стадии общеисторического развития: „Европа и Азия, дикость и утонченность, древность и современность”. Для Хлебникова, постоянно перелистывавшего живую книгу народов России, чем-то наглядным был и глубокий исторический примитив, и патриархальность, и русское средневековье, и время царя Алексея. Он постоянно перебрасывался от крайней современности, с её могучей технической цивилизацией, к веку каменных баб, к древнему сознанию и к древним обычаям.
Многонациональная Россия была также многоукладной; русский поэт мог на территории своей родины ещё живыми застать очень древние формы общественной жизни и тут же рядом формы очень подвинутые исторически, полный и окончательный европеизм. Хлебников постоянно совершает в своей поэзии переходы от одного исторического уклада к другому, и это его путешествие сквозь историю имеет характер чрезвычайно непринужденный; часто для Хлебникова очутиться где-то на два-три столетия раньше современности — это почти как через улицу перейти и повернуть за угол. Прошлое у Хлебникова полно необыкновенной бытовой близости, той простоты и знакомости, которые свойственны историческим изображениям Вальтера Скотта, Пушкина или Льва Толстого. В то же время здесь есть налёт чудесности и тайны: углубиться в прошлое народа, страны, мира — это значит стать ближе к сущности вещей, выведать истины, прикрытые современным днём, недоступные современному обыденному глазу. В замечательной повести «Есир» особенно ощутимо это чисто хлебниковское соединение бытовой обыкновенности с мечтательностью, с “магией” романтической поэзии. Описан старинный русский город времён Разина, и здесь даны простые натуральные подробности, какие могли бы найтись в любом описании русского уезда или губернии из литературы XIX века. Но подробности эти тронуты глубоким лирическим значением, сквозь них проглядывает большой мир старинной России, с её заморскими связями, с её уклонами и к Западу, и к Востоку, с её знанием Индии — „далекой Индии чудес”.
Вот вступительное описание древнерусского жилища, печально-обыкновенного, почти как если бы это был провинциальный пейзаж Гоголя или Некрасова: Старик-помор встретил их на пороге своей землянки, обнесенной забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени («Есир»; 4, 89). А в землянке этой, в красном углу, усажен гость-индус, рассказывающий недавно привезенные новости из Индии своему русскому хозяину. Русская старина у Хлебникова — это обыденность Некрасова или Чехова, но это и ориентальная, фольклорная опера Римского-Корсакова, всё пронизывающая в конце концов.
Сам Хлебников указывал, что через творчество народов России делал он свои опыты проникнуть в художественное сознание древности, овладеть поэзией мифа. Влечение к мифу для Хлебникова очень существенно. О своей большой поэтической оратории «Дети Выдры» он пишет: Сказания орочей, древнего амурского племени, поразили меня, и я задумал построить общеазийское сознание в песнях (2, 7). Миф орочей об огненном состоянии Земли вошёл в драматическую тему Хлебникова одним из важнейших мотивов.
Русский опыт, этнический и исторический, опыт недавней России, где соседствовали друг с другом общественные уклады, хронологическое расстояние между которыми меряется столетиями, породил у Хлебникова инстинктивное восприятие истории как чего-то лежащего собственно не во времени, а в пространстве; переход от столетия к столетию для Хлебникова является собственно переходом от места к месту. Есть у Хлебникова несколько шуточных поэм, рассчитанных на анахронизм: персонажи из глубокой старины, одетые и убранные, как им свойственно, переезжают в Петербург двадцатого столетия и сразу же погружаются в злобу его дня. Сходно построены многие комические стихотворения Генриха Гейне и А.К. Толстого, имевшего перед собой пример Гейне. Но у Хлебникова задуманное как юмор как бы поневоле лишено юмора. История, расположенная в пространстве, для Хлебникова слишком естественный способ понимания и рассмотрения её, и у Хлебникова тут очень мало поводов для насмешки и сатиры. Анахронизм для Хлебникова — серьёзное явление, тогда как у других он описка, неграмотность, источник комизма. Действует здесь и другое свойство исторического понимания Хлебникова: Хлебников в истории особенно чувствителен к непрерывности её, к тому, что представлено и идёт в ней сплошь. В поэмах Хлебникова нет острой разницы между временем и временем, старина и новизна представлены наглядно и реально в равной степени; по содержанию своему старина и новизна продолжают друг друга, на глубине исторической жизни действуют сходные силы, и здесь, и там проявляются единые национальные смысл и характер. В поэме Хлебникова киевская княжна из века князя Владимира сразу попадает в Петербург, и здесь она окружена студентками высших женских курсов. И что же? Каких-либо слишком ярких размолвок между этой девушкой со старославянского Днепра и ученицами профессоров у Хлебникова не случилось. Эта девушка воли соблазнила затворниц петербургского учёного заведения, они палят пустые и схоластические учебники по одному только её слову.
И даже одним поэтическим словарем у Хлебникова охвачены древний Киев и современность; петербургские вещи и явления названы в его поэме тяжеловесными славянскими именами: дом женского всеучбища, и этот дом населяют училицы — те, кого там учат. Историческая жизнь в поэме Хлебникова слишком едина, чтобы кричащие краски анахронизмов в полную силу заиграли в ней; нет, анахронизмы у Хлебникова сглаживаются по ходу действия.
Эпический призвук имеет у Хлебникова и культ великих русских имен. Ни один поэт так часто и охотно не включал в стихотворную строку имена из политической истории, из истории науки, из истории литературы, как это делал Хлебников. Стихотворцы боялись, что эти имена принесут с собой напоминание об учебнике, газетной статье или популярной лекции, а у Хлебникова из его “звукоряда” не выпадают все эти столь частые здесь имена Гаршина, Лермонтова, Тютчева, Пушкина, Лобачевского, Ломоносова. Эти люди восприняты у Хлебникова как герои и гении нации, носители разума её, и поэтому какой бы то ни было налёт специального, кафедрального, школьного снят с этих имен.
Крупнее всего эпос Хлебникова проявляет себя в тех своих эпизодах, где затронуты вещи материального быта, где в кругозор эпоса попадают предметы, слывущие низменными, и где, в условиях эпоса, эти вещи необыкновенно обновляются и облагораживаются. Эпос Хлебникова наделен классическим свойством своих образцов: улучшать природу любой вещи, хотя бы вещи из лабаза, раз она побывала в его среде.
Торговля, вобла, лещ, груз воблы и леща в поэме Хлебникова воспринимаются в неожиданно величавом облике, они отрешены от частного быта, от лавки и прилавков, от мелких продавцов и от мелких и случайных едоков, это серьёзные силы национальной экономики, корм страны, нации, условие труда, жизненной силы, связь рек и морей, областей, хозяйств, народностей. Эпос изображает оборот народной жизни в его целом, а в этом обороте только самодовлеющая деталь, выпавшая из него, может стать низменной и прозаичной, и она снова оживает, когда опять увлечена целым и восполняется им. Строго говоря, эпос почти не знает явлений прозы — проза возникает лишь после распада эпоса.
В этой поэзии, посвященной темам национальной экономики, практике торговли и производительного труда, Хлебников имеет предшественников в старых русских поэтах XVIII столетия, в гражданском романтизме декабристов. Приведу стихи Ломоносова к „возлюбленной тишине”, хранительнице мирного труда, из оды 1747 года:
И ещё Ломоносов — «Письмо о пользе стекла». Державин вводит в великолепный пейзаж своего «Водопада», в пейзаж с алмазами, жемчугом, серебром и синими брызгами такие строки:
Здесь разумеется Кончезерский чугуноплавильный завод в пятнадцати верстах от Кивача. По разъяснению Державина: „‹...› в сильную непогоду по ветру слышно иногда бывает действие заводских машин, которые, смешавшись с шумом вод, дикую некую составляли гармонию”. Характерный образ из поэмы «Карелия» декабриста Ф. Глинки:
XVIII век и декабристы создавали поэзию пользы. Напрасно XVIII век обвиняют в утилитаризме, в прозаическом духе. Он имел другие понятия о том, что прозаично и что прекрасно. Русский XVIII век пытался подняться над частной точкой зрения. Дело не в пользе, взятой безотносительно. Дело в том, какая это польза и чья польза. Если это не польза частных лиц, не польза частного обогащения, то она может быть и высокой, и прекрасной. Торговые корабли, стекло, хлебные поля, готовые к уборке, Кончезерский завод, когда они представлены как явления жизни нации и государства, меняют своё значение, они уже нечто большее, нежели прибыль или обещание прибыли, мёртвая техника, торговый предмет, они — борьба человека с природой, они добыча этой борьбы, всеобщие средства жизни и культуры, национальная будущность. Фёдор Глинка, когда вводил в свой пейзаж полезное, когда он любовался на рудные богатства карельских озёр, тоже чувствовал и мыслил как декабрист, энтузиаст общественного интереса.
Позднее эта поэзия пользы утратила свою державинскую твёрдость и наивность. Она была и осталась утопией и абстракцией в эпоху частного владения; с полной силой тут сказался разлад между поэтическим замыслом и действительными социальными вещами. Гоголь, мучаясь и борясь с невольной ложью, строил во второй части «Мёртвых душ» утопию поэзии хозяйства, приуроченную к поместной России. Однако же в прозе и стихах вырабатывались, вместо прежних отвлечённо-государственных, новые нормы для этой эстетики простоты и пользы. Пушкин, Тургенев, Некрасов, Л. Толстой стояли здесь на точке зрения народного целого и выводили следствия, им исторически доступные.
Хлебников возвращается к поэзии пользы с более глубокой основы и с более глубокими оправданиями, нежели старинные его предшественники. После иных мнимых и тщедушных красот современных ему поэтов Хлебников создаёт серьёзную и весомую красоту предметов насущных и общенародных. Поэзия Хлебникова свидетельствует об огромном изменении поэтических вкусов. Но вкусы изменились, так как изменились самые вещи, вступили в новые отношения к человеку, преобразились законы обладания вещами. Хлебников ещё до семнадцатого года предчувствовал народное государство, а последние пять лет своей жизни он был уже и гражданином и поэтом этого государства, явно и зримо воплотившегося. О том, что мир стал иным и что смысл и ценность вещей подверглись полному перевороту, об этом свидетельствует новая эстетика Хлебникова. Друг Хлебникова Владимир Маяковский пишет «Мистерию-буфф», и здесь всему миру объявлено о новой красоте — красоте народной пользы, красоте “ржаного хлеба” и “живой жены”. Что у старых поэтов государства и гражданственности едва выходило за пределы поэтического умозрения, то у Хлебникова приобрело чувственную жизнь и размах эпоса.
В своей поэме Хлебников строит колоссальные гиперболы народного потребления и народного пира:
Озёрные щи — одна из утопий Хлебникова. Не можем думать, чтобы её одобрили работники народного питания, но она любопытна как факт его эпической фантазии. Озёрные щи — это озеро, которое вскипятили, как котелок с водой, озеро, в котором сварилось все, что может из рыбных и растительных богатств его пойти на потребу человека. Здесь предполагается народный стол в масштабах эпоса, и характерным для Хлебникова способом создаётся образ, в котором сразу соединены несколько значений: это и природа, и даже пейзаж, это и кухня с её искусством, это и насущная потребность человека, слившиеся в одно.
Поэзия хозяйства возникает в эпосе, потому что в эпическом мире хозяйство стоит на видимом переходе из одной области жизни в другую, наполняется каждой из них и так становится явлением, в котором есть живая душа. В эпосе хозяйство видимым образом соединяет природу с человеком и человека с природой. В самом человеческом мире оно тоже не разорванное, частичное и художественно-мёртвое явление. В пирах, описанных в «Калевале», гости — они же хозяева, они же и работники, они сами трудились и отдых свой они заслужили. Они сами собрали этот пир, они же и пируют. Работа даёт душу празднику, и праздник даёт душу работе; производство и потребление, когда они не разорваны и имеют общий человеческий центр, взаимно оживляют друг друга и с обеих сторон исчезает проза. Пир производителей — явление поэтическое, но не “пир Тримальхиона”, устроенный тунеядцами Парижа, описанный Бальзаком в «Шагреневой коже», явление грубо-отвратительное. Ещё хуже того пир Тримальхиона в своём прообразе, известном по Петронию. Хлебников в своих поэмах предугадывает мир нового эпоса, мир власти труда, и по следам старых народных поэтов пытается положить первые камни эпического здания в новом духе.
Столь обычный в эпической поэзии звериный мир описан Хлебниковым многократно и всегда с вниманием и любовью. Хлебниковский зверь не тот мрачный зверь западных модернистов, “чёрная пантера”, которая скачет и разрушает. У модернистов зверь всегда приходит “из бездны”, он означает изнанку цивилизации, он объявляет варварство. Зверь Хлебникова — простой и красивый зверь, часто мирный и покладистый, способный ужиться с человеком: лось, олень, медведь, конь, корова. Это зверь Крылова, Л. Толстого, серовских рисунков. Весь его смысл в том, что он из природы зашёл в царство человека, что он соединяет обе области то с равновесием мудрым и наивным, то подаваясь назад в природу, со всем комизмом откровенности. В русской литературе зверь то праведник — у Толстого, в фольклорных эпизодах у Горького, то грубоватый домашний комик — крыловские басни.
Вот пример “животного эпоса” у Хлебникова:
Животный мир вторгается в древнерусский город, и не как сила чуждая и инородная. Эти рыбы ловцов, эти коровы, пригнанные пастухами, — это столько же независимая природа, сколько и человеческое хозяйство.
Животный мир у Хлебникова — это серединная стихия: образ города расширен, сделан более богатым, полным, потому что в него введена эта стихия, принадлежащая ему и миру, который больше и просторнее его, миру природы. Осетры и коровы имеют двоякую принадлежность: они вступают в город и, подчиняясь ему, в человеческий обиход; и они оживляют город, они приносят с собой идею рек, трав, лугов. Человеческий мир, вбирая эту стихию — и свою, и не свою, — становится более универсальным и свободным.
То же самое в стихах Хлебникова о городе:
Коровьи ноги, отсвечивающие в водах, — это для Хлебникова поэтическое соединение города и большой вселенной; и этот образ здесь появляется в мечтательных, замедленных, элегических строках: город из железа, город — голое человеческое искусство, не видавший мирного зверя на своих улицах, — для Хлебникова мёртв и тесен.
В поэзии Хлебникова немалое значение имеют полемика и сатира. Здесь эпическое сознание из положительной силы превращается в могучее орудие критики, суда и оценки. Вещи современности, забывшей о человеке, вещи, которыми управляет буржуа-хозяин, мир наживы, насилия, отторгнутых от человека человеческих прав, вызывает у Хлебникова даже не протест, а ярость. Напомним полемические эпизоды из его поэм, посвященных революции, эпизоды, где затронуто прошлое, где изображаются те, против кого поднято народное восстание. Или же страшную и бесконечно глумливую поэму Хлебникова «Три обеда», написанную против сытых. Хлебниковым тут владеет натурализм гнева, таких стихийных сатир уже давно не знает новая литература. Можно было бы сказать, что обличительные строки Хлебникова написаны оскорбленным Гомером. Нужно было очень прочно врасти в почву эпоса, чтобы с такой убежденной и наивной страстью отвергать безобразие и низость эксплуататорского мира.
Хлебников, воспевший коровьи ноги и коровий брод, нисколько не примитивен и не поэт сельщины. Эпос не есть примитив, эпос знает и высоко чтит культуру — народную культуру. Особой поэзией культуры полны сочинения Хлебникова, и это поэзия тоже восходящая к классической русской традиции. Русские художники не признавали культуры прозаичной, школярской, книжной; культура, которую ценили они, была не школьным пособием жизни, а завоеванием, из жизни взятым и на жизнь обращенным, — такой только может быть культура в её народном и поэтическом смысле. Через поэзию Хлебникова проходит образ “живой книги”, книги, которая не легла по ту сторону жизни и природы, а осталась в их среде, не выделившись. Идея культуры как поэтического дела, слова как голоса живущего человека, книжной страницы как бессмертной плоти управляет многими словесными образами у Хлебникова, а иногда лежит в основе целого стихотворения.
Для Хлебникова, у которого книга может быть “живой”, естествен и обратный ход сравнения — самого бытийственного бытия, земной горячей жизни во всем её огромном движении с книгою библиотек:
Весенний пейзаж Хлебникова построен на параллели с библиотечными, культурными представлениями: сползающий снег открывает чёрную землю — чёрные буквы и чёрные строки проступают сквозь снег, тайна стыдливой (стыдесной) земли, тайна её книг, её записок:
Так как, по Хлебникову, книга не исключена из космоса, то через книгу космос может получить свой поэтический образ. Или же такие вещи, как письменный стол, чернильница, писательское дело, творимое за этим столом, пересекаются у Хлебникова образами, взятыми из всемирного ландшафта — “от Волги до Ганга”, как написано в стихотворении «Испаганский верблюд». Тем самым писательство, его обыденные орудия подняты до значения стихийного жизненного акта, силы, прямо и непосредственно участвующей во всемирной жизни.
Литература в сознании Хлебникова освобождена от всего технического, профессионального, от буквы, от чёрного набора, она извлечена из книжных переплетов. Нет полного собрания сочинений, а есть автор, живое лицо, выразившее себя в стольких-то и стольких-то томах, и даже нет автора, а есть в его лице одна из общих сил нации и человечества, один из великих стилей, через которые проходит вселенная, одно из состояний ее:
Из трех имен: Достоевский, Пушкин, Тютчев — создаёт Хлебников поэму в четыре стиха, космический пейзаж “времён дня”. Каждое имя для Хлебникова — стихия, неотделимая от реальных стихий самой природы. Отыменные существительные Достоевский-мо, Пушкиноты, рифмовое сближение “Тютчев... тучи” выражают каждое в одном речевом акте слитность имени художника со стихией жизни и природы, состоящей под особой опекой то одного, то другого, то третьего: Достоевский — божество грозы и катастрофы, Пушкин — полдня и наслаждений, Тютчев — ночи и загадки. Писатели у Хлебникова — миры и состояния миров, и поэтому из трех имен и слагается ландшафт вселенной. Все, что есть прозаичного, условного в литературе и литераторстве погашается, когда они входят в этот ландшафт, остается только поэтическая суть. Без патетичности Хлебникова, в более обыденной форме, нечто родственное тому пейзажу имен слышно в реплике Маяковского о петербургском бледном рассвете: „Смотри, небо совсем Жуковский!”
У Хлебникова есть ещё и другие опыты, где тоже через поэтическое слово возвращаются друг к другу и срастаются в одно образы культуры, истории и явления непосредственной жизни:
Слово в поэзии Хлебникова — эпическое слово, в нём есть широта, необозримость эпоса. Хлебников расторгает узкий круг словесных значений, создаёт в слове перспективу, старается поднять небо над ним. Для эпического впечатления Хлебникову не всегда нужна поэма, иной раз достаточно несколько строчек, освещенных большими ясными словами, сквозь которые видна громада мира, за которыми лежит бездна пространства, в пушкинской поэзии найденная когда-то Гоголем.
Преобразование слов почти всегда совершается у Хлебникова в сторону расширения смысла, очищения их от всего, что пристало к ним от прозаического быта. Так, в стихотворении «Мои походы» в контексте большой исторической картины, в эпизоде столкновения людей с космосом, в стихах, где изображается паническое отступление конницы, дошедшей до моря и убоявшейся его, введено слово ‘смета’ в новом, неузнаваемом смысле его: И моря страх, ему нет сметы ‹...› Слово необычайно возвысилось, оно освобождено от своей связи с денежными суммами, от бухгалтерского и конторского приурочения и значит то, что оно может значить: всякий подсчет, всякое соображение, всякий охват умом даже вещей, не имеющих цифрового измерения, таких вещей, как моря страх — страх перед морем огромного множества людей, конных и оружных. В обычном применении слово ‘смета’ кажется канцелярской латынью или эсперанто, оно почти забыто как русское слово. Знаменательно, что, преобразованное Хлебниковым, оно снова становится словом национальным и народным.
У Хлебникова даже в случайных двустрочиях есть нескончаемая пространственность, слова следуют за словами, не ограничивая друг друга, не усекая смысловой объём соседнего, но расширяя его, — слово отворяется, как окно, становится сквозным, прозрачным, в него врывается белый свет, “всенародность”, “всемирность”.
Хлебников-стилист постоянно экспериментировал над собственными именами. Можно утверждать, что Хлебников был по-особому нетерпим к собственным именам как таковым, он стремился обобщить их, сделать их нарицательными. Он хотел отнять у них привилегию ничего не означать против самих себя, относиться к одному единственному предмету. Собственное имя — слово слишком тесное, предмет без кругозора, слово — вещь, и поэтому Хлебникова, который требовал для слова пространства и воздуха, собственные имена беспокоили. Он ставил их в рифму для того, чтобы рифмующееся с ними слово взорвало их, расцепило частный смысл и плотно вошедший в него общий смысл; он создавал из собственных имен поэтические мифы, где уничтожалась односторонняя материальность имени, эта его связь с одним-единственным предметом. Рифмы и созвучия у Хлебникова, затрагивающие собственные имена, достаточно часты:
Встречаются такие сочетания-рифмы, как ‹...› в Киеве ‹...› какие вы ‹...›, как ‹...› круг лиц ‹...› Углич ‹...›. Всюду попытки если не разложить имя на смысловые величины, то всё же вызвать в нём тень более свободного общего значения. О глазах девушки у Хлебникова сказано: ‹...› они голубой Тихославль, и о городе из облаков на вечернем небе: ‹...› синий Темнигов ‹...›. Чернигов потерял своё прикрепление к географической карте, он стал городом небесной черноты, свободно-лирическим понятием, тоже и Тихославль, но в обоих этих хлебниковских образах сохранилась легкая национальная колоритность, материя места и времени не до конца улетучилась в них. Обобщенная материальность, окруженность слова пространством, дальний вид, который открывается из слова, — таков стиль Хлебникова, эпического художника, воспитанного масштабами страны, составляющей одну шестую часть света. Если же чем и дорого ему собственное имя, то своим сопротивлением, теми усилиями, которые требуются, чтобы прорубить сквозь него окно, открывающее простор перед нами.
Есть ещё одна область, где сказывается Хлебников с его эпическим “я”, с тем его мерилом эпоса, которое он вольно и невольно применяет везде и повсюду, — юмор. Хлебников — автор многочисленных летучих вещиц, “опытов изящного”, стихов почти альбомного характера, почти мадригалов, есть у него даже опыты в антологическом роде. Здесь Хлебников по характеру своей поэзии гораздо ближе к старой плеяде русских поэтов между Державиным и Пушкиным, чем к таким поэтам легких пьес, как современники его Кузмин и Северянин. Уже на примере Державина мы видим, какими особенными путями вырабатывалась в России эта малая поэзия, изящная и нежная, поэзия светлой минуты, летучего слова, обращенного к женщине, доброжелательных преувеличений, заведомо дружеских похвал. Державину эта поэзия не слишком давалась: чересчур очевидно её происхождение, видна могучая рука поэта, не привыкшая к предметам хрупким. Пушкинская плеяда вполне овладела этой областью, но у русских поэтов и в изящном жанре не наблюдается излишней изнеженности, изящное у них — одно из проявлений силы. У Державина сила односторонняя; у Пушкина, у Баратынского сила знает себя и соразмеряет себя с поставленной перед нею целью. Именно в этих добровольных соразмерности и сдержанности заключается изящество.
Хлебников тоже поэт руки сильной и умелой, и когда он занят работой мелкой и тонкой, то видно, что его полное призвание отнюдь не исчерпывается ею. К такой работе у Хлебникова почти всегда примешивается авторский юмор. Юмор Хлебникова — явление столь же единственное и своеобразное, как юмор Маяковского. Это юмор Гулливера из книги, где рассказано о путешествии Гулливера в Лилипутию. Как дамы Лилипутии разъезжали в игрушечных каретах по обеденному столу Гулливера, так перед громоздким эпическим поэтом Хлебниковым персонажи менее чем карманного формата из шуточных его поэм и стихотворений щебечут и носятся, выговаривая строчки, в которых подчас можно узнать даже Кузмина или Северянина, галантных лириков того десятилетия, — это, например, интонация богини любви в шуточной поэме Хлебникова «Венера и шаман». В «Снежимочке», рождественской сказке, Хлебников тоже верен обычным масштабам своего юмора. «Снежимочка» — вариант «Снегурочки» Островского и Римского-Корсакова. Но у тех Снегурочка погибла от ярого солнца, от весеннего бога Ярилы. У Хлебникова же пришёл городовой, увидел неприличие, Снежимочку, окруженную толпой народа, засвистел в свисток и увел Снежимочку в участок. Городовой, таким образом, у Хлебникова пародия на стихи замерные и безмерные, прямой наместник солнца и солнечных божеств; сатира и космос по-своему скрещиваются. Кстати об имени Снежимочка. Хлебников искал имени более нежного, чем Снегурочка, и нашёл. Снежимочка — снежинка, снежиночка, подстановкой одного звука превращенная в имя собственное.
У Хлебникова была склонность к массивному художественному образу, к тяжёлому изобразительному материалу, к памятности изображения. Хлебников избегал слишком мелкого и тёплого письма, интимности, в которую впадают художники, с чересчур коротких расстояний воспринимающие действительность. Материальный стиль, но крупный, без излишних подробностей, обще, но сильно и осязаемо — свойства эти сочетаются обыкновенно в скульптуре. У Хлебникова заметно несомненное тяготение к пластическим искусствам, к камню, к дереву, к ваянию, к пластическим группам, для него сама действительность говорит языком скульптуры, и в силу этого он совпадает с новейшей живописью, с Сезанном и его школой, которые видят мир, как пластики, а пишут его маслом. Хлебников, словесный мастер, видит мир как мизансцену из камня, гипса, дерева и через слово старается передать этот мир весомо и резко представленных тел и предметов. «Увидел я камень, камню подобный... » — там, где камень передан камнем же, там поэзия Хлебникова может действовать непосредственно, и там создаются такие поэмы, как «Памятник», посвященная монументу, воздвигнутому Паоло Трубецким, или же пишутся такие строки о безымянной статуе:
В остальном Хлебников переводит на язык пластических представлений — на камень и на глину — язык действительности. В послании Кузмину Хлебников пишет: «Подвиги Александра» ваяете чудесными руками ‹...› — знаменательный у Хлебникова образ для писательства. Тело человеческое в поэме Хлебникова представлено как глина, тело без души:
В самом размещении предметов и фигур в описаниях Хлебникова заметно, что видит он их как скульптор, ваятель, что это свободная группа, без той слитности участников, которую допускают другие искусства:
Сплошные именительные падежи, устранены косвенные отношения, каждая вещь вставлена в группу отдельно, лицом прямо к зрителю; все изваяны и эти двое, и скамейка, и лейка, и тополь.
Лицо человеческое Хлебников склонен изображать по-скульптурному отяжеленным, каменно-огрубелым: Но взор скрывай под тяги век ‹...›, Веко к глазу прилепленно приставив ‹...› Многие художники, особенно современники Хлебникова с Запада, выбирали язык пластики как язык неживого, застывшего. Для Хлебникова важны иные свойства этого языка: он чрезвычайно дорожил впечатлением жизни и драматизма жизни, оно у него всегда сохранялось, но он хотел через эту скульптурность и каменность передать силу и калибр вещам, изнутри им присущие. Коростель, эта звонкая утварь всех южных ночей, сидел и кричал в лугу. Волы лежали в степи подобно громадным могильным камням, темнея концом рог («Дети Выдры»; 2, 153) В таком каменном пейзаже — сдержанная, могучая и простая жизнь. Хлебников применяет слово ‘утварь’ так, что подразумевается также и ‘тварь’ — несотворенное руками, живое; и тут же ‘тварь’ в смысле ‘утварь’ взята в её собственном смысле, утвари как таковой, вводится домашне-хозяйственный образ, по-человечьи опрощающий пейзаж. Камень хлебниковских волов — камень с человеческих могил. Хлебников из камня этого извлек только одно — образ живого веса.
Не случайно напрашивается сравнение Хлебникова не с самой скульптурой, а с живописью, которая ориентирует себя на скульптуру. Когда скульптор создаёт вещи скульптурно, в этом нет никакой проблемы: скульптор действует, как велит ему профессия, и всё тут. Иное дело живописец сезанновского толка, иное дело каменные игральные карты, которыми играют игроки на картине самого Сезанна. Мы имеем тут дело не с профессией, но с тенденцией. В пластичности, изваянности на картинах Сезанна мы имеем дело не с профессиональной принадлежностью мастера, а с его пристрастиями и страстями, с повышенной оценкой им пластического в природе самого изображаемого предмета, с философской реакцией на его кубичность и материальность. Так бывает всегда, когда одно искусство заимствует методы и принципы другого. В заимствованном виде они сугубо выразительны, очень много говорят о внутренних свойствах самих вещей и о воззрении на них самого художника. В музыке музыкальна сама музыка, в музыкальной живописи музыкальны мир и понимание мира, через музыку тут создаётся особая внутренняя форма.
Пластика у Хлебникова имеет глубокую основу в эпичности его стиля. Пластический стиль многих современников Хлебникова был явлением формальным, без достаточного оправдания изнутри, тогда как у Хлебникова пластика состоит почти в таком же родстве с эпосом, как это было у древних, у которых Гомер и изваянные тела богов и героев дополняли друг друга. Пластический стиль подсказан Хлебникову его поэтической темой — России, родной страны. Он служил тому, чтобы передать крупный характер русской жизни, мощь её внутреннего движения, калибр русских исторических событий и русских исторических фигур, реалистический склад народной психологии — земной, “глиняной”, “каменной”, силу народных мышц и победоносность народных усилий. Эпическое начало выражает у Хлебникова экстенсивность национальной жизни, её необозримую широту. Пластика выражает элемент интенсивный, как бы внутреннюю уплотненность этой жизни, сгущенность её энергии и обреченность всего, что сопротивляется напору ее. В то же время пластика обобщает, она не допускает выпадающих подробностей, даже случайный образ проникается общим выражением: русский быт в изображении Хлебникова, каким бы бедным и заурядным он ни казался по виду своему, всегда является в своей глубине носителем народно-исторической энергии, принадлежит к целому народной жизни, что и возвышает его значительность. Поэма о Разине — одна из самых темпераментных поэм Хлебникова, и вся она проведена как некий театр, состоящий из пластических сцен и положений, театр могучих, напряженных тел, поз и жестов. Даже на речь героев ложится этот стиль телесной грозной силы:
В поэме «Ладомир» находим разгадку хлебниковскому образу Разина на уструге: Лоб Разина резьбы Конёнкова ‹...› Брёвна ног Разина, бросающего в Волгу персидскую княжну — это дерево работы Конёнкова, его народно-великорусской скульптуры. И дерево, и мрамор Конёнкова, его богатыри, его Великосил, его Самсон в родстве с Хлебниковым, он в словесном образе желал создать нечто равносильное и равнозначное им. Весьма вероятно, что ногам Стеньки Разина предшествует и героическая походка арлекина на картине Сезанна, показавшая миру, что значит стоять на собственных ногах или же на них передвигаться. Думаем, что это у Хлебникова взял Николай Заболоцкий свой мир предметов и тел, изваянных ещё до искусства ваяния, как бы самой природой.
Замечательно, что пластический стиль Хлебников сочетал с драмой и что он нужен для того, чтобы выразить масштаб драматической борьбы, объём поглощенных ею сил. Таков характер стихотворения, где изображена уличная борьба в марте 1917 года, свержение самодержавия. Всё представлено как напряженная двусторонняя группа: взвод городовых, взявших на прицел, и девушка из народа, с вызовом выступившая перед врагами. Развязка сводится к лаконическому зрительному образу, в который вошли и лирика, и трагедия:
Во что обращается бытовая тема у Хлебникова, можно судить по небольшой поэме, где как бы резьбой по дерезу описано загородное гулянье в воскресный день рабочей семьи с молодым женихом и молодой невестой-плясуньей, дочерью котельщика. Тут есть подробности, которые у другого поэта оказались бы натурализмом, но у Хлебникова становятся выражением только временно омрачённой жизненной силы, скрытой в русском быте. В поэме есть душные двустрочия, уплотняющие быт и у иных подражателей Хлебникова превращавшиеся в развернутую единообразную систему поэтики, в поэме есть суровая некрасивость:
Но в поэме есть также резьба и ваяние другого рода: поэзия русской пляски, поэзия воли, стихий, вышедших из-под угнетенности. Русский быт может представляться у Хлебникова под тусклым налётом, он может казаться мрачным застоем, однако же всегда на деле в нём есть скрытое движение. Как бы ни был мелок быт, в нём есть величие массовости. У Хлебникова же всякий человек из массы — большой человек, масса вся за ним притаилась.
Хлебников создавал не только эпические шутки, он создавал также и шутки, высеченные на камне и из камня, пользуясь навыками своего пластического стиля. В этих его юмористических каменных поделках мелочи жизни становятся ещё мельче, ещё ничтожнее; пафос художественного материала, предназначенного для предметов грандиозных, вступает в спор с обыденной темой, в спор опасный и невыгодный для нее.
Стихотворение «И чёрный рак на белом блюде... » — мимолетная сценка: к человеку нечаянно позвонили, он прикрывается занавесью, но непрошеный гость его находит. Всё это рассказано с мраморной важностью, с цитатой из летописи на древнеславянском, герой рассказа принимает пышные исторические позы: за занавесью он прячется, как Юлий Цезарь в сенате от заговорщиков с кинжалами Хлебников вгоняет быт в кадры исторической мизансцены придает ему величие и каменность, монументальность, чтобы верней прозвучало его тщедушие.
Личная лирика занимает особое место в поэтическом наследии Хлебникова. Мало лирических поэтов столь прямых, столь доверчивых, столь наивно убежденных, что их должны услышать и выслушать, как Хлебников. Лирики двадцатого столетия обыкновенно принадлежали либо к породе стыдливых, либо были дерзки, домогались внимания вопреки препятствиям, исповедуясь перед своим читателем скандально-насильно, с вызовом ему. И в том, и в другом случае присутствовало сознание, что поэт и читатель разделены и нет естественных и простых путей победить это разделение. Хлебникову глубоко чуждо это представление о несводимости одного человеческого “я” и другого “я”, он говорит в стихах о себе, ожидая эхо, ожидая отклика, а если его нет, то он уверен в своём праве на отклик. А уверенности этой именно и не было у иных его современников. Как лирики, они, в сущности, считали себя явлениями бесправными, и одни смирялись, другие делали позу из своего беззакония. Хлебников-лирик никогда не прячется за вымышленную маску, его стихи от первого лица — гордые и беззаветные. Есть у Хлебникова строчки необыкновенной лирической цельности. Горе вам, взявшие неверный угол сердца ко мне, — писал Хлебников. На такие стихи решились бы немногие из его современников, они пускались в признания осторожно и боялись роли лирических глупцов.
В лирике своей Хлебников тот же поэт с эпическим сознанием, поэт народно-национальный, и отсюда его чувство правоты и своих прав. Исповедаться перед всеми ты можешь, если и сам ты вмещаешь в себе этих всех, если в твоей личности лежит нечто простое и всенародное, — тогда исповедь твоя нужна и тебя поймут. Лирика лишь тогда находится в естественном состоянии, когда она один из спутников эпоса; в народной поэзии лирика с эпосом, по существу, не порывала, и это давало ей полную жизнь. Хлебников писал лирические стихи из простых, “эпических” побуждений, ничего несказуемого, для прочих закрытого, никакой личной тайны в его лирических стихах не найти. Он выражал здесь справедливые свои желания, говорил о воле, о хлебе насущном, о доступе к счастью, к покою и труду. Хлебников — лирик “необходимых” чувств, тех, без которых человек не живет, и для этих чувств Хлебников умел находить простое глубокое слово. Он, великий зверолюб, пишет, однако же, горестно, трогательно о детях в неурожайный год, жадно следящих, как по лесу прыгает живой заяц; глаза у этих детей святые от голода («Голод»). Это слово о необходимом человеку, о том праве на первоосновное, которое так чтил Хлебников, поэт и философ.
Лирика любви у Хлебникова тоже лишена той ограниченности одним только личным чувством, которую считают чем-то неизбежным для неё многие поэты. У Хлебникова особая русская идеология любви и русская эстетика её, находимая нами у Пушкина, Тургенева, Фета, Л. Толстого, Горького, Бунина. Русские художники изображали любовь как событие, находящее в двух лицах, избранниках её, лишь своё последнее выражение. Любовь в русских стихах, повестях и романах подсказана очень многим, на многое распространяется, перед многим и многими в ответе. У русских художников не бывало, чтобы вся лирика любви исчерпывалась рассказом, кто такие “он” и “она” и как и что между ними происходило. Всегда врывались в эту историю куски пейзажа и быта, по бессознательным связям здесь необходимые, всегда история любви совершалась на фоне жизни других людей. В любовной лирике Хлебникова, в таких стихотворениях, как «Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова... », «Люди, когда они любят», «Детуся! Если устали глаза быть широкими... », «Из ревности, из удали... », есть эти богатства. Хлебникову нужны краски истории и даже краски племени и народа для его лирических стихотворений, и нужен очень конкретный пейзаж, который не всегда появляется в его стихах другого жанра: И косы падают, на солнце выгорев, / И щеки круглые из песни Игоревой ‹...› Или сравнение любимой женщины с боярыней времён Бориса Годунова, и озеро, и скошенное жито в этом стихотворении, явственно-неявственно нужные для его лирического содержания.
У Хлебникова любовь — явление духовно-языческое, нежно-языческое, она подсказана землей, не дикой землей, а той, которую возделали история и общество. Любовная лирика, обыкновенно, имеет в виду читателя “на случай”: она задевает только влюбленных, настигнутых любовью как раз в ту самую минуту, когда оказались у них под рукой эти стихи. Любовная лирика Хлебникова и русских поэтов шире. Она для всех душевных состояний, она захватывает вместе с любовью и остальную половину жизни, и поэтому ей может откликнуться всякий и всегда.
Хлебников звал к себе людей. Горело Хлебникова поле ‹...› — говорит он о страданиях своей непризнанности и одинокости. «Одинокий лицедей» — одно из самых вдохновенных стихотворений Хлебникова — написано о том же. Строка: как сонный труп влачился по пустыне указывает, что Хлебников, создавая это стихотворение, держал в уме пушкинского «Пророка».
Хлебников здесь говорит о труде своей жизни и о том, что этот труд был напрасен. Он играл на сцене один, не имея зрителей.
Нам кажется, что эти очи, видящие поэзию Хлебникова, уже посеяны. В советское время как никогда широко открылась нашему пониманию русская народно-национальная художественная традиция в своём настоящем объёме и существе. Если проследить художественное развитие советских десятилетий, то окажется, что отмирали и отвергались те явления искусства, у которых не было национальной почвы. Отпали, так сказать, “Василии Фёдоровы из Парижа”, старавшиеся превратить искусство в автомат, в мёртвую букву, в игру рассудка и техники, устраняющие из искусства большую душу человеческую, цельность сознания, естественный народный стиль, к которому всегда склонялись национальные наши художники. Нужно освободить Хлебникова от его ложных и побочных связей и увидеть его близость к национальному фольклору и к национальной классике. Нужно в Хлебникове оценить одного из даровитейших и ранних строителен национально-русского искусства на его советской стадии развития. Хлебников уже в 1920 году понимал, что «Слово о полку Игореве» и культура революции не исключают друг друга и что революцию народ совершает не с целью отказаться от прекрасных достижений своего прошлого, но желая навсегда сохранить их и дать им дальнейшее и более высокое развитие.
Хлебников — поэт нашей страны и её народов, сказавший столько прекрасных больших слов о нашей земле, о нашем небе, о нашей истории, о наших людях, — будет увиден и услышан.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 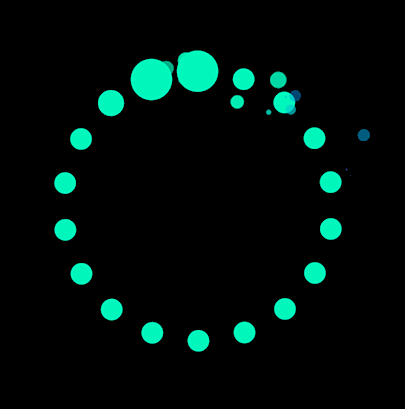 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||