

 сякому, кто задумывался над жанровой природой хлебниковского творчества, не могло не броситься в глаза то странное обстоятельство, что в художественном наследии поэта, по общему мнению эпического, которого современники называли „нашим единственным поэтом-эпиком” и сравнивали с автором «Слова о полку Игореве», „чудом дожившим до нашего времени”, собственно эпические произведения не только не преобладают, но количественно даже уступают лирическим и драматическим. Из полусотни его поэм можно выделить не более десятка-полутора, к которым без особых оговорок применима категория эпического. С точки зрения чистых жанровых констант, назвав такие вещи, как «Ночь в окопе», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Уструг Разина», «Переворот в Владивостоке»,1
сякому, кто задумывался над жанровой природой хлебниковского творчества, не могло не броситься в глаза то странное обстоятельство, что в художественном наследии поэта, по общему мнению эпического, которого современники называли „нашим единственным поэтом-эпиком” и сравнивали с автором «Слова о полку Игореве», „чудом дожившим до нашего времени”, собственно эпические произведения не только не преобладают, но количественно даже уступают лирическим и драматическим. Из полусотни его поэм можно выделить не более десятка-полутора, к которым без особых оговорок применима категория эпического. С точки зрения чистых жанровых констант, назвав такие вещи, как «Ночь в окопе», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Уструг Разина», «Переворот в Владивостоке»,1Однако у нас нет оснований говорить и о каком бы то ни было решительном преобладании в его наследии лирических или же драматических произведений. Чистая лирика или чистая драма почти так же редки, как и чистый эпос.
Чаще всего в творчестве Хлебникова мы сталкиваемся с тем, что, на первый взгляд, можно было бы назвать смешанными жанровыми образованиями. Среди его драматических сочинений мы встречаем и большую эпическую драму («Девий бог»), и малую драму типа пушкинских «маленьких трагедий» («Аспарух»), и лирическую монодраму («Госпожа Лени́н»), и лироэпическую драму («Маркиза Дэзес»). В поэмах смешение или комбинация жанровых форм ещё сложнее и запутанней. Нередко даже не знаешь, считать ли это произведение, скажем, драматической поэмой или же стихотворной драмой («Взлом Вселенной»). Здесь вообще возможна самая различная степень драматизации, начиная от сравнительно простого двухголосья (5-й парус «Детей Выдры») до сложнейшего, почти оперного многоголосья («Настоящее»).
Не менее сложно соотношение лирического и эпического. Между чистыми формами лирики и эпоса у Хлебникова целая лестница различных степеней, с одной стороны, эпизации лирики — от «Вилы и лешего» до «Синих оков», с другой стороны, так сказать, лиризации эпоса — от «Немотичей и немичей...» до «Берега невольников».
В поэмах вроде «Войны в мышеловке» с её особой “кубистической” композицией лирическое и эпическое представлены как будто бы в одинаковой, грубо говоря, пропорции, но конструктивно они даны не в равновесии, а в контрастном столкновении лирики и эпоса.
Эта поэма, возникшая под сильным воздействием поэтики раннего Маяковского,2![]()
Со всей очевидностью мы наблюдаем такую относительность категории жанра в поэме «Азы из узы». Нижеследующие строки, вне всякого сомнения, воспринимаются как самостоятельное лирическое стихотворение:
Но в контексте поэмы, куда входит это стихотворение, лирическое я наполняется более сложным содержанием, получая как бы дополнительное измерение.
Поэма «Азы из узы», написанная весной 1920 года, в разгар Гражданской войны, когда поэт готовился осуществить своё давнее желание совершить паломничество на Восток, к прародине человечества, представляет собой нечто вроде мифопоэтической панорамы Азии. В ней отразились непосредственные впечатления русской революции и вести об освободительных движениях на Востоке в эпической призме мирового масштаба совершающихся событий, в которых Хлебников видел истоки будущего единства освобожденного человечества. Поэтому название поэмы нужно читать не только как «Азия, освобождающаяся из уз рабства», но гораздо шире. В частности, аз — по Хлебникову — освобождённое я, самосознательная личность, свободная от уз духовного рабства. Речь идёт не просто о личности отдельного человека. В основе поэмы лежит миф о Прометее и его жене Азии. Путём актуализации всей истории развития прометеевского мифа от Гесиода и Эсхила до Шелли и Вячеслава Иванова и поэтической интеграции на этой основе некоторых образов западных и восточных мифологий современные события представлены в поэме как осуществление древнего мифа об освобождении закованного богоборца.
Перед нами оказывается, так сказать, прометеевская лирика. Что это значит? В давней философской и поэтической традиции, особенно развитой в новой европейской литературе, Прометей символизирует единое свободное человечество или, как говорил Хлебников, человечество, верующее в человечество. В интегральном я Прометея происходит слияние личного я поэта и внеличного я человечества. Перед нами тождество личного и внеличного, личное я совершенно растворено во внеличном и одновременно внеличное полностью воплощено в личном.
В результате формально мы можем квалифицировать эту поэму, смонтированную из отдельных лирических партий, и как лирическую, и как эпическую, и как смешанную лиро-эпическую.
Как можно, например, понять адекватный смысл развернутой метафоры в другом отрывке из той же поэмы?
В чисто лирическом аспекте мы вряд ли увидим здесь что-нибудь большее, чем субъективную экстравагантность. Но в том-то и дело, что субъект здесь не что иное, как Земной Шар.
Более того, лирический субъект может раскрываться как сама Природа. Возьмём одно из значительнейших стихотворений Хлебникова последнего периода, отмеченное могучим и сумрачным пророческим пафосом:
Здесь я Природы противостоит человеческому я, но не так, как внеличное противостоит личному, а как абсолютное, внелично-личное противостоит личному.
Какая угодно широкая, даже всеобщая внеличная данность — и народ, и человечество, и природа — в мифопоэтическом сознании могут представать в качестве живой, мыслящей, чувствующей, стремящейся личности. И в этом смысле можно говорить о лирике Народа, Человечества, Природы, вообще — о лирике Мира. Подобно тому, как мы (вслед за Гегелем) говорим об особом эпическом состоянии мира, здесь мы можем говорить о лирическом состоянии мира.
И наоборот, живая человеческая индивидуальность, отдельная личность, вполне вообразима не только вместилищем различных мыслей, чувств, стремлений, но и целым собранием самостоятельных личностей, целым народом, государством, миром. И здесь уже мы, очевидно, должны говорить об особом эпическом состоянии личности. Из множества хлебниковских текстов, художественно реализующих этот принцип, нужно вспомнить стихотворение «Я и Россия», где он воплощён со всей иронической наглядностью:
Ирония, конечно, необходима. Она позволяет не в лоб, а как бы обходным путём освоиться с величественной и оглушающей истиной, неизмеримо превосходящей выражающий её образ. Ирония — это конечное перед лицом бесконечного. Суть не в том, что простейшее бытовое действие приравнено историческому событию, а человек — государству. За этим угадывается то состояние личности, когда человеческое я в своей субстанциальной глубине смыкается с бесконечностью мира, микрокосм внутреннего — с макрокосмом внешнего.
«Юноша Я — Мир» — вот кратчайшая хлебниковская формула этой эстетики. В её свете совершенно ясно, что лирическое и эпическое в своих высших состояниях слиты до полного неразличения, это две стороны единого целого.
Таков, например, автопортрет в лирической поэме «Поэт»:
Это не просто автопортрет и не просто антропоморфный пейзаж, это личность в единстве её внешнего и внутреннего облика, данная как целый развёрнутый мир с горами, реками, водопадами, ледниками, несущимися оленями, кричащими чайками и т.д. — разнообразная, бурная, напряжённая жизнь природы. Второй, метафорический план настолько конкретизирован, что уже как бы захлестывает первый план, выходя из рамок автопортрета. Только контекст поэмы дает нам опору, чтобы рассматривать этот образ именно в качестве лирики. Но достаточно сравнить этот отрывок, скажем, со стихотворением «На родине красивой смерти Машуке», где горный пейзаж написан как портрет, и не просто портрет, а именно портрет Лермонтова, чтобы понять всю относительность лирики и эпоса, личного и внеличного. Природа может являться как личность и личность — как природа в зависимости от смыслового строя.
Точно так же обстоит дело и с драмой, где становление личности, её воля, стремление, борьба могут разворачиваться как во внеличном, так и во внутриличном “пространстве”. В первом случае мы имеем эпическую драму, во втором лирическую драму или монодраму. Но в большинстве пьес Хлебникова эти внешние и внутренние драматические пространства вполне отождествляются. И мы оказываемся в положении Учёного из его шуточной “фаустианской” драмы «Чёртик»:
В этом отношении наиболее показательна стихотворная драма (или драматическая поэма) Хлебникова «Взлом Вселенной». Исходный мотив её мы находим в той же драме «Чёртик»:
В отличие от драмы Брюсова «Земля» и «Мистерии-буфф» Маяковского, с которыми «Взлом Вселенной» постоянно перекликается, эта драма развёртывается в нескольких пространствах, которые в одно и то же время вполне тождественны и совершенно различны. Если у Брюсова и Маяковского при всей фантастичности содержания художественная конструкция всё же сохраняет предметную объективность и абсолютность данного драматического пространства, то здесь перед нами какая-то сплошная относительность: внешнее путём непрерывного перехода становится внутренним, а внутреннее внешним, как на ленте Мёбиуса. Сутью сюжета как раз и оказывается это непрерывное переворачивание, выворачивание наизнанку драматических пространств.
Основное действие происходит одновременно в голове Ученика и в голове Девушки, но Девушка эта — не что иное, как Вселенная. Смысл драмы заключается в том, что чистым усилием мысли можно воздействовать на Мировую Волю. Мыслью, персонифицированной в драме в образах Воинов, берущих приступом “замок звёзд” — умный череп вселенной, можно выйти из себя и изменить судьбы мира.
Вся эта мифопоэтическая фантастика, конечно, заставляет вспомнить и гераклитовскую Вечность — играющее дитя, и платоновскую Ананку — Необходимость, между колен которой вращается ось мира, и трёх мойр, держащих в руках человеческие судьбы, и всю вообще пространственно-смысловую структуру античного космоса. Но главное, на что нужно обратить здесь внимание, это сам принцип, который движет всей этой драматической машиной мифологического сознания.
В самом деле, как возможны все эти переходы, превращения, все эти “совмещения несовместимого”?
Всё это возможно только потому, что перед нами чисто смысловые, умные пространства, чисто смысловым образом проникающие друг друга, — всеобщая мыслимая и мыслящая пластика бытия.
Для поэта весь мир есть единый, всепроникающий и всеохватывающий мировой Ум. В нём нет ничего внешнего, что не было бы в то же самое время внутренним, нет ничего объективного, что не было бы субъективным, ничего материального, что одновременно не было бы идеальным. И наоборот. Здесь всё есть всё, всё субъект-объектно, лично-внелично и т.д., короче говоря, всё есть Единое.
И это Единое — высшая, последняя, абсолютная реальность поэтического сознания. Перед нами как бы сам себя мыслящий, сам себя раскрывающий, сам себя себе же рассказывающий мир. С какой бы стороны поэт ни подходил к изображению этого мира — то ли со стороны внеличного бытия, то ли со стороны личного, то ли со стороны становления личного во внеличном, предмет изображения не может быть дискретным и исключающим. Вопрос никогда не стоит так: или я или не-я, или внутренний мир человека или внешний мир общества и природы. Эстетический объект всегда один и тот же — это весь мир во всей его принципиальной полноте и единстве. Эта простая истина должна была быть продумана и прочувствована до конца, чтобы возникла такая органическая эстетика и такая поэтика, поражающая интуитивной мощью и высочайшей сознательностью. В эстетической системе Хлебникова поэтическое выражение я всегда есть выражение не-я, выражение не-я — всегда есть выражение я, потому что поэт всегда говорит о Едином, но взятом с разных сторон или в разных его состояниях: лирическом, эпическом или драматическом.
Как же с такой точки зрения следует квалифицировать жанровую природу хлебниковского творчества?
Ввиду того, что у нас нет оснований говорить о каком-либо преобладании того или иного чистого жанра, казалось бы, сам собой напрашивается вывод о смешанном жанре его произведений.Но помимо теоретических возражений возникают соображения историко-литературного порядка.
В самом деле, смешанный жанр был бы возможен тогда, когда бы существовала более или менее устойчивая традиция чистых жанров. Но к началу XX века в русской поэзии (в отличие от прозы) как раз такой отчётливой жанровой дифференцированности давно уже не было. Если, скажем, в эпоху романтизма смешанный жанр переживался с крайней остротой, воспринимаясь именно как нарушение жанровых констант, характерных для поэтики XVIII века, то уже после «Полтавы» и «Медного Всадника» смешение эпического и лирического, напряжённость переключения из плана в план потеряли актуальность. Смешанный жанр стал нормой. К началу же XX века русская поэма (за немногими исключениями) редуцировалась до неопределенной лирически-повествовательной формы, которая развивалась не за счёт эпизации, а за счет прозаизации материала, с постоянной оглядкой на современную прозу. Поэтому указание на смешанный жанр хлебниковских поэм, как кажется, только увело бы в сторону от существа вопроса.
Новая русская поэзия рождалась на фоне авторитетнейшей прозаической, и прежде всего романной, культуры XIX века. Недаром Блок всерьёз говорил, что само присутствие в литературе Льва Толстого мешает ему писать. Для поэзии XX века несравненно важнее её отношения с прозой, чем с предшествовавшей поэзией. Каждая поэтическая школа по-своему строила эти отношения, но задача у всех была одна: максимальная поэтизация. Хлебниковская эстетика определилась очень рано. Уже в декларативной статье «Курган Святогора» (1908) мы видим вполне сформированную общую эстетическую установку на мифологический синкретизм и соответственно «магическое» слово. В отличие от эстетики символизма, где поэтическое слово мыслилось полярным слову прозаическому и ориентировалось на музыку, мифопоэтическая эстетика Хлебникова требовала синкретического слова, не только не противопоставленного прозаическому слову, но включающего в себя все возможные языковые диалекты — и поэтический, и прозаический, и научный, и бытовой.
Основание для такого слова Хлебников видел в теории мнимых чисел, рассматривающей натуральные числа как частный случай мнимых.
Наличный, существующий язык представлялся частным случаем языка мнимого, воображаемого, подобно тому, как геометрия Эвклида является частным случаем “воображаемой геометрии” Лобачевского.
Перед нами, конечно, не что иное, как философия абсолютного слова. Над ней Хлебников много размышлял и неоднократно её растолковывал. Вот одно из его разъяснений в статье «Наша основа» (1920):
Астрономические и математические аналогии в учении о слове, разумеется, не случайны. Астрономия и математика или, вернее сказать, космология была моделью для хлебниковской теории слова, где космос слова мыслился вполне подобным космосу мира. Слово есть выражение мира, и поэтому оно не просто рассказывает о мире, но самой своей структурой изображает мир, оно изоморфно миру. Слово, собственно, и есть сам мир с точки зрения его осмысленного выражения. Но что такое этот бесконечный, разнообразный и единый мир, включающий в себя и живое, и неживое, и человека, и общество, и природу, содержащий в себе всё, что было, и всё, что будет, и всё, что только можно вообразить; что такое этот мир, понятый, осмысленный и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф. И такое “чистое”, “самовитое”, абсолютное слово есть слово мифопоэтическое. Мифопоэтическое слово является выражением единства и полноты мира. И потому-то всякое художественное произведение принципиально содержит в себе всё и раскрывается как актуальная бесконечность.
Совершенно ясно, что эпос, драма, лирика — это лишь разные стороны или разные состояния мира, выраженного в слове, или, что то же, разные стороны мифа. А следовательно, в общей эстетике Хлебникова нужно говорить не о раздельном эпическом, драматическом или лирическом слове и не о их смешении, а о разных сторонах, разных состояниях единого Слова. Если поэт берёт мир со стороны единства и цельности, мы получаем его выражение в формах эпоса или лирики. В первом случае это будет внеличное единство, во втором — личное единство. Если же поэт берет мир не со стороны единства и цельности, а со стороны его множественности, раздельности, мы получаем драматические формы. С одной стороны, это будет лично становящаяся раздельная множественность, с другой — внелично становящаяся раздельная множественность.3![]()
Но все эти стороны или состояния мира существуют сразу все вместе, в нерушимом единстве. Каждый данный момент, выдвинутый на первый план, подразумевает и все остальные моменты.
Эстетика абсолютного слова неизбежно порождала относительность категории жанра. Никаких строгих дефиниций, незыблемо определяющих тот или иной жанр, в произведениях Хлебникова провести невозможно, наоборот, жанры свободно переходят путём непрерывного изменения один в другой во всех мыслимых сочетаниях. Так что любое произведение принципиально представляет собой какой-то обратимый, или амбивалентный, жанр, который в зависимости от тех или иных условий оказывается и лирикой, и драмой, и эпосом.
С теоретической точки зрения всё это нисколько не удивительно. Такова и должна быть всякая мифопоэтическая эстетика, и, в частности, теория жанров. Ещё Новалис, как поэт и в особенности как мыслитель чрезвычайно близкий Хлебникову, писал: „Не являются ли эпос, лирика и драма только тремя различными элементами, которые присутствуют в каждом произведении, — и не там ли мы имеем собственно эпос, где всего лишь преобладает эпос, и так далее?”4![]()
Тем не менее всё это отнюдь не снимает вопроса, почему же всё-таки поэзия Хлебникова была воспринята именно как эпическая.
Попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны. Возьмём для сравнения двух ближайших и значительнейших литературных современников, которых вместе с Хлебниковым можно рассматривать как своего рода эстетическую систему. Возьмем Блока и Маяковского.
Какова прежде всего основа для такого сравнения?
Когда мы читаем у Блока: „Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе создают единый музыкальный напор”,5![]()
Всякое поэтическое сознание, стремясь охватить мир во всей его полноте и единстве, приближается к нему с какой-то одной определённой стороны, выдвигая на первый план какой-то специфический момент, рассматривая его с какой-то доминирующей точки зрения. Или другими словами: всякое поэтическое слово, стремясь выразить мир во всей его полноте и единстве, выражает его полностью, но с разной степенью выраженности различных его сторон и состояний. Иначе просто-напросто поэты ничем не отличались бы друг от друга. (Хотя здесь уместно вспомнить старый парадокс: чем крупнее поэты, тем больше они похожи друг на друга.) Ясно также и то, что охватить фактическую полноту мира невозможно.
Какова же специфика каждого из этих трёх поэтов?
Не входя в детали, в самом общем виде можно сказать так. Маяковский берёт мир со стороны его вещественной определённости и качественной отчётливости, в момент его фактической, завершённости, где субъект и объект, личное и внеличное предстают во всей своей самостоятельности и логической расчленённости. Это ощутимый, действительный, вещественно-фактический, ставший мир. У Блока, в отличие от Маяковского, мир взят в динамическом состоянии, в момент его алогического становления, иррационального воплощения, диалектического отрицания отрицания. Именно отсюда вырастало то „трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения”, о котором поэт говорил в предисловии к поэме «Возмездие» (СС, III, 296). В самом деле: что такое неслиянность? — Раздельность, множественность. Что такое нераздельность? — Слиянность, цельность. Формально как будто одно и то же, по существу же совсем иное. Та же самая раздельная цельность, что и у Маяковского, то же утверждение, но данное посредством двойного отрицания. На первый план выдвинуты не противоречия и не их примирение, а само требование примирения, „мужественное веяние”, воля, стремление. В противоположность и Блоку и Маяковскому Хлебников берёт мир в его первозданной цельности, предшествующей всякому становлению и всякой завершённой раздельности, мир в его изначальном (или, что то же, в окончательном) всеобщем единстве. Это воображаемый, представляемый, потенциально возможный, энергийно-смысловой мир.
Потенция, т.е. принципиальная возможность смыслового выражения мира, и энергия, т.е. само это смысловое выражение, мыслятся в эстетике Хлебникова в полном единстве. Отсюда хлебниковская диалектика числа и слова, и, в частности, его теория числоимён. Число и слово, как потенция и энергия, неотделимы друг от друга; слова — “звукомые числа”, слышимые “числа бытия”, числа — особый эстетически выразительный язык, числовое письмо, сам поэт — художник числа вечной головы вселенной.
Если у Маяковского мы видим отчетливое расчленение субъекта и объекта, если у Блока мы видим становление субъекта в объекте, личного во вне-личном, то у Хлебникова — единство субъекта и объекта, субъект-объектное тождество. Если у Маяковского — простые и определенные да и нет, если у Блока — ни да, ни нет, то у Хлебникова они слиты до полного неразличения.
Короче говоря, если Маяковский берет мир в его фактической осуществлённости, если Блок берет мир в его иррациональном осуществлении, то Хлебников — в его принципиальной осуществимости.
Соответственным образом эстетическая специфика получает выражение в поэтическом слове. „Весомое, грубое, зримое” слово Маяковского властно требует ещё большего воплощения в живом голосе поэта, в декламации, как бы стремясь выйти из себя в жест, в реальное действие. Двойственному, “мерцающему” слову Блока всякая качественная определённость, всякая грубая материализация прямо противопоказана (недаром И. Анненский говорил о „белом голосе” Блока). А слову Хлебникова это совершенно безразлично, ибо ему достаточно самой возможности и чеканной оформленности, и текучей неопределенности, и бесплотного движения, и вещественного действия. Слово Хлебникова принципиально словесно и не стремится покинуть свою чисто смысловую стихию, тогда как слово Маяковского рвётся в засловесное пространство, а слово Блока хочет вернуться в чистую длительность, в дословесную стихию.
Подобно тому как говорят о яркой живописности и монументальной скульптурности слова Маяковского или о напряжённой музыкальности слова Блока, в отношении Хлебникова можно говорить о словесности слова, как бы погружённого в собственную глубину. Если словесное выражение, в отличие от живописного или музыкального, есть прежде всего внутреннее представление, то хлебниковское слово — это, так сказать, внутреннее внутреннего представления, слово слов, имя имён.6![]()
Прямым следствием особого типа поэтического слова является, конечно, литературная личность. Попытаемся представить себе образ Хлебникова по его художественным произведениям. Нам это едва ли удастся. В то же время литературная личность или, как чаще говорят, лирический герой Блока или Маяковского предстает перед нашим воображением с лёгкостью; более того — образы этих поэтов со временем выступают ещё рельефней, существуют уже почти независимо от их литературного дела.
Хлебникова же нельзя отделить от его слова, рассказать о нём “своими словами”, тогда как литературная личность Блока или Маяковского (при всём их различии) свободно выходит из текста, и в этом, конечно, особая сила их воздействия на читателя. „Но, — как писал Тынянов, — это и опасно. Может произойти распад, разделение, — литературная личность выпадет из стихов, будет жить помимо них; а покинутые стихи окажутся бедными”.7![]()
Таким образом, тип поэтического слова, с одной стороны, сказывается на характере литературной личности. С другой стороны, он определяет художественную символику поэта.
Если Блок берет мир со стороны его становления, осуществления, то совершенно естественно, что центральным моментом блоковского выражения является символ пути.8![]()
Как же можно понять в этом ключе центральный момент хлебниковского выражения? Очевидно, что это должна быть не вещь с её материально-телесным принципом и не путь с его динамическим принципом, а нечто предшествующее всякому осуществлению и всякой осуществленности и вместе с тем содержащее в себе и осуществление и осуществленность, но только в виде возможности. Значит, мир, взятый со стороны его принципиальной осуществимости, должен получить выражение в каком-то потенциально-энергийном символе. Такой всеобщий символ мира, вполне соответствующий пути Блока и вещи Маяковского, мы находим в хлебниковской молнии. Если у Блока мир есть путь, если у Маяковского мир есть вещь, то хлебниковский мир есть молния.
Молния (со всеми её мифопоэтическими модификациями: огонь, свет, луч, взрыв и т.п.) является у него и первообразом мира, и принципом всеобщего единства, и архетипом поэтического слова. В этом символе в свёрнутом, концентрированном виде содержится всё богатство хлебниковской эстетики. В конечном счете всё его творчество было поэтическим постижением, художественным исследованием, творческим выражением молнийно-световой, или потенциально-энергийной, природы мира. Особенно важна в этом отношении драматическая поэма «Сестры-молнии», где молния выступает не только как тема, не только как конструктивно-эстетический принцип, но и как действующее лицо. Хор сестёр-молний в поэме представляет собой нечто вроде мирового фона трагедии человеческой истории или какой-то всепорождающей и всепоглощающей энергийно-смысловой стихии.
В этой драматической поэме иронически-насмешливый, шутовской √–1 — её смысловой центр. Вся поэма как бы стоит на этой отсутствующей, воображаемой точке. Всё разнообразие мира как бы выходит из единой, неразличимой, абсолютной точки и возвращается в неё.
Это безумно-весёлый, трагически-жестокий и божественно-блаженный, безначальный и бесконечный древний космос, прежде всего — пифагорейско-гераклитовский, где “всем правит Молния”, заново открывшийся глазам XX века сквозь призму Эйнштейна. Это тот же мир Блока и Маяковского, но увиденный не со стороны воплощающейся или воплощённой человеческой индивидуальности, а со стороны его внеличного всеобщего единства. Скажем так: мир Маяковского — героический, мир Блока — демонический, мир Хлебникова — божественный. Мир Маяковского — это осязаемо-телесный, вещный мир действий и чувств личности, мир Блока — это динамический, самоотрицающийся мир воли и стремления “вочеловечивающейся” личности. Мир Хлебникова — внеличный энергийно-смысловой мир. Или проще: мир Маяковского — чувственный, мир Блока — волевой, мир Хлебникова — умный.
Все эти характеристики, разумеется, не имеют оценочного смысла. Во-первых, они в значительной мере относительны; если бы мы взяли те же имена в составе других триад, то их характеристики, соответственно, были бы иными.9![]()
Как же выглядит жанровая природа поэта в свете его эстетической специфики?
В художественном наследии Блока и Маяковского точно так же, как и у Хлебникова, мы найдем и эпос, и лирику, и драму в их чистом виде и в различных комбинациях. Так что внешне и формально никакой разницы жанровой природы в произведениях этих поэтов как будто и нет. С этой точки зрения, очевидно, решить проблему жанра и поэзии XX века невозможно. Напротив, с точки зрения внутренней, в аспекте эстетической специфики различия поэтических систем выступают наглядно.
Следовательно, жанровая проблема требует изучения, во-первых, с точки зрения общей эстетики, во-вторых, с точки зрения специальной эстетики, т.е. поэтики. В первом случае мы получаем жанровый принцип, во втором — конкретное жанровое оформление, или реализацию принципа.
Такой подход заставляет в некоторых случаях отказаться от привычных, но поверхностных представлений. Так, например, несмотря на то, что в жанровом конструировании Блока безусловно преобладают лирические формы, тем не менее содержание его лирики, как и всего творчества вообще, драматично. Не случайно свою лирику Блок называл „трилогией вочеловечивания”, т.е. историей становления личности, её воли и стремления. А это и есть жанровый принцип драмы. Высшее состояние мира, когда и мир и человек раскрываются во всей полноте, для Блока всегда драматическое состояние, момент „нераздельности и неслиянности всего”. В этом отношении наиболее характерна его поэма «Двенадцать», где драматический принцип парадоксально реализуется в отрицании и эпоса и лирики. С внешней точки зрения в этой поэме находили даже целый жанровый синтез, тогда как на деле структура поэмы антитетична.
У Маяковского реализация жанрового принципа прямее и определённее. Высшее состояние мира для него — это всегда лирическое состояние. Какой бы степени эпизации ни достигало его слово, оно почти никогда не выходило за пределы лирических жанров. Тынянов писал, что „стихия его слов враждебна сюжетному эпосу”, что „своеобразие его большой формы как раз в том и состоит, что она не “эпос”, а “большая ода””, и что „самый гиперболический образ Маяковского ‹...› — сам Маяковский”.10![]()
В сравнении с Блоком и Маяковским со всей отчётливостью выступает эпический принцип Хлебникова. Независимо от того или иного жанрового оформления содержанием его поэзии в конечном счёте всегда оказывается эпическое состояние мира, т.е. внеличная данность, чистая взаимосвязанность и взаимоотнесенность смысла. В целом к Хлебникову вполне применима характеристика, которую дает Гегель раннефилософским поэмам античности: „Содержанием здесь является Единое, которое в противоположность всему становящемуся и ставшему, особенным и отдельным явлениям, есть нечто непреходящее и вечное. Ничто особенное уже не удовлетворяет дух, стремящийся к истине и представляющий её мыслящему сознанию вначале в её абстрактнейшем единстве и первородности”.11![]()
Хлебниковское слово, изначально эпическое, всегда тяготело к эпическому жанровому оформлению. Но именно в силу его отвлечённо-смысловой природы и потенциально-энергийной неистощимости оно редко оформлялось в чистый жанр. Тынянов писал:
Чем богаче внутренние силы слова, тем труднее конструируется замкнутый и однозначный жанр. Хлебниковское абсолютное слово потому и порождало относительный жанр, что в нём свободно являлась его синкретическая природа. Однако, когда эпический принцип находил эпическое же жанровое оформление, это давало исключительную энергию выражения. Так возник эпос XX века — хлебниковские поэмы о революции. Но для этого нужно было не только особое поэтическое сознание, но и соответствующие явления действительности.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 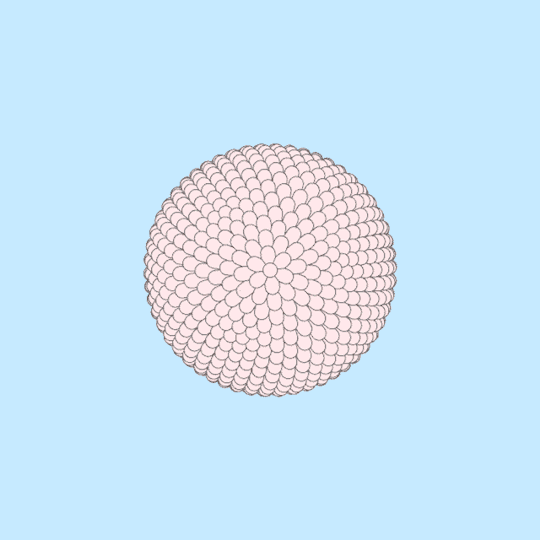 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||