





















Я знаю любителей поэзии, которые Пастернака читают ради умственной гимнастики,
относясь к его стихам как к затейливым шарадам или ребусам…
Однако же забавно, читая стишок, посвящённый двадцатипятилетию
революции 25 октября, догадываться, что слова „Заколдованное число! Ты со мной при любой перемене”
означают “Опять двадцать пять!”
Омри Ронен. Грусть
Нет величия там, где нет простоты, добра и правды.
Л.Н. Толстой. Война и мир
Вперёд-вперёд, отечество моё,
куда нас гонит храброе жульё,
куда нас гонит злобный стук идей
и хор апоплексических вождей.
Вперёд-вперёд, за нами правота,
вперёд-вперёд, как наша жизнь верна,
вперёд-вперёд, не жалко живота,
привет тебе, счастливая война.
Иосиф Бродский. Шествие
Но — сначала дракон, сначала дракон, дракон,
Где-то он кроется в непосещаемых скалах.
Если не уничтожить дракона, то он
Ещё зашипит в завершениях и началах.
Ещё он, смердящий, выглянет там и сям,
Собственной персоной, в виде ли нового клона...
Кадм в конце концов и сам обращается к небесам,
Чтобы превратиться в следующего дракона.
Рафаэль Шустерович. Хтоническое
Так читать текст — всё равно что в кулинарном рецепте перепутать вершки и корешки или, допустим, съесть яичную скорлупу, отбросив желток и белок. Дежурно повторю приватную сигнатуру, заменив лишь имя собственное (прежде был Пушкин).
Я вновь стремлюсь к сериальной структуре, темой которой станет детективный сюжет, строящийся вокруг бытования вождя — Ленина — в поэзии ХХ века. Разумеется, привлеку к ответу только те тексты, где это имя тщательно закамуфлировано.
Далее речь пойдет о сходной методе — укладках с тройным дном, лукавых способах и приёмах вуалирования вождя в русской поэзии, об исключительном многообразии и изворотливости этих пряток и утаек. И разумеется, о поиске разгадок и ответов.
С наскока или сами по себе решения не возникают, но, как правило, если у одного поэта вскрывается цепочка смысловых соответствий, то неизменно оказывается, что другие “коллеги” автономно её тоже разрабатывают или пользуются готовыми сцеплениями. На этом этапе раскопок можно предположить, что в поэзии действует принцип “нефинансовой” пирамиды, на вершине которой скрывается искомый “партайгеноссе”, а объем геометрической фигуры заполнен стихами с “шариковыми направляющими”.
Например, есть ли связь между Лениным и Лаокооном? Если угодно, формальное сходство основано на “разоблачении” — обнажении атлета и „голой картавости” голоса вождя. В поэме Пастернака «Девятьсот пятый год» (Июль 1925 — февраль 1926) читаем:
В скульптурной группе опущена важная деталь, сходная с кольцами дыма, — змéи.1![]()
1. Русское слово наг поддержано мифологическим Нагом-Змием, о котором предоставляю любознательным самостоятельно получить нужные справки в интернете, включая воспоминания о Рики-Тики-Тави. Морфема входит в частотный запас словаря поэтов — нагайка, наган, наглее, наглотаться, наглухо, нагорный и т.д.
2. Синоним наготы — гол. Кроме футбольного термина, к нему примыкают важнейшие слова с нужной морфемой: голос, голова, глагол, уголь и угол, щегол и щеголь, голубь и голубизна и т.д.
3. Змей, по словарю древнерусского языка И.И. Срезневского, — это пушечный снаряд.
4. С драконом или змеем поэты привычно сравнивали цивилизационное новшество — поезд.
5. Примыкают к теме любые варианты водных передвижений, ибо к понятию обнажения близко по звучанию французское слово nage — плавание, гребля.
6. Русский сказочный Дракон, живущий в пещере, именуется Змей-Горыныч; отсюда проистекают поэтические этимологии горы, горения, горя, города и гордости, горизонта и горла, гороха, горчицы, гортани и т.д.
7. Значительным оказывается и рифменное созвучие английских обозначений дракона (draco, dragon) с лекарством: drug — медикамент, снадобье, лекарственные препараты (включая опиаты, наркотики). Неминуемо использование и неверного прочтения — друг, подруга.
8. Редко (или нередко) дракон символизирует грозу.
Начнём с некоторых наглядных примеров из Пастернака, затем перейдём к своеобразному развитию мотивов у Хлебникова и завершим одним мандельштамовским этюдом. А впрочем, иной раз тексты пойдут вперемешку, образуя хор, если старт будет дан на железной дороге.
Стихотворение Пастернака написано в 1916 году, Мандельштама — весной 1935-го (в Воронеже), а поэма Велимира — в 1910-м. Тем не менее, поскольку там движутся поезда, подразумеваются и драконы, иногда невидимые. Наши хлопоты сопряжены с выявлением скрытого.
Поезд Пастернака приближается к границе между Европой и Азией, проходящей по каменному поясу Уральского хребта. “Акушерское” стихотворение вошло в сборник «Поверх барьеров» (1917).
Стихотворение — не пейзажная зарисовка, а физиологический подход к зарождению поэзии. Ослепленное пространство переполнено двойниками-слепками. При наличии двух составляющих в poetry появляется нечто третье. На стыке ночи и дня, Европы и Азии, Запада и Востока, твердыня Урала рожает в муках утро, солнце. Текст как бы живёт под латинским эпиграфом “Utro” (то есть “в которую сторону” — из двух). Из задетых громад вылупляются маленькие дети. Глаголы просыпаться и сыпать (фр. verser) приносят в подоле стихи-vers. Отряхнувшиеся со сна сосны освещаются солнцем, начиная с верхушек, лыжники-азиатцы не спортсмены, а тени деревьев. Двойник дракона-поезда печник-Горыныч, опаивает местность лекарством-drug. Скверна злоязычного Змия скрыта в лесной династии мха — в бархатном покрове-насте (англ. nasty — злобный, мерзкий).
Но при всех родовых муках, злобных проделках, падениях и копоти — стихотворение дышит царственным величием торжества. Чего не скажешь об ироничном ликовании арестанта Мандельштама, у которого поезд тоже идет на Урал, но в нём поэта под конвоем везут в чердынскую ссылку.
Приведу и вариант белового автографа, чтобы виднее была “драконья” подоплёка стихотворения:
Происходят непрерывные расщепления и обмены качеств и свойств. От читателя требуется чуткость и слитность слуха. Пятью головами, как пятиконечной звездой, награждено время, а не огнедышащий дракон. Змей поезда пожирает гору и лес, а вовсе не гора Горыныча закусывает железнодорожным составом. Поэт уменьшается до точки, чтобы гордиться могуществом пространства, заполненного чумной массой, превозносить большаки с разбойными ножами, радоваться расширенью аорты, играющей на разрыв. И глаз, и слух оголены и раздроблены, но, протиснувшись в игольное ушко, дармоед-поэт (мизинчик, которому „каши не дают”) остается господарем пушкинского моря.
Вершок — мера пространства стиха, версификации, а именно — пушкинской версификации.2![]()
![]()
А сейчас в железнодорожное расписание вклинится Велимир с поэмой (или большим стихотворением) «Змей поезда. Бегство». Ниже очень беглый анализ кажущегося и без того внятным текста, в котором впрямую фигурирует память о битве Святого Георгия. (Нумерацию терцин, которыми написана поэма, при цитировании опущу.)
Герои, цепенея, тупо глядят, как Змей заглатывает спящих пассажиров. Что же помешало двум храбрецам вступить в поединок? То же самое, что не давало населению Петербурга сопротивляться изуверским проделкам чудовищной птицы в Велимировой поэме «Журавль» (1909). Поезд-Дракон — горизонталь, подъёмный кран-Журавль — вертикаль; оба они механические, бездушные посланники прогресса. Цивилизация пожирает милую природу, спасение в бегстве, нужно выпрыгнуть на ходу из вагона и схорониться под кустом.
Хлебниковские полезные рекомендации по своей радикальности и глубине напоминают нравоучения нынешней Государственной Думы. Разница в количестве иронии и юмора. Велимир не зря сближал свое смейево со ‘змейевом’:
Совершенно иначе бегство от дракона описано у Пастернака, к тому же и самого Змия разглядеть удается не сразу. Точнее, его и вовсе не видно без “спецаппаратуры”. Свидетельство тому книга М.Л. Гаспарова и И.Ю. Подгаецкой, где находим подробный анализ стихотворения «Душная ночь» из сборника «Сестра моя — жизнь», однако искомый объект ускользает от внимания авторов. Как и всё остальное, на мой взгляд… “Сверкой понимания” я и займусь, а внимательных читателей приглашаю к благосклонному сравнению.4![]()
Внимательный читатель Саша Соколов быстро прибрал к рукам огнедышащие приметы пастернаковских гроз, написав в «Палисандрии»: „Ночь почти перешла, но дремучий дракон грозы отсверкал далеко не всеми чешуями”. Как знать, а вдруг дело обошлось и без Пастернака… В любом случае нам предстоит самостоятельно продрать глаза и узреть крылатое чудище.
О том, что текст фарсовый, с системным подвохом “крапа”, подаёт сигнал первое же слово „накрапывало”; об этом же свидетельствует и последний, двусмысленный глагол ‘заговорят’, то есть природное сообщество замышляет страшное заклятие.5![]()
С первых слов в тексте производится обмен признаками: „не гнулись / И травы в грозовом мешке”. Привычная дислокация травы — в мешке, к тому же такая торба подменяет утробу лошади. Былинный богатырь дежурно бранит своего коня: „Ах ты, волчья сыть, травяной мешок…” Надо думать, “грозовым мешком” располагает “обменный банкомат” — грозный Горыныч. Если не поезд, тогда туча, а коли не хмара, то дым.
Слегка отвлечёмся от стихов и заглянем в пастернаковскую прозу, где сопряжены поезд, дым, дракон, конь, книга (и князь и кнезь, и конь и книга). Повесть называется просто «Повесть», написана она в 1929 году и в ней есть вставной эпизод:
Как часто бывает у Пастернака, в прозаическом отрывке он использует поэтическую версию как пленэрный этюд. В «Повести» гроза есть, но в иных пределах, а в этом отрывке наличествуют травяной мешок чудища, поезд, железо, болезнь. Ливер превращается в liber-книгу (под названием «Детство Люверс»), а из книги и дракона проклёвывается конь.
В стихотворении «Душная ночь» слово конь располагается в драконе и в грозе (нем. Ross — конь). Можно предполагать и догадываться, что заговор грозы грозит превращением поэта в коня. Пастернаку уже доводилось воображать себя конем, когда больной, в полубреду он вспоминал о любви и о ненасытности зарвавшегося вихря:
Пастернак счёл необходимым при публикации «Душной ночи» снабдить строчку „И в роже пух” примечанием: „Не все догадываются, что рожа тут в значеньи болезни, а не уродливого лица”. Постараемся, помня о болезни, не забывать и о личине. У слова ‘рожа’ есть и третье значение — ‘рожею’ (то есть розой, розовой, рожевой) зовут на Украине мальву, растущую у забора („и мальвою вымаливал у каждого плетня”). Так что параллельно в стихотворении соседствуют все три значения — пух застрял на рожистом воспалении, опухоли; пух осел на цветке; и пух означает, что у кого-то “рыльце в пушку”, кто-то что-то скрывает, передёргивает. Этот же ‘пух’ (звук взрыва) поддерживает военную тематику “грозы”, приносящей выстрелы и вопли раненых, — „с постов спасались бегством стоны”. Начинается сражение “железом” пилюль, капсул, капель, затем горит рожь, битва подхвачена звуками команды „пли!” (слепли, капли, плетня) и завершается как проблеском-“прóминем” (укр. луч, проблеск) молнии — “про меня!”. Поэт — цель-мета заговора, он тот, на ком оставил клеймо, свой след Громовержец, забрызгали пометками мокрые ветки („веток безлиственный заговор”).
Как ни странно, у стихотворения есть ещё один командир, или, как называют его дети в игре, — вóда, водящий. И это слово — плетень, то есть забор, и оно родственно промыслам Бога. В «Душной ночи» кое-что напоминает о «Дурном сне» из «Поверх барьеров» (1917). Перечислю общие реалии батальных сцен на полях обоих текстов: бесцельная разруха, болезнь, стоны, посты, слепли, заборы, бред и сон Бога. Околесицы опиумных галлюцинаций, фантазмы, чудеса, сказки сопряжены во многих стихах Пастернака с плетнями, оградами, тынами, решетками, стенами и порождены отзвуками немецкого слова Zauber, отдаленно напоминающего о заборе, но означающего чары, волшебство. Разумеется, сейчас я не буду поддаваться соблазнам этой многозначащей темы и упомянула о ней, только чтобы маркировать связь споров ветреного коллектива у плетня с посулом колдовства.
Итак, в «Урале впервые» налицо поезд, Горыныч и горы, а также снотворное лекарство (см. пункты 4, 6, 7); в «Душной ночи» — гроза, наг и лекарство, указующее на дракона (см. пункты 8, 1, 7). Настал черёд текста с грозой и снарядом-змеем (см. пункты 8, 3). Стихотворение датировано 1927 годом, было опубликовано в сборнике «Поверх барьеров» (1929) с посвящением историку Я.З. Черняку.7![]()
Гроза заявлена в названии, так что в ней не приходится сомневаться. „Разгадку шлемов и костюмов” скрывает тот, кто идет „с мешком” (почти со смешком, усмешкой). Он уже обозначен в пункте 3. Напоминаю: в словаре древнерусского языка И.И. Срезневского снаряды, пушечные ядра называются змеями. Дракон шествовал медленно, грозовая туча проплыла мимо, но колдовские чары не развеяны, они оставили вещественные улики: нога (нага) натыкается в траве „на шар гранаты”. Оружие поэта, с помощью которого он создает повести, — знание истории слов. Не обошлось и без речевого танца вокруг ‘окопа’: кап-кип-коп-куп. Происходит реализация во плоти латинского слова ‘оккупант’. Захватчик-дракон грозовой тучей нависает над Русью, но, как и шведы, терпит поражение и, развернувшись, уплывает восвояси, оставив после себя загадочный реквизит.
Отгадки грозовых пастернаковских текстов помогут в расшифровке фигуры вождя, так как в Ленине, как и в Греции, есть всё. Напоследок ещё только один компактный пример для закрепления штудий. В 1931 году Пастернак гостил у друзей на Кавказе и посвятил несколько стихотворений Тифлису. Привожу четыре строфы8![]()
Китайские тени в театре этого кавказского ландшафта — опять-таки драконы. Серпантин колесящего шоссе напоминает о змеях-нагах. Гроза одновременно равна кольцам туч, змеям и набегам ногайцев (нагайцев тож). Буйвол — голый дьявол, к тому же он пловец-nager. Ряды усыпальниц напоминают о снотворном Змея-Горыныча, заметённые пути — о поездах. Поэтическим оккупациям подверглись почти все атрибуты “драконьего текста”, кроме разве что снарядов и ядер, но финал приберёг-таки батальную сцену времен персидских завоеваний Тифлиса:
Постепенно, петляя как горная дорога, добрались мы до «Высокой болезни». Пастернак написал поэму в 1923 году, в 1924-м опубликовал её в ЛЕФе, а в 1928-м дописал финал о речи Ленина конца декабря 1921 года на IX съезде Советов. Поэт получил пропуск в Большой театр и был очевидцем выступления вождя. Вот эта “восторженная” фиксация:
Все нынешние комментаторы отмечают высокую оценку пролетарской критикой этого отрывка, что помогло избежать изъятий и купюр. Но пока что ни один исследователь или читатель не заметил, что Пастернак взял Ленина в “драконьи” заложники — Омри Ронен отнюдь не одинок в своей близорукости, что ему, разумеется, оправданием не служит. Самым двусмысленным мне кажется лукавый финал о лёгкости и тяжести. Ленин произносит речь в рождественские дни, и потому стоит прочитать строку с разбивкой: „Предвестьем ль Гот приходит гений?” То есть пришествие Ильича равно ли явлению Христа народу? В поэме и раньше был дан ответ:
Благая весть о Христе предана многократно, а новый гений, метящий в Спасители, оборачивается Антихристом, Змием, Драконом. Ещё раз перечислю все предъявленные в портрете дьявольские признаки. На трибуну лидер, изгибая корпус в кольцах поддержек, проскальзывает, как пресмыкающееся. Его вид пронзает искрами загривок, он весь „как Божия гроза”. Его мудрость — свойство Змея-нага, готового к полёту, суть речей и голос — голы. Лекарственным экстрактом его горла орёт история, чьи былины начертаны кровью не без его наущений.
И напоследок внимание привлекает неожиданная мелочь в поэтическом портрете Ленина: „И пяля передки штиблет”. О туфлях как о непременном сигнале присутствия Чёрта (нем. Teufel) я уже писала в связи с Хлебниковым (ниже повторю). Пастернак не преминул воспользоваться и этим мефистофельским отличием вождя.9![]()
Нельзя сказать, что это первый опыт Пастернака по выявлению сатанинской природы гения революции. Поэт сам настаивает в поэме на неизменности своих взглядов:
К кому относится слово „враг”, сомневаться не приходится: известна оценка Пастернаком роли Ленина в революционных событиях „по живому следу”. Стихотворение написано в 1918 году, впервые опубликовано в 1989-м.
В специальной расшифровке этот текст не нуждается. Обращаю только внимание, что здесь заштрихованы все отличия „вражьей” природы Ленина. Он противоположен Социализму Христа; надвигается, наплывает на Русь в огнедышащем поезде-Драконе; готов жечь, взрывать и расстреливать, стирать с лица родной земли всё и вся. Орёт не история, горланит он сам: „К чёрту! Чёрт с ней, с отчизной!” Тут уж не до прославления „голой картавости”, да и вряд ли поэт слышал её до речи на съезде…
Пора переходить к “змеиным” упражнениям Хлебникова. Их у Велимира необозримо много, и подвизался на этом поприще он задолго до Пастернака. Ограничусь выборочными указаниями и цитациями, дабы плавно подойти к ленинской теме, упор на которую уже сделан выше. Закрепим пройденное и добавим новые подробности, применив иное, “драконье”, освещение.
Ранний текст 1908 года «Скифское» («Подруга») Хлебников разворачивает как загадку. Свободно мутирующая цепочка слов ‘нога’ — ‘наг’ — ‘нож’ несёт скрытую разгадку. Нога (её нога упруга; не чуют кони жала ног) в латыни — это ‘pes’, тот самый верный пёс, мужской аналог босоногой подруги, то есть собаки. Эхо ноги — ‘наг’ (нагие ездоки) — это знакомый нам санскритский ‘змей’ — То жалом сзади гонит; / Земля в ней жалом жалится; / Змея, змея ли сжалится. Не забыт и синоним наготы — ‘гол’: В их взорах голубое / Смеётся вечно вёдро; / И гулки и голки, / Поют его рога. И наконец, стихотворение посвящено веселью и смеху — эху змейного товарища. Свободная стихия поэзии позволяет петь (‘cano’), сближать и смешно смешивать коней с ‘canis’-собакой, бегущей в куге-камыше (‘canna’), и с тем, что канет-тонет в водах седой (‘canus’) древности.10![]()
Чертовщина, нечистая сила в любом изводе всегда завораживала Хлебникова. Крылатый ящер, Дракон, ещё один “родственник” коня, едва ли не самый частый гость Велимировых творений, но сей — в отличие от Чёрта или Лешего — потаён.
Поэма «Алчак» (1908) никогда не привлекала многочисленную аудиторию. Вероятно, причина в сентиментальности сюжета — перепеве крымского предания о самоубийстве брошенной девушки. Вот только соблазняет красавицу и отказывается на ней жениться не просто демонический ловелас, а Дракон в облике человека. Перед тем, как броситься с утеса в волны, девица обличает возлюбленного:
Тот же Дракон, имевший признаки и Демона, и Люцифера, прилетел соблазнить грустиночку Украйны, а затем сразил огнём и свистом её жениха, несшего службу на Амуре, окраине империи. Находим сие в подробностях стихотворения «…И она ответила тихо…» (1911), позже дополненных и развёрнутых в «Гонимый кем?..» (или «Конь Пржевальского»).
Вот печальные события в некотором сокращении. Любопытно, что безуспешно противостоял грозному Дракону казак, наделённый всеми приметами грозы (его конь как гром, а волосы как ливень), а Змею в очередной раз присуща усмеяльность:
А сейчас повторю, как и обещала, увлекательный пассаж про чёботы, чтобы подкрепить „ленинские штиблеты” из «Высокой болезни» Пастернака. Хлебников для Чёрта припас скомороший атрибут — его обувь. Как мы уже знаем, происходит эта на поверхности лежащая шутка из немецкого словаря, где Teufel — чёрт, дьявол, бес, сатана, демон.
В стихотворении «Конь Пржевальского» Хлебников впервые опробовал именно такую многоликость: от первого лица ведёт речь Сатана (вернее, все его перечисленные ипостаси, включая Змия-Дракона, Черта, Люцифера, Вельзевула, Мефистофеля и лермонтовского Демона). В тексте стихотворения змеиным клеймом Лукавого, тщательно зашифрованным знаком, служат чёботы.13![]()
Цветы-чёботы комментаторы уразумели, перекличку с гоголевскими черевичками — нет.14![]()
![]()
Тема ящера-Змия подхвачена «Шаманом и Венерой», где богиня нага, а Монгол (Могол) мудр. Мощное развитие этот мотив получает в заумной пьесе «Боги». Здесь бесовская покладистость меняет знак: взамен мирного гротеска на сцену вытащен братоубийственный конфликт современности. Я уже писала прежде, как Хлебников “разделался” с вождём мирового пролетариата в этой пьесе, где о нём на “зауми” дважды сказано “сукин сын” (с подспудной цитацией Алексея Константиновича Толстого: «Сидит под балдахином Китаец Цу-Кин-Цын…»).16![]()
Новый шеститомник Хлебникова блистает полнотой его поздних текстов, налицо те высказывания поэта о Ленине, ЧК, жестоких бойнях и расправах большевиков, которые не могли быть опубликованы при советской власти. Только один пример. Никакой особой загадки нет в том, чьё имя начинается на букву Л. Но Хлебников в пределах шести строк умудрился провести обвинительный процесс, делая упор на почти ребусном вопрошании: что постигнет Урал, если у него, как у ящерицы, оторвать хвост?
Фигура вождя с лицом монгольского востока тоже двоится. Он и друг бедноты, и грозный диктатор; борец с религиозными заблуждениями и Великий Инквизитор одновременно.
Если героя «Председателя чеки» Хлебников наградил чертами Христа и Нерона, то в образе Ленина он свёл воедино Христа и Антихриста. Дракон-вождь клянется не иконой, не Спасителем-конем, а мёртвой кониной или знамёнами, что алей коня, / Когда с него содрали кожу.
„Erit sicut cadaver” („будет подобен трупу”) — латинская крылатая цитата. “Послушание трупа” — это выражение восходит к высказыванию основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы. Формула, разумеется, определяла благородную и страстную любовь к Христу. Или у поздних последователей иезуитов и инквизиции — напряженную веру в идеалы коммунизма. Чему и посвящена моя юбилейная заметка.
Удивляться не приходится — поэты всегда пророки. Чуднó другое. Казалось бы, нет ни единой точки даже не соприкосновения, а сближения Хлебникова с Пастернаком. Происхождение, семейный статус, воспитание, научные и культурные интересы, мировоззрение — всё у них разное. Принадлежали одной эпохе с общим социальным и психологическим климатом? Ну и что, их современникам в литературе несть числа. Оказывается, при всех отличиях эти поэты исповедывали одну и ту же многозначность слова, тайную структурированность тропов. Результат — тщательная маскировка поэтического высказывания. Надеюсь, перекрёстный анализ текстов этих столь разных поэтов — неплохой способ раскрытия их шифров.17![]()
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 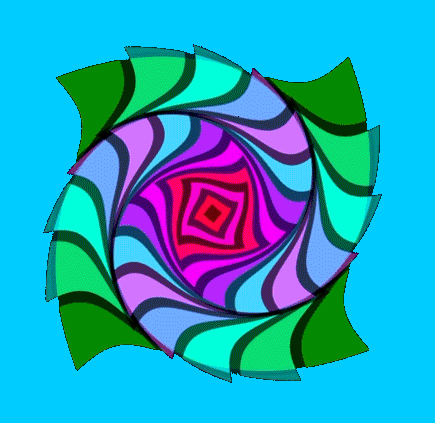 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||