


Когда Маяковский создавал свою поэтику,
то и необыкновенным словам, и составным рифмам он учился
в юмористической поэзии, а применял их в трагической.
М.Л. Гаспаров. Семён Кирсанов, знаменосец советского формализма
Как бес оголтелый нёсся
И трясся, как зал, на бис
Зовущий, — и мы тряслись —
Как бесы. Видал крупу
Под краном? И врозь, и вкупе —
Горох, говорю, в супу
Кипящем! Как зёрна в ступе,
Как вербный плясун — в спирту,
Как зубы в ознобном рту!
‹...›
Не за город тот дударь
Нас мчал — а за календарь.
Марина Цветаева Автобус
Пришла и позвонила Масленица, и, почувствовав ответственность новоиспеченного колумниста, я решила соразмерно внести вербальный вклад в почти языческое действо. «Лягушачьи лапки» подождут до дня торжественного вранья.
Окольными путями постепенно доберемся до хлебниковской поэмы о весеннем празднике Масленицы, имевшей много разных имен: «Карнавал», «Поэт», «Русалка», «Русалка и Поэт», «Весенние святки».
Но начнем издалека и следственным экспериментом выявим, что Хлебникову удавалось делать с юмористической поэзией.
В 1909 году в журнале «Сатирикон» (№ 46) Саша Чёрный опубликовал стихотворение, которое, несмотря на его повсеместную известность, всегда приятно вспомнить.
На это стихотворение Саши Чёрного в свое время обратил внимание С.Н. Толстой, но опосредованно связал его с хлебниковскими уничижительными высказываниями о курсистках в драме «Чертик» (1909):
Между тем Хлебников нисколько не нуждался в оправданиях, он несомненно был яростным противником женского образования (особенно медицинского), к тому же для своего отвращения имел сугубо личностную подоплеку. В 1913 году он написал лапидарную вариацию на тему «Городской сказки».
Не королевское это дело, не пристало красавице изучать что-то, да еще в анатомическом театре. В 1907—1908 годах в Казани Хлебников был безответно (что не редкость для поэта) влюблен в юную Варвару Дамперову, сестру своего гимназического приятеля Дмитрия. Через пятилетие они встретились, злопамятный и гордый поэт-футурист Велимир, оставаясь застенчивым путаником Виктором в быту, изложил в стихах свое брезгливое пренебрежение (с сатириконским привкусом). Бывшая пассия получила жестокую воспитательную выволочку. Так за весь свой век ничего не узнав ни о прежних, нанесенных ею обидах, ни тем более о стихотворной сатисфакции, благовоспитанная курсистка Варвара через много лет вспоминала о робком воздыхателе:
О других опусах Саши Чёрного, посвященных, в частности, Вербному торгу, нельзя с уверенностью сказать, что Хлебников заимствовал у них основной мотив, развивающий похождения игрушки, имевшей множество имен. По-видимому, у поэтов был общий увлекательный источник — выкрики рыночного зазывалы. Хлебников обошелся с торговой формулой изощренно, тщательно скрыв ее опознавательные знаки. Но и то сказать, последствия этого странного заимствования были куда значительней, чем рекламируемый, любимый всеми объект.
Саша Чёрный написал два стихотворения, посвященных праздничному базару, оба они называются «На Вербе». Первое опубликовано в «Сатириконе» (№ 13) в 1909 году:
С „животрепещущими докторами” комментаторы разобрались — считается, что так рекламировались пиявки. О самом Вербном торге написано еще немало и стихов, и ностальгических мемуаров. Любопытствующий читатель может ознакомиться с представительным сводом текстов и фотографий из архива Кинофотофонодокументов на замечательной странице ЖЖ.2![]()
![]()
Самой популярной игрушкой Вербы единогласно признан “американский житель”. Хотя почему его так зовут, сейчас уже никто не понимает (проверяла); но вдруг выяснилось, что, как ни странно, и в начале ХХ века для большинства потребителей и поклонников его имя тоже было загадкой. Но не для детей и поэтов.
Вот какие предположения по этому поводу высказаны в часто цитируемой книге знатоков-старожилов Д.А. Засосова и В.И. Пызина «Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов»:
Игрушка имела много названий — “американский житель”, “морской житель”, “чертик в пробирке”, “картезианский водолаз”, “демон Декарта”. Стоит взглянуть на краткое словарное описание ее устройства.
А теперь пришло время прочитать второе стихотворение Саши Чёрного о Вербной неделе 1912 года.
Чего уж греха таить, небольшая нестыковка с датами вышла у меня. Я остаюсь в убеждении, что стихотворение Саши Чёрного, написанное весной 1912 года, было и напечатано в этом же году в какой-нибудь невыявленной газете.
Авторитетные источники указывают на весенний альманах для детей «Вербочки» (1913) или на сборник Саши Чёрного «Тук-тук» (1913) как место первопечати. Буду ждать, может, и сыщется публикация 1912 года… Заподозренное в интертекстуальности стихотворение Хлебникова «Из песен гайдамаков» вошло в литографированный сборник «Мирсконца», появившийся в конце ноября 1912 года. При поверхностном взгляде никакими признаками ни Вербного торга, ни чертиков в колбе хлебниковский текст не располагает. Вот он.
 Читая детское стихотворение Саши Чёрного, мы наконец понимаем, откуда Декартов водолаз получил свое имя. Житель в склянке оттого “американский”, что ведет себя, как люди, находящиеся на противоположной стороне земного шара. Они — антиподы, иноземные, заморские. Некоторые наиболее ортодоксальные насельники нашей державы и сейчас убеждены, что только они живут, поступают и ходят правильно. А уж вредоносные недотепы-американцы, как циркачи, ходят на руках, клюют носом крупу. ‘Антиподы’ в буквальном переводе с греческого — противоположные, противостоящие ноги.
Читая детское стихотворение Саши Чёрного, мы наконец понимаем, откуда Декартов водолаз получил свое имя. Житель в склянке оттого “американский”, что ведет себя, как люди, находящиеся на противоположной стороне земного шара. Они — антиподы, иноземные, заморские. Некоторые наиболее ортодоксальные насельники нашей державы и сейчас убеждены, что только они живут, поступают и ходят правильно. А уж вредоносные недотепы-американцы, как циркачи, ходят на руках, клюют носом крупу. ‘Антиподы’ в буквальном переводе с греческого — противоположные, противостоящие ноги.
Стихотворение Хлебникова мало чем, кроме названия, соотносится с поэмой Великого Кобзаря «Гайдамаки». Зато все достоинства игрушки “американский житель” использованы с лихвой. Пана через плетень перебрасывают вверх, до горы ногами — горинож, его чеботы — заморские, американские. Черт живет в глубинах омута — Черторыя, оттуда же, как бес, выныривает пан. И тот и другой — водоплавающие (панов сплавляем | пан плывет). Еще неожиданнее произведен акт насилия над панночками — А дочери ходили по рукам. „Американский житель в склянке ходит на руках” — заново переосмыслив зазывальную формулу, Хлебников превращает ее в ходкую поговорку, почти что: „Пошла душа по рукам — у черта будет”. Финальная оппозиция парчи и рогожи переводит стихотворение из образчика историко-бытовой зарисовки в основной атрибут хлебниковской поэтики.
“Американский житель”, Чертик, проводит черту, по обе стороны которой выстраиваются самые привычные в хлебниковском мире пары противоположностей. Верх и низ, небо и вода, да и нет, плюс и минус, красные и белые, Смех и Горе, красота и мудрость и проч. Вот несколько примеров из тьмы наличествующих (к палиндромам сейчас не обращаемся).
Велимирово “Я” отражает не только самостояние личности, природу единичности поэта, оно избыточно привносит в словооборот восклицание ‘ай’ или букву ‘I’ — английское ‘Я’ и латинскую единицу, запросто преобразуя ее в кол. А уж кол свободно превращается в копье, которое так же вольно плавится в деньги (копье, копейки). Тут уж, как говорится, и так далее… За чертой, проведенной по линии воды, живут две поэтические −1 (минус единицы) — Русалка и Противоразин, Низарь. Разин топит княжну, а Хлебников мечтает ее спасти.
Несколько примеров из «Уструга Разина». Атаман возлежит на парче, а заговорщики настойчиво требуют, чтобы он утопил закопченную девчонку. И воистину “грошовыми” средствами Хлебников совершенно мимоходом создает одну из самых обаятельных своих строф (покатилась и взята на вооружение русской поэзией):
Требование кровожадных соратников исполнено, зазноба-княжна брошена в воду, попадает на дно, потом всплывает прямиком к донскому атаману в точности, как чертик вербной игрушки:
И это не произвольные домыслы, так как одновременно с ней на поверхность воды выныривает некто (тюлень), подобный черту, именуемому веселым дядько. Именно так плавал эксплуататор в хвастливой песне гайдамаков — Из хлябей вынырнет усатый пан моржом.
Последние строки поэмы «Уструг Разина» настойчиво напоминают о бесе, песнях и подвигах запорожцев, чей меч коротко-голубой / Боролся с чертом и судьбой.
Вот мы и добрались до карнавала, посвященного непосредственно Масленице. В весенних святках хлебниковской поэмы «Русалка и Поэт» буйствуют толпы ряженых, но под Водолеем, то есть фонтаном в словоупотреблении Велимира (потому он всегда двоится с созвездием), собрались трое: Поэт (“Я”), Русалка и Богородица. Чем не пушкинская сцена у фонтана? Но почему трое? Русалка — отражение Поэта, его двойник, вторая сущность, всплывающая со дна. Она чувствует себя одинокой и гонимой людьми, а потому, обращаясь к певцу, просит:
То, что возникло как вольная импровизация на тему вербной игрушки, вернулось в масленичную поэму. Плывущий по вертикали декартовых координат “американский житель” — антипод, дирижер противоположностей, он указывает стрелками-копьями то вниз, то вверх. Но может передвигаться и по горизонтали — направо или налево, как в перевертнях, например. Донная Русалка получает в попутчицы противостоящую ей жительницу звезд — Мадонну. Обе они изгнанницы и нищенки, обе Музы поэта:
Даже привлечение небесной покровительницы Девы Марии в комплектующую составляющую к Русалке-Музе структурно соответствует мольбе стонущего пана в песнях гайдамаков: Santa Maria! Польскую окраску в происходящее у фонтана действо привносит формула Позвольте кланяться. Хлебников уже использовал ее в поэме «Хаджи Тархан» (1913): Кричим гурьбой: „Падам до ног”, что и означает в переводе с польского „Честь имею кланяться”. Эхом низкого ‘кланяться’ в поэме звучит высокое клянемся. Конечно, в поэзии большинство слов повторно, потому рискнем, расширив диапазон языков, напомнить, что и высокие песни бывают у Хлебникова незаметно зависимы от движений столь часто мелькающих ног (лат. pes — нога).4![]()
Незадолго до кончины Хлебников вновь возвратился к продукции масленичного (или вербного) рынка в стихотворении мая—июня 1922 года:
Стихотворение приведено в некотором сокращении, чтобы не распылять внимания и оставаться только при знакомых и знаковых переворотах единицы-копья: I=Я=кол (гол) + колокол. Хлебников, сравнивая себя с надувательной игрушкой, примеряет в качестве одежды больше нравящийся ему объект уподобления — Колокол. Хоть так, хоть эдак — милое его сердцу надувательство и словесные кульбиты остаются при нем. Игрушка называется “уйди-уйди”. Вот одно из многочисленных ее описаний:
Комментарий к стихотворению «Не чертиком масленичным…» в последнем Собрании сочинений Хлебникова гласит: „Колокол Воли — в связи с журналом Герцена «Колокол»” (СС, 2, 588). Резонное замечание, но кроме герценовского журнала в стихотворении присутствует хитрый перенос значений, развивающий тему воли, за которую ратует поэт для голи, голяков, нищих. Он и сам оказывается в их числе, когда у него крадут одежду. Насмешники полностью реализуют действие сказки: „А Король-то Времени гол!” Но поэт защищается сообразно своим привычкам, разоблачая противников (буквально) и показывая, что они не умеют смотреть, им нужно лечиться, глотая пилюли песен.
Отверженные, нищие, к которым примыкает гонимый (уйди! уйди!) поэт, зовутся клошары (франц. — clochard). Колокол созвучен бродягам и обозначается по-французски словом ‘cloche’. К тому же Хлебников говорит не только о звучащей колокольной меди, но и о специфическом аппарате, связанном с дыханием, который тоже зовется ‘cloche’ — “колоколом”, “куполом” — и назначается при лечении легких и сердца. В современной кислородотерапии такой “колокол” привычней именуется “кислородной палаткой”. Состоит она из воздухонепроницаемого тента, закрывающего колпаком больного вместе с его постелью, холодильника-конденсатора (для снижения температуры и влажности воздуха) и кислородного редуктора, дозирующего подачу кислорода.
К Хлебникову гроб и похороны, по-видимому, попали из стихотворения Анненского, входящего в «Трилистник весенний», где “колокол” впрямую не назван, но построен текст на цепочке уже знакомых составляющих.
Встречаются две тайны — тающая весна и таинственный покойник. Происходят не только похороны-перенос, но и совершается обмен признаками у двух разлагающихся трупов. Нищая, облезлая Весна и печальный гроб с жутким мертвецом — дубликаты. Двусмысленность заявлена в первой же строке: „под гулы меди”. То ли похороны сопровождает духовой оркестр, то ли перенос творится под колокольный звон? Колокол-‘cloche’ заставляет подозревать, что покойника лечили пневматотерапией под воздушным “колоколом”, и его восковой нос и в смерти продолжает мечтать о дыхании в пустую уже грудь. Оба встретившихся на перекрестье путей двойника — и чёрная ипостась тающей Природы, и тяжко тлеющий незнакомец — бедняки и отверженные, клошары.
Путешествие затянулось, и чтоб не заканчивать на похоронной ноте, обратимся к еще одному стихотворению Анненского. Не за тем, что оно веселее, но все же действие происходит под гармошку (без колоколов). К тому же в нем еще явственнее заявлена тема “клошарности”. Следует добавить, что первое стихотворение («Чёрная весна») опубликовано в посмертном сборнике Анненского «Кипарисовый ларец» (1910) и было известно Хлебникову, а нижеследующего он не мог знать, оно напечатано только в 1923 году. Да это и не важно. Стихотворение «Гармонные вздохи» вошло в микроцикл «Песни с декорацией».
Песенная цепочка Анненского в значительной степени зависит от прозаического вступления-декорации, где обозначены четыре важных вещи — яблоки, оборванец, деревяшка вместо ноги и шалаш. Играет на гармони и поет хромой нищий („лих карман с дырой”). Он бывший матрос, списанный по инвалидности с «Громобоя», то есть раньше ему по форме полагались и бескозырка, и тельняшка, и брюки клеш (появились в российском флоте 1870—1890 годах). Его суженая, пока он плавал, загуляла, превратилась в нищенку и умерла. Он остался бродягой с медалью, гармошкой и разбитой жизнью. „Пропала наша душенька” относится к обоим — и к гармонисту, и к его „паве”. Вот те подспудные французские сцепления, что организуют наивное повествование ничего не ведающего о другом языке певца. Флотские брюки клеш названы так потому, что повторяли для удобства моряков форму колокола (‘cloche’). Клошар — это не только нищие-оборванцы, но и сорт столовых яблок (‘clochard’). Яблоки лежат на соломе под куполом (‘cloche’) шалаша и составляют постоянный припев песни (‘яблоня’ повторена шесть раз). Купол выныривает в песенном неологизме „куплись”, то есть купайся в реченьке. И наконец, глагол ‘clocher’ означает “хромать, ковылять” и шире — “что-то не ладится, что-то не так”: „Усохшая яблоня. Оборванец на деревяшке перебирает лады старой гармоники”. И все же это не волчий вой, а лихая и закатная песня, где „все единственно”.
Так что и Анненский, и Саша Чёрный, и Хлебников в своих стихах не шутя надеялись, что поэзия — лекарственный препарат многопрофильного использования. Она действует смешением неравных взвесей из слез и смеха, семафоров, запахов, звона бубенцов, сладких вафель и яблок… Микстуру иногда следует посыпать тонко натертой щепоткой юродивости. Последняя бывает необходима, чтобы верить в блаженное плацебо.
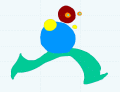
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 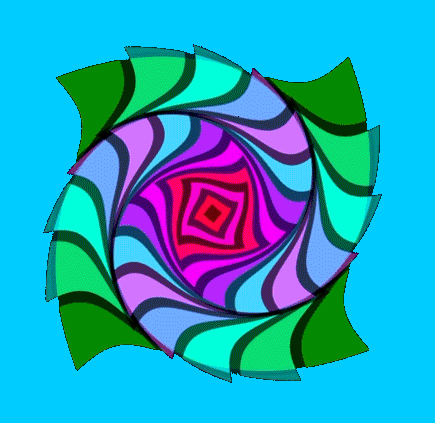 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||