




















Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеймив
Низостию двуединой
Золота и середины.
„Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань…”
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань
Площадную — попугаи.
— Пушкин? Очень испугали!
Марина Цветаева. Стихи к Пушкину. 1
Один как перст,
как в ступе зимнего пространства пест,
там стыл апостол перемены мест
спиной к отчизне и лицом к тому,
в чью так и не случилось бахрому
шагнуть ему.
Иосиф Бродский. Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе
Се, напоровшись на конский череп,
Песнь заказал Олег —
Пушкину. И — раскалясь в полёте —
В прабогатырских тьмах —
Неодолимые возгласы плоти:
Ох! — эх! — ах!
Марина Цветаева. Ёмче органа и звонче бубна…
Пока я фантазировала о вкусе будущего изделия любезного автора, на грядках нашего досуга вырос и окреп свежий заморский овощ — детективный сериал. Должна оговориться, что российскую продукцию я не усваиваю, а прилагательное ‘заморский’ охватывает всё Зарубежье, кроме южноамериканского материка, родины дорам и, разумеется, Индии.
Недавно британский сериал об инспекторе Морсе порадовал меня в очередной раз. Имя оксфордского детектива, персонажа романов Колина Декстера, — тайна. Морс его скрывает и шутит, что ‘Инспектор’ и есть его имя. И впрямь, зовут его странно — Endeavour , что означает ‘Стремление’, и назван он в честь одноименного корабля (ещё не космического). Двенадцать сезонов (1987–2000) этой ленты заслуженно получили мировое признание. Юбилею, 25-летию начала съемок сериала, англичане посвятили приквел ‘Endeavour’ (нынче демонстрируется два сезона), события которого также разворачиваются в Оксфорде.
Смотрю второй сезон, эпизод четвёртый, под названием «Neverland». В начале, служащем условным эпиграфом к действию, неизвестный преподаватель читает в немногочисленной аудитории лекцию (расшифровку голоса переводчика привожу дословно, без нивелировки шероховатостей):
Теперь пусть каждый читатель проверит, подействовали ли на него слова о “Гибельном месте”, сработал ли в его мозгу некий коммутатор, замкнувший цепь ассоциаций. Как принято писать в журналистике и любовных романах, я мысленно подпрыгнула. Гораздо позже в голове раздались голоса каких-нибудь Фаин Гринберг (или, ещё лучше, Леонидов Фридовичей): „Мы это всегда знали”. Дмитрия Быкова не было слышно.
Вот две развернутые цитаты из книги Томаса Мэлори «Смерть Артура»1![]()
Конечно, я услышала намёк, а вдогон различила в воздухе очертания загадочной „вакансии поэта”, того гибельного места за столом „великого совета”, которое опасно, если занято кем-нибудь. В 1931 году Пастернак написал стихотворение, у которого в разное время сменялись названия-обращения. Оно именовалось то «Борису Пильняку», то просто «Другу». Как часто происходит с таинственными текстами, читали его кто во что горазд. Предлагаю и своё прочтение, которому так не хватало подсказки из сериала.
Основная часть стихотворения состоит как бы из четырёх вопросов, где только первый предполагает твёрдый ответ. „Да, знаю, найти свет хирургическими методами было необходимо, пелену потёмок следовало прорвать”.
Неизвестно, так ли уж твёрдо можно произнести “нет”, ведь вопрос поставлен так, что ожидания равноправны, и вполне предполагается “достоевское” признание: „да, я урод, слезинка ребёнка мне дороже счастья сотен тысяч…”
Пятилетка, конечно достойное мерило, помогает и падать, и вставать, и рваться к достижениям. И, как ни странно, она именно та “люстра”, что противоборствует тьме, источая свет: ‘пятилетие’ на латыни — lustrum.
Но следующий вопрос уже не измерительного свойства. Пастернак как-то сказал, что вещи могут срывать маски, терять власть, падать и ронять честь — „когда у них есть петь причина”.2![]()
Колебательный статус пастернаковских строк исходно обращён к такому другу-современнику, кто держит в уме знаменитый первоисточник. Тютчев в самом начале 1830-х годов в стихотворении «Цицерон» писал:
Через сто лет „великий совет” пастернаковского стихотворения органично воспринимался отсылкой к устройству СССР с его Верховным Советом, но, конечно, имел в своем первоначальном значении, тот Совет, о котором говорил Тютчев. Совет, который есть замена света, могущего прорвать потёмки Рима, куда допущен счастливый избранник, — Consentes dii. Это высший совет Юпитера, где присутствуют двенадцать богов, поддерживающих существующий миропорядок. Тютчева, к счастью, судьба миловала, он так и не стал политическим и идеологическим советником царя, не занял Гибельного места за круглым столом империи.
Для одного и того же текста возможно и противоположное толкование. Не так давно мне на глаза попалось таковое. Обидно, что дал его человек думающий, литератор и доктор физико-математических наук, специалист по физике твёрдого тела В.М. Финкель. В 2006 году он опубликовал статью «Борис Пастернак. Трагедия великого поэта», полную надменных порицаний, где, в частности, писал о „вакансии поэта”:
Привожу эту диатрибу не только для полноты состава, но чтобы ещё раз вернуться к хвале сериальности. Артурианский корпус, перенесённый Пастернаком в политические владения России, расширяет понятие „вакансии поэта”, чье предначертание — необитаемость. Великие поэты России, от Пушкина до Маяковского, были мистически обречены на смерть царственным вниманием, приглашавшим их занять Погибельное седалище и награждавшим их венком первенства.4![]()
Мог ли поэт, суеверно убежденный в существовании смертоносного “первого” места, поддержать телефонный разговор с Властителем о „мастере” Мандельштаме?
Но вернёмся к основной теме, от которой я сильно уклонилась, увлекшись оксфордскими следственными намёками и открытиями.
Я тоже стремлюсь к сериальной структуре, темой которой станет детективный сюжет, строящийся вокруг бытования первого поэта — Пушкина — в поэзии ХХ века. Разумеется, привлеку к ответу только те тексты, где имя поэта тщательно закамуфлировано.
Эссей был задуман как камень на распутье, от которого расходились бы статьи-дороги, или как карабасова плётка-семихвостка, но для первой публикации статьи-хвосты пришлось отсечь. Анненский остался в одиночестве,5![]()
Мне уже доводилось обращаться к упомянутому сериалу об инспекторе Морсе за поддержкой. Дело в том, что читателей и исследователей, возможно, и безотчётно, подкупает, помимо знаний и весомости аргументаций, реноме пишущего, в частности регалии профессора, академика, доктора наук. Юного Индевора Морса, выпускника Оксфорда, стоящего перед выбором профессии, знаток-комиссар экстравагантно перетягивает на свою сторону, бросая мимоходом: „Академиков много, а детективы редкость”. Эту фразу я взяла рудиментным девизом для своих подкопов. Как свидетельствовали дальнейшие кинособытия, именно креслам детективов грозила опасность, для чего и был привлечен круглый стол короля Артура в качестве своеобразного мотто.
Поначалу я храбро поставила своим эпиграфом настойчиво стучавшиеся в расследование строки Боратынского „Ты сладострастней, ты телесней / Живых, блистательная тень!”, но, вспомнив об Ахматовой, потихоньку перетащила их в затравку текста. Сразу оговорюсь, что из всех многочисленных толкований загадки Боратынского наиболее привлекательной мне показалась Сафо как адресат послания. И всё же этот стихотворный сфинкс, вероятно, таковым и был задуман — гадать вам, потомки, не перегадать. Дальше речь пойдет о сходной методе — об укладках с двойным дном, лукавых способах и приёмах вуалирования Пушкина в русской поэзии, об исключительном многообразии и изворотливости этих пряток и утаек. И разумеется, о поиске разгадок и ответов.
Начнем с Анненского. Стихотворение «Другому» было впервые опубликовано в 1910 году в посмертном сборнике «Кипарисовый ларец». Вошло в раздел «Складни», где в отличие от «Трилистников», собраны тексты с подчеркнутой двойственностью: «Он и Я»; «Другому»; «Два паруса лодки одной»; «Две любви».
Современники поэта своими догадками и соображениями об этом „другом” не делились. Возможно, для них адресат был прозрачно ясен или, напротив, предполагалось, что нет надобности искать: под маской — звёздно, повесть — чья-то, „другой” — дистанцированное второе “я”, идеал и объект полемики. Затем А.В. Федоров осторожно обмолвился в 1990 году в комментированном издании поэзии Иннокентия Анненского в «Библиотеке поэта», что, возможно, имелся в виду Константин Бальмонт.
С тех пор набирает силу хор несогласных, звучащий на редкость слаженно и единодушно. Все дружно голосуют за единственного кандидата — поэта Вячеслава Иванова. В его пользу высказываются исследователи (И.В. Корецкая, Катриона Келли, А.В. Лавров и др.), поэты (А. Кушнер, А. Пурин) и наиболее заинтересованные читатели. Отношения поэтов, переписка и статьи, поэтические посвящения, идейно-стилистическая полемика и общность интересов — всё подвергается зоркому изучению. Порой слишком пристальному. Например, А. Пурину принадлежат наблюдения, проходящие по ведомству юнговых архетипов и далеко выплескивающиеся за границы анализа поэтики. Тема “двойничества” Анненского и Вяч. Иванова приобретает окраску психотерапевтическую:
В 1996 году метания и сомнения публики авторитетно остановил А.В. Лавров. (Теперь принято, не вдаваясь в подробности, кратко ссылаться: „…как убедительно показал А.В. Лавров…”) Его статья называется «Вячеслав Иванов — “Другой” в стихотворении И.Ф. Анненского», и в ней перечисляются аргументы предшественников и новые соображения автора. Приведу с купюрами несколько центральных абзацев этой статьи. Лавров суммирует:
Попробую возразить. Во-первых, сразу назову своего “кандидата” в герои стихотворения «Другому» — это Пушкин, и только Пушкин. Во-вторых, покажу, почему в этом тексте его никак не может подменить Вяч. Иванов. В-третьих, предъявлю свою, “пушкинскую”, аргументацию.
Как ни странно, начну с доводов биографических, процитировав Владимира Гитина, одного из самых сведущих современных анненсковедов: Анненский „с Вячеславом же Ивановым познакомился лишь в год смерти, в 1909 году. Вообще дружба Анненского с Вяч. Ивановым является плодом какого-то недоразумения или позднейшей “домашней” легенды”. И далее исследователь уточняет: „Познакомил их С. Маковский, и первая встреча произошла 22 мая 1909 года”.8![]()
Этим же временем — маем 1909 года — А.В. Лавров датирует и стихотворение «Другому». Допустим, что Анненский „полюбил безумный порыв” коллеги без дружбы и знакомства, только изучая его стихи (при написании своей, довольно язвительной статьи, заметим). Но „другой” стихотворения Анненского — предмет давних и постоянных раздумий, тот, с чьей поэзией живут „и гостят и грустят”, тот, кого на всю жизнь полюбили, и узнали, и поняли.
Всех привлекает „менада”, как безусловная отметина Вяч. Иванова. Одна исследовательница даже признается в убедительной самодостаточности для неё этого единственного аргумента: „На наш взгляд, достаточно уже одной менады и намека на “чёткость” своей фразы в противовес “туманности” „другого” (что отражает суть критики Анненского в отношении Иванова), чтобы определить адресата наверняка”.9![]()
Вот и обратимся к высказыванию Анненского об этой пресловутой дионисийской спутнице в исполнении Вяч. Иванова. В статье «О современном лиризме», которую Анненский писал летом-осенью все того же 1909 года, сказано:
Прочитав обзорную статью в «Аполлоне», Вячеслав Иванович обиделся. И его можно понять, потому что одной менадой Анненский не ограничился. Конечно, критик отметил „обычное мастерство поэта, стяжавшего себе известность великолепием своих вакхических изображений”. Но далее следовали такие инвективы, что Анненский был, по-видимому, прощён потому только, что вскорости умер. Вот выборочно ещё пара цитат из статьи «О современном лиризме»:
Казалось бы, при таких оценках (с которыми и сейчас согласятся даже ярые почитатели Вяч. Иванова) о каком-таком „безумном порыве” или „огне” как чувственных клеймах “педантичной” поэзии „нашего дискобола” может идти речь? Да, “дионисийские” вдохновения питали поэзию Иванова, да, это его тематика и образность — и вакханки, и огонь, и „пагуба сражений”, и „лобызания меча”, и „зевные жала”, и „хмели молний”, и ещё много чего подобного. Но сами-то стихи от этого архаического скарба вовсе не становились „испепеляющими”.
Теперь о том, что осталось, по мнению А.В. Лаврова, „вне поля зрения интерпретаторов стихотворения”. О сущей мелочи: „Зато нигде мой строгий карандаш / Не уступал своих созвучий точкам”. Речь ведь идёт не о потустороннем “эквиваленте текста”, как у Вяч. Иванова, означившего точками бессилие, скорбь и отчаяние последней разлуки. Анненский говорит всего лишь о своей стыдливости и пуризме, противостоящих фривольному перу „другого”, из цензурных соображений и приличий прибегающего к “прозрачным” отточиям. „И бог ты там, где я лишь моралист”. Строгий карандаш и легкомысленное перо, чопорность и жовиальность, целомудрие и ненасытное темпераментное негритянство — список антонимов можно умножать беспредельно. Из прижизненной публикации серьезнейшей «Телеги жизни» Пушкина, где не только „время гонит лошадей”, но ещё и другие созвучия, уступившие место точкам:
Всяк, особо не напрягаясь, может извлечь из памяти многочисленные эвфемизмы пушкинских шутливых точек. К тому же сам Анненский во всех иных случаях — печальных, загадочных, ритмических — многозначительные отточия любил и даже злоупотреблял этим знаком препинания…
И ещё один аргумент А.В. Лаврова, по его мнению, доказывающий, что „Другой” в сознании Анненского ассоциировался непосредственно с Вяч. Ивановым, — стихотворные экспромты поэта «Мифотворцу на башню». Написаны оба шутливых обращения тоже летом 1909 года с разрывом в месяц и в окончательном виде выглядят так:
Все согласятся, — слово ‘другой’ занимает центральное место в этих мифотворениях. Действительно, бытовые подробности не совсем ясны и вряд ли мы их когда-нибудь узнаем (так прокомментировано в «Библиотеке поэта»). Что не столь важно. А вдруг Анненский нанёс ответный визит Вяч. Иванову и застал в доме ремонт, а хозяина спящим, — возможно и такое. Шутка имеет другую подоплёку, вполне выявляемые языковые игры. “Мат” демонстрирует цветовой окрас игрового поля шахматной доски: первый текст белый, второй — чёрный. В первом некий портрет (или маска) — забрызган чем-то белым, именно это изображение, прикрытое газетами и есть — другой Жилец, сосед (подмена скрытого хозяина — „где ты?”). А смысл игры в том, что этот другой — слеп и сед, то есть стар. Перемежаются и вращаются несколько языковых пластов, причем осью вращения и является непременное слово ‘другой’ (alter — лат.). Затем следуют седина и „старость” (alter — немец.); „высоко” и одновременно „глубоко” — (alte — лат.). Башня — высоко, потому „сверху шёпот”, „яма” — глубоко, в нее насыпан уголь. Даже сама мена знаков несет альтернативность. В стихах поступательно и настойчиво происходит смена декораций: белое переходит в чёрное; высокое („башня”) — в низкое, глубокое („яма”); „розовая полоса” перекрашивается в нечто белесое или черно-асфальтовое.
‘Изменяться’ — это alterare (лат.), alter (англ.).
Не менее настойчивое слово „сед” имеет свой круговорот. И он начинается с названия, которое имело варианты («Мифотворцу — на башню» или «На башне летом»). ‘Sedes’ в латыни — местожительство, нахождение, положение, пребывание. Приблизительно так: уж коли Ты обитаешь на башне, то Твой сосед — сед. Но ещё есть и знакомые нам седативные лекарственные препараты, которые предназначены тоже латынью (sedatus — спокойный) для того, чтобы утихать, успокаивать, усмирять. Что и сделано в анненских “экспромтах”: «Но, ослабев, чуть шепчут…»; «А сверху шепот: „Тише — спит Он”».
Русское ‘слеп’ (незряч) поддержано маской-‘слепком’ и переходит в английское ‘sleep’ — спать, засыпать („Тише — спит Он”), что созвучно „насыпать” („Июль углей насыпал в яме”).
Самое наглядное доказательство языковой игры заложено в… асф-альте.
Ведь ровно тогда же, одновременно с „мифотворениями”, написано печальное и знаменитое стихотворение «Дождик» (29 июня 1909) — о превращениях, Овидиевых метаморфозах. В данный момент анализировать его подробно нет возможности, приводим только финал:
На асфальтовый город брызнул дождь, и его сетка находит странных двойников, разбивает всех на невероятные пары, изменяет все знаки на противоположные, венчает силу со слабостью: лазурь с ямой, молчание с наглым стуком, слёзы с радугой. Высокий ‘альт’ в дважды повторенном низком ‘асфальте’ опять выдаёт превращения и изменения, которые руководствуются другими смыслами слова ‘alter’. Ничто не уходит в древность (нем. Alter — старина, древность, век человечества), Овидиев век метаморфоз ещё не изжит, сердце не стареет, в кокетливом майском дожде уже кроется дрёма осеннего возраста, но и наоборот — седой калека верит в возможность счастья.
Для вящего убеждения тех, кто сомневается и колеблется, высказывается анненский профессиональный маркетолог-зазывала, запускающий в высь «Шарики детские»:
Конечно, спектральные словесные близнецы и пары в поэзии Анненского гораздо многочисленнее и вариативнее, чем мы показали.12![]()
А теперь о Пушкине.
В отличие от Вяч. Иванова, ни менад, ни Диониса «Словарь языка Пушкина» не содержит, вакхического же — преизбыток. Тут и „вакхальны припевы” на многочисленных пирах, и исступленные безумства „вакханки молодой”, и Вакхова влага вперемешку с мудрой беседой, и наконец, сама Муза, приглашенная „на шум пиров и буйных споров”: „Она несла свои дары / И как Вакханочка резвилась”.
Всё же, презрев приличия, начнем опять с доводов биографических. Анненский — царскосел, и, как большинство русских поэтов, он пушкиноцентричен, да к тому же имел тайную легенду о кровном родстве с Пушкиным (якобы его мать была из рода Ганнибалов). Намеренное отсутствие имени, его знаковая прикровенность — поэтический приём, изначально закрепленный в псевдониме Ник. Т–О.
Вот и в стихах имя Пушкина поэт впрямую целомудренно называет только раз (и то в тексте “на случай” — в послании к «Л.И. Микулич»), в статьях, конечно, — неоднократно. Позже попытаемся найти последователей тем стихам Анненского, в которых Пушкин неназванной тенью, “вифлеемской звездой” ведёт нас в полный небылиц старый сад поэтических вдохновений. Классический пример, когда одну тайну приходится разгадывать при помощи другой. Что бывает наиболее продуктивно при отсутствии достоверных прямых обращений.
А сейчас обратимся к тексту с несомненным адресатом-Пушкиным — это написанная Анненским и опубликованная в «Тихих песнях» кантата. Собственно, имя здесь тоже не названо, потому 15 мая 1919 года В. Кривичу пришлось для Пушкинского Дома удостоверять автограф Анненского «Свидетельством»: Кантата ‹...› написана о Пушкине в связи со 100-летним юбилеем его рождения (1899). Место написания — Царское Село. Была написана не для конкурса, и на конкурс автором не представлялась.13![]()
Итак, 3 апреля 1899 года Анненский датировал свое юбилейное послание Пушкину — Вожатому, путеводной Звезде, а ещё через десять лет (в мае 1909) обратился к нему, как бы подытоживая свой поэтический путь. С десятилетним разрывом поэт вновь адресуется к тени Пушкина, цитируя пушкинские строки из стихотворения «Заклинание»:
И всё же вернемся к профетизму «Другого», к той неувязке, что содержится в предсказаниях судьбы. Иначе как пророчеством не назовешь эти строки о годах, месяцах, или даже днях, ведущих к смерти, до того мига, когда доведётся сойти с дороги (30 ноября 1909): „Ты — в лепестках душистого венца, / Я просто так, задвинутый на дроги”.15![]()
Думается, что вместе с каждым поэтом уходит и его личный, вещий Пушкин. Да и сам Пушкин назвал эту дорогу всего лишь тропой: „Ты памятник оставишь по себе, / Незыблемый, хоть сладостно-воздушный...” («Другому») . Казалось, что может быть прозрачней иносказания, чем этот воздвигнутый поэзией «Другого» нерукотворный монумент? Но это так просто, так доступно, и намёк отвергнут заодно с “бритвой Оккама”… Оказывается, слишком явная аллюзия, неминуемо меняя знак при смене адресата, воспринимается как пародия (или даже издёвка). Вот что на товарищеском суде истории предъявляется Анненскому нашим современником поэтом:
Из кантаты в стихотворение «Другому» перенесена ещё одна деталь — покрывало. Перед смертью, наступившей после трёхдневных мук, Пушкина в бреду навещает томительный призрак Музы под чёрным вуалем донны Анны. Недостижимые мечты „другого” поэта — порывистые менады и бурный вихрь их волнистых кос. Им противостоит призрак Андромахи, чья строгая высокая прическа (эшафодаж) покрыта платком. Русские менады-вакханки (не обученные по-гречески) — пушкинские музы, но и Андромаха пришла не из Гомера или Еврипида, а вовсе из Расина — в пушкинском изводе.
Стихотворение «Андрей Шенье» Пушкин начинает с обращения к “другому”:
Пушкинский обречённый поэт восклицает: „Я скоро весь умру. Но тень мою любя, / Храните рукопись, о други, для себя!” Собственно, Анненский, высказывая надежду на будущую жизнь своей Музы, следует предначертанному Пушкиным завету:
И опять торжественный убор „моей мечты”, как у Андромахи — эшафодаж.18![]()
На этом считаем аргументацию и поиск адресата завершёнными: в стихотворении «Другому» Анненский обращался к Пушкину.
А теперь перейдем от высокого к низкому, от кантаты и „складней” к анекдоту и пастишу. От Анненского к Хлебникову, где всего-то и общего — камуфляж объекта (что всё же немало для преданного выученика).
Не буду цитировать открытое письмо Петра Митурича Владимиру Маяковскому, которое растиражировано многократно. В конце этого пасквиля Митурич перечисляет якобы “скраденные” поэтом произведения Велимира. Нынешнее “велимироведение” признает, что почти все пропажи были постепенно обнаружены, кроме трёх пунктов списка, среди которых № 2 — «Памятник Пушкина (поэма)».20![]()
Тут я всегда вспоминаю если не Эдгара По с его знаменитым пропавшим письмом, то детскую потешку о варежке: „Ищешь-ищешь, и найдешь. / Здравствуй, пальчик, как живешь?”
Предлагаю промыть глаза, надеть очки и посмотреть предвзято на хлебниковский черновик, носящий игривое название «Олег Трупов», углядев в нём тот самый долго разыскиваемый текст о «Памятнике Пушкина». В конце концов, должно же было что-то затмить Давида Бурлюка, сравнившего памятник с беременным мужчиной?21![]()
Хотя сначала неплохо взглянуть на пару текстов (вообще-то их гораздо больше), где Велимир демонстрирует пристальное внимание именно к опекушинскому монументу. К тому, за которым у москвичей закрепилось амикошонское прозвище — Пампушка на Твербуле.
В прозе, условно именуемой «Ка-2»,22![]()
Какие-то незнакомцы без удивления сообщают поэту о двойничестве, иронически подставляя живого Велимира на место вежливой статуи, якобы снявшей шляпу в знак приветствия. Хлебников снисходительно не возражает против роли суррогата, находя общность с Пушкиным в цеховой принадлежности и профессиональном мастерстве (мы оба чертили червячков этих писем). Будучи осведомленным в металловедении, Велимир настойчиво приписывает изваянию чугунную отливку (вместо бронзы). А всё оттого, что так сподручней совершать переход от Пушкина к пушкам (бронзовые пушки уже стали допотопными орудиями).
Соревнование с живым Пушкиным действенно распространяется и на его изваяние. К концу жизни Хлебников не скрывает состязательных намерений, письменно заявляя: Я и арапа перецарапаю. Под нужным углом рассматриваются и ранние тексты. Червячки писем свидетельствуют о том, что оба поэта — одновременно и крылышкующие золотописьмом кузнечики, и тарапиньпинькающие зинзиверы, недаром в их глазах-зинах сидит не только Разин, но и арап.
В черновой рукописи ‹Три Веры› Велимир сперва утвердил, а затем всё же вычеркнул откровенную убеждённость в будущем признании, о том времени, когда на Тверском против Пушкина мне поставят памятник.
Памятник Пушкину как родич описан и в военном стихотворении 1914 или 1915 года. Двойственность начинается с названия — «Тверской». То ли это обращение к улице, то ли обозначение бульвара? Название содержит и общих червячков (vers), и совокупную принадлежность к поэзии (vers).
Теперь памятник наделён новым материалом, на поэта накинут свинцовый плащ, что игриво выявляет неназванное снаряжение Пушкина — лавровый венок.23![]()
Как всегда, при чтении желательны специфическая зоркость и чуткость к подвохам, внимательность, которой не хватило Барышне Смерти, потерявшей от волнения голову. Глаза существуют в трёх видах: зенки, окунул и лёд (ice и eyes).
Умолчание, пауза, тире скрываются в умолкнул | вытереть о косы | втянул.24![]()
Трупы в этой системе неожиданно отсылают к птичьим стаям (немецкий глагол truppen — собираться стаями), что позже не исключит и театральных трупп.
И всё же самым значительным словом тут выступает дважды повторенное несём. Эта ноша рифмуется с ножом, и приближается к бурлючьей беременности. Но то, что у Давида вызвано зрительным восприятием памятника, где у фигуры живот подчёркнут слишком крупными складками сюртука, то у Велимира обосновано логической цепочкой слов, выведенных из фамилии поэта. Пушкин — пушка — залп как роды — беременность — бремя — ноша.25![]()
В «Ка-2» Хлебников вспоминает прощание с братом Александром в Москве, когда тот завершал стажировку в военном заведении весной 1916 года:
Школа была артиллерийской, оттого и странное наименование в обход иностранного слова — войска рождения. Три пишем, два в уме, и вот оно перед нами — очередное мощное совпадение. И таится оно в слове ноша, можно сказать, что слово это беременно двусмысленностью: по-французски ‘бремя, ноша’ — charge; одновременно оно означает — шарж, преувеличение.
И уж поскольку самое незаметное пребывание ноши спрятано в излюбленных Велимиром юношах, то в тексте о гибели молодёжи на полях войны проступают черты саркастического шаржа. Повторю26![]()
Шаржированию подвергнут самый торжественный момент жизни Христа — Тайная Вечеря. Хлебников снижает реалии высокого действа до бытового ужина с беседой и перечислением продуктов питания, но результат превосходит ожидания, и стихотворение становится яростным антивоенным манифестом. Текст закольцован: начинаясь поеданием волком жертвы, он завершается дружеским застольем.
В латыни ‘тайная вечеря’ зовется Сena, (в хлебниковской вольной транскрипции — ‘ценá’). Предметом оптовой торговли народов, ведущих войну, становится молодое поколение (Продетый кольцом за колени), продолжатели рода. Курсы акций повышаются, воины дешевеют. Это ноша и бремя юношей и их матерей: Там скажет мать: „Дала сынов я”. Герольдом, оповещающим о горах трупов, становится разносчик птиц (английское troop — стая птиц и войско).
Наименование зверя, поедающего своих лучших детей, у Хлебникова (и Мандельштама) одинаковое — ‘волк’, ‘Volk’, народ, не берегущий свое наследие. Это чернь, пусть и представляют её верховные правители — маразматически-мудрые старцы. В каждом погребённом, дешёвом брянском юноше страна теряет образ Христа. Человек как пятая стихия и квинтэссенция становится дешевле остальных четырёх: Дешевле земли, бочки воды и телеги углей...
Хлебников вслед за Анненским пишет вариации на тему “Я и Другой”. Благодаря свойствам его дара, он шутит, подражает, шаржирует и пародирует, и, как нам давно известно, — никто при этом не смеётся. Объекты шаржирования и впрямь велики: Гомер (Юноша Ямир — о себе); Пушкин (Я — Памятник, Колосс, Каменный гость, 13-й гость); Христос (Я — Свет и Звезда, Спаситель-Конь, Конунг-Король) и т.д.
Памятник Пушкину, по Хлебникову, — это труп, шарж на живого поэта. И Велимир, склонный к сатирам и зубоскальству, доводит издёвку до логического конца и пишет гротескную поэму «Олег Трупов» (или «Памятник Пушкину»). Почему вдруг Пушкин назван Труповым — это и без объяснений ясно: Велимир повсеместно так его именует. Да и подменный Олег оправдан несколькими толкованиями: 1) пушкинский Вещий Олег и Алеко; 2) Александр по-украински Олек(сандр). У Хлебникова Олег Трупов имеет еще более закамуфлированное прозвище — Глеб Убийцын.
Собственно памятнику, или его шаржированному дубликату, посвящено начало поэмы. Причём двойничество здесь проявлено ещё более изрядно, чем в коротких стихах, почти в арифметической прогрессии, соответствуя величине и подробностям текста. Можно отчётливо понять, что сам Пушкин надевает на голову памятника бриль-шляпу, которая мокра и с прозеленью, возможно, оттого, что медная. При описании нрава крутой личности, персонажи как бы играют в прятки, обмениваясь масками. Лютый и чёрный, как вакса, арап становится нежным любовником в цветочном венке: Где вы лишь блещущий сапог — / Он одуванчиков венок.
Далее Хлебников переходит к перечислению иных трупов, среди которых труп Гапона и некий знакомый самоубийца. Потом следуют воспоминания о собственных влюбленностях, всё дальше уводящие от пушкинской темы, лишь изредка пробивающейся смехом (Он долго, долго хохотал, / Как будто Пушкина читал). Видения сменяют друг друга, некоторые “призраки” названы (Борис Пронин в «Привале комедиантов», Маяковский и «Облако в штанах»), иные прозрачно зашифрованы (например, Михаил Кузмин: Изящный вечер. Пел Эн-ин / С восточной сладостью напева).
Приведу обширную цитату из начала поэмы, опустив не менее внушительные “лирические отступления”.
Превыше всего меня заинтересовала настойчиво повторяющаяся в связи с Пушкиным тема носящегося в воздухе поэта. В «Тверской» — Несём к губам, схватив полётом. В «Олеге Трупове» — Виёт над пропастью намеки. И даже дуэль Онегина и Ленского с вихрем почтительности (почти что чту мечту) описана с птичьей тягой (Сейчас орлицей на лету / Схвачу я озеро Онега). Эти виражи можно было бы списать по разряду поэтических выкрутасов, если бы они не стали важным звеном для разгадок иных хлебниковских текстов, о которых намерена говорить позже. А сейчас привычным жестом обратимся к сарказму Бродского и получим ответ на аэропланные шутки Велимира.
О поэте в фарсовой поэме Бродского «Представление» сказано: „Входит Пушкин в лётном шлёме, в тонких пальцах — папироса...”
Общими усилиями знатоков разгадка была найдена. Вот одна из вариаций анекдота, на который ссылаются все комментаторы: „Чапаев интересуется книгой, что мусолит Петька: „Что читаешь?” — „Про летчика, под названием «Ас Пушкин»” — „Кто написал?” — „Какой-то еврей — Учпедгиз””.
Что дозволено быку, то положено и Юпитеру: и у Бродского и у Хлебникова поэт А.С. Пушкин — туз, главный специалист, пилот высшего класса. Название для мастеров воздушного боя — ас — появилось в Первую мировую войну для летчиков, сбивших не менее пяти аэропланов противника, что часто отмечалось тузами (франц. as) на фюзеляже летательного аппарата.27![]()
О крылатых свойствах Пушкина и других скарабеев — продолжение следует.
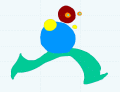
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 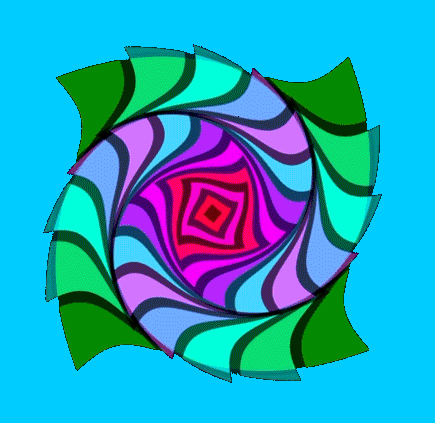 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||