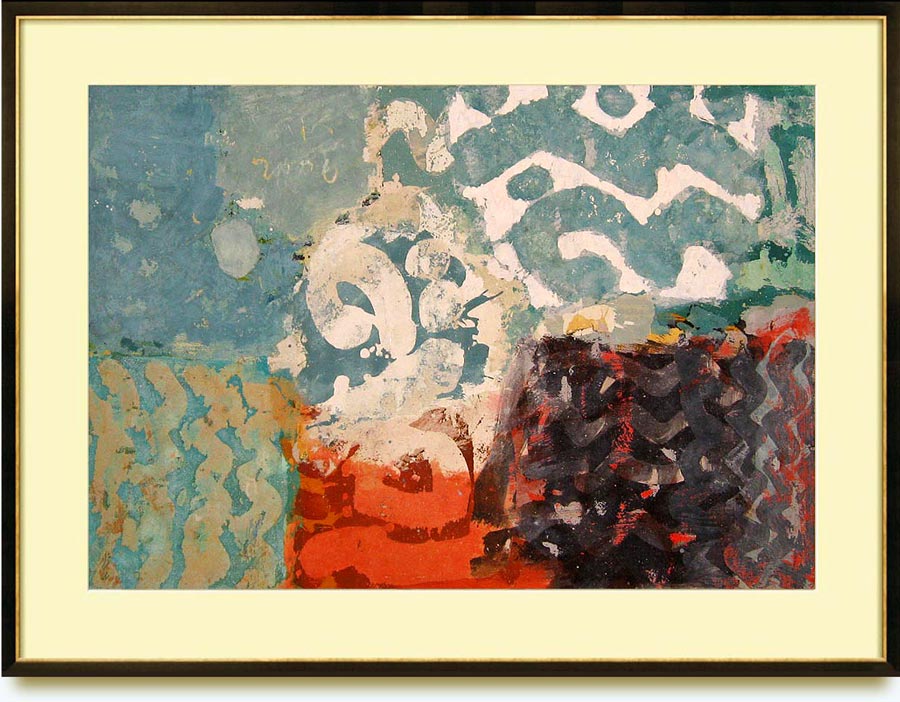
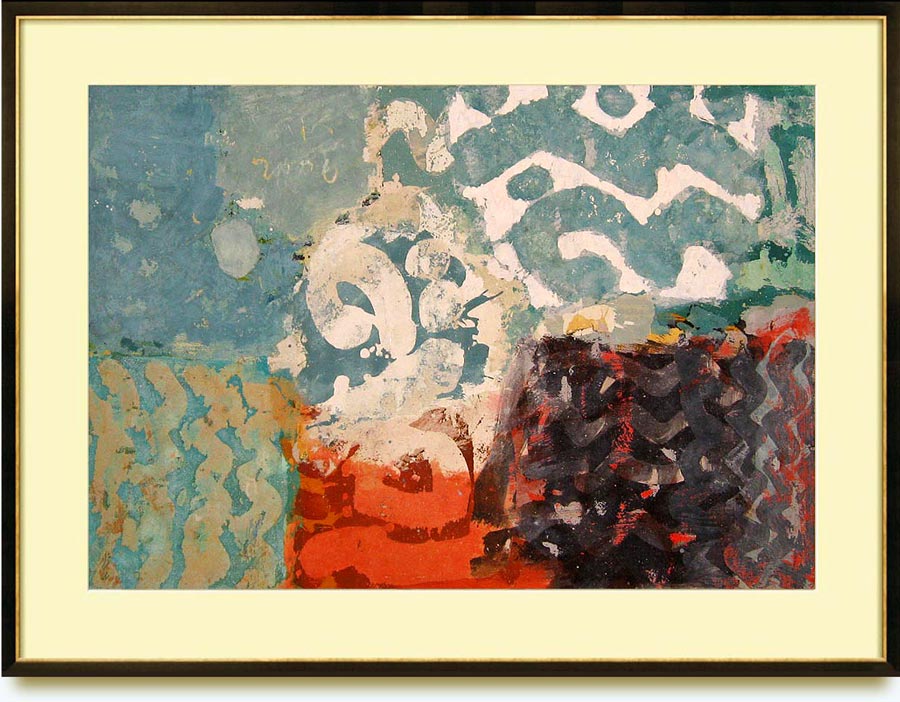





Анекдот щекочет усиками из каждой щели, совсем как у Хлебникова.
Осип Мандельштам. Литературная Москва
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?
И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить…
Борис Пастернак. Мельницы
Три стихотворения в 1921 году Хлебников посвятил жестокой расправе красных ратников с мужицким мятежом в Тамбовской губернии. Не выдержав непосильной продразверстки, налагаемой большевистским правительством Ленина, в августе 1920 года крестьяне взбунтовались. Восстание возглавил опытный лидер, эсер Александр Антонов, по имени которого мятеж стал впредь именоваться “антоновщиной”. На подавление бунта были брошены регулярные войска Красной Армии во главе с М. Тухачевским. Расправа была зверской — сжигались целые села, расстреливали заложников из семей повстанцев, казнили женщин и детей. Бунтари в долгу не оставались. И только к осени 1921 года восстание было подавлено. Летом 1921 года войсками было неоднократно использовано химическое оружие уничтожения — гранаты и снаряды с удушающим газом. Они не щадили ни повстанцев, ни мирных селян.
Весной 1922 года (а точнее — 28 февраля) одно из стихотворений об окаянной бойне Хлебников попытался опубликовать на пользу голодающих, успехом этот порыв не увенчался. Текст был впервые напечатан в III томе Собрания произведений (1931), и сельский сад ада в нем описан с бытовыми деталями:
Существуют еще два текста, написанные Хлебниковым на ту же тему и в ту же пору, впервые они были опубликованы по рукописи (РГАЛИ) во II томе Собрания сочинений (2001). Реалии пекла этой позорной расправы в них сокращены и сжаты, но интересующая нас птица тарарахает и в них:
И наконец третий, самый короткий текст о разгроме восстания:
Реальный сюжет не мешал Хлебникову вести повествование по словесным модулям и лекалам, уже разработанным ранее.
Автор подает себя не сторонним наблюдателем, не демиургом “над схваткой”, он волхв-пророк, предвидящий ужасы событий. И об этом перво-наперво говорит даже не прямая цитация невинного «Кузнечика», а своеобразная “подпись” поэта, проставленная внутри партитуры. В мирный период этот росчерк годился хоть для пирожных: О, колос, падай, падать сладко! Во времена голода Хлебников свидетельствовал об опустошенности отчаяния: Колосьев нет... их бросил гневно Боже ниц. Мужицкое восстание и его разгром сопровождаются собственным присутствием гневного Велимира: Лежи, колос людей обмолоченный… В переводе с поэтического языка на документальный это и есть факсимиле, клише подписи — Хлеб-ник.
Но на этом словотворец остановиться не смог. Тема яда вызвала внутри стихов еще одну стертую подпись-монограмму из недавних “басенных” и военных текстов: А имя мое страшней и тревожней / На столе пузырька / С парой костей у слов: “Осторожней…” Это имя в веках — ВХ, ВеХа, ядовитый вех, бех.2![]()
Не зря позже Анна Ахматова, еще одна умудренная стихами прозорливица, снисходительно отозвалась о хлебниковском гипнотическом простодушии:
Настырный повтор возгласа Бах! во всех трех текстах вряд ли напоминает о подписи композитора. Восклицание возвращает нас к стихотворению весны 1921 года («„Э-э! Ы-ым!” — весь в поту…»), предлагающему альтернативу войне. Хлебников не менее наивно выдвигал радикальное средство мирного урегулирования, он призывал прекратить братоубийство и сосредоточиться на мирной пахоте, где пах-пах-пах будет означать состязание цветочных пулеметов запахов, а раны будут словесно проходить по ведомству лягушек и жаб.4![]()
А еще какую команду подает синичка, пропев пинь пинь тарарах? В «Кузнечике» — это готовность клевать, выстрел поедания, угроза смерти, но и в гражданской войне она тоже восклицает: Огонь! | Пли! (Бах! Ззыз – – – жжа! Пата папт та!). То есть птица уподобляется своему крыловскому басенному прототипу, где она хвалилась море зажечь. Потому и в «Кузнечике», и в окаянной драке со смертным газовым исходом, ее функция — сигнализировать о поджоге, зареве, она — в чудо заката влюбленная, она оправдывает и поддерживает возглас О озари! — и в его романтическом, и в его братоубийственном волеизъявлении.
В стихах, кроме синицы, есть еще одна, постоянно спасающаяся живность. Что делает присутствующая во всех трех вариантах текста собачка? Она омонимически занята тем же делом — выстрелом. По косогору мчится обезумевший пёсик, а ратник нажимает на гашетку-собачку — спусковой механизм в огнестрельном оружии. Но ткань стиха выдерживает еще один пуант: ‘хвост’ по-польски — ogon (поджав обезумевший хвост, скакала собачка).
В музейных запасниках Хлебникова уже была разработана подобная омонимия, где были задействованы и зарево заката, и нажим на собачку, и даже Чехов, который так и остался бы вечной загадкой комикования, коли б не ужасы гражданской войны, помогающие приблизиться к означаемому, но не произведенному выстрелу.
Собачка и в этом раннем опусе подспудно отвечает за отмененный выстрел. Некое сообщество, а может быть, и любовная парочка сидит, любуясь пожаром заката. Пара тоже объята огнем желания (упали на траву). Весь словесный материал разбит попарно системой омонимов. Они сидят на лавочке (скамейка), а из лавочки (небольшого магазина) выбегает мальчик, напутствуемый возгласом Жарь! (беги быстро!). Этот же возглас может быть воспринят и как сигнал „Огонь!”, если, конечно нажать на гашетку-собачку. Но поэт настаивает, что он только командующий словами, но никак не выстрелами. И хотя есть все предпосылки для выстрела (жарь! ярь, летящее копье, хвост-огонь, собачка-гашетка и даже магазин ружья), Хлебников утверждает, что он не Чехов, то есть в его стихотворении висящее на стене ружье стрелять не станет.
Для демонстрации того, как применяется Хлебниковым скрытая автоцитация, рискну привести большую выдержку из его повести «Ка» (1915). Она поможет в расшифровке и поэтического, и прозаического текста, “вышитого” по его канве:
Приехавший в Африку торговец, если судить по ломаному русскому языку, — француз. Ремарка в скобках (Чехов) означает, что ружья выстрелят (к третьему акту). Женщина с кувшином (гончарным изделием) — некое соответствие Натальи Гончаровой, торговец — Дантес, а убитый им Эхнатэн, он же обезьяна — прообраз Пушкина. Таким способом Хлебников предъявляет свои дубликаты исторических событий, разобщенные во времени и географии. К тому же это и прозаические дубликаты его стихов. Вот параллели между стихами и прозой: Чехов (ружье), вино, купец (лавчонка), выстрел (‘ку’ — coup — франц.), огонь заката и любовное томление (озарен осенью желанья), выбежавший мальчонка и маленькая резвая бегает.
Подозреваю, что дальняя страна, куда зовет звонкий голос в стихотворении — не только реальная смертельная даль, но это и призрачный Анжу, винодельческая область Франции в низовьях Луары (Мы сидели, вечер пья). Хлебников явно задействовал французский каламбур, где вино Анжу созвучно французской военной команде „целься! | к щеке!” — „en joue!”. „К щеке!” соответствует русскому сигналу „огонь! | пли! |пали!” (мы упали…).
Бытование этого каламбура во французской практике подтверждает кинематограф. В ироикомической ленте о клоунаде войны режиссера Жана Бекера «Зловещие сады» («Effroyables jardins», 2003), снятой по одноименному роману (автор — Michel Quint), лейтмотив сюжета задан изначально в возгласе героини. Она потчует двоих своих поклонников красным вином, поясняя, что это каберне из Анжу, и поднимая бокал, произносит шутливый тост: „Целься!” („en joue!” — „к щеке!”).
Кажется, что и знаменитый завтрак удалой четверки на бастионе Сен-Жевре в «Трех мушкетерах», сопровождался той же франкоязычной буффонадой: они пьют анжуйское, перемежая его возгласами „целься!” и меткими выстрелами.
Добавим, что роман о клоунах и расстрелах «Зловещие сады» основан на еще одном межъязыковом каламбуре, в котором ‘шут’ (русск. клоун ) созвучен с ‘shoot’ (англ. стрелять). На этом же фундаменте покоится и стихотворение Хлебникова о межпланетной газетной “утке”:
Мальчик-разносчик доставляет поэту газету «Таймс» с планеты Венера (звезда-стар). Этот салага, по всей видимости, Амур-Эрот. В известиях сообщается о шутках будетлян, которые основали новое сообщество, что должно привести к миру на Земле. Хлебников возмущен и расстроен подменой и неудачей, его глобальные открытия законов времени не желают использовать ни земляне, ни собратья по разуму. Разыгрывается горькая пантомима, не требующая “иностранного” вмешательства, достаточно прислушаться к омонимии русского слова ‘предан’. Хлебников, ощущая себя преданным своими же соратниками, предает себя в руки толпы, пытается выгодно продать свои числовые изыскания, убеждая людей в их дешевизне:
Стихотворение держится на ветвистой межъязыковой омонимии. Приведем не все примеры, а только интересующую нас часть, проясняющую сложности постройки. Хлебников для мотивации распространения лжи и газетных огрехов (‘пеш’) использовал отсылки к мифам греков. Он предлагает вместо мифов и вер, божеств и небес — свое перо и почерк поэта и ученого, открытые им законы времени (отсюда сближение с «Таймс») и чисел, а также зеленую (вер) траву и сигналы синих волн. Ядра и стрельба (‘shoot’), якобы оторвавшие Венере руку (богиня с отломанной рукой, где manus — рука, почерк лат.) выныривают в непричастных к открытиям шутах и паяцах-футуристах, резвящихся на Земле. Уморительный финал о превосходстве поэта-мужчины (man, male англ. и vir лат.) связан с тем, что Хлебников не удержался — мальчуган | сломанная рука | дверная ручка | перо и зелень требовали поддержки. Фактически, рассказывая о своих числовых подвигах — переставим здесь, переменим знак — он занимается заодно и автопортретированием поэта Велимира.
Вот небольшая добавка к поданному блюду. Начнем с первой строки, с котелка, где спрятаны все последующие “боги” (котел — кот — Гот — бог) и приготовления (А волны, точно рыбы / В чугунном кипятке, / Вдоль печи морской битвы / Скакали без ума…) Эта хитрость уже была опробована Хлебниковым в пастише 1909 года — Передо мной варился вар / В котле для жаренья быка ,6![]()
Вероятно, Велимир был знаком и с вольной этимологией “газетной утки”. По одной из версий, придумал “утку” Мартин Лютер, намеренно произнеся однажды вместо Legende (легенда, миф) — Lügende (Lüge — ложь). А уж затем “люгенде” будто бы превратилось в „lüge Ente” (где Ente — утка). Этимология, скорее всего, относится к разряду поэтических, то есть выдуманных, но очень похоже, что именно ее использовал Хлебников в своем стихотворении, которое строится на переплетении легенд, лжи и газетной утки.
Возвращаемся напоследок к котелку, головному убору, что лихо был положен и с которого щетка изредка счищала звездную пыль. Эта щетка принадлежит одновременно к одежде — vestis (лат.) и к тому, чем занимается ее владелец — разносит вести.
Вот не менее знаменитый пример конструирования текста, где происходит объяснение в любви, на сопряжении далековатых деталей — пения-щебета (син), адреса (address), одежды (dress, вест), греха (син), весталок и уборки пыли. Стихотворение Пастернака «Из суеверья» (кстати, становится понятно, почему вынесен в заглавие невинный грех — суеверие, из-за которого поэт не менял прежний адрес):
Щеки и щекотка, купорос и купцы, шуты и выстрелы, огонь-пал и падшие, жужжание, смертельные удары, зима-винтарь и мальчики (mala, cheek — ‘щека’ латин. и англ. соответственно) — вот поверхностный инвентарь средств связи, которые развиваются у поэтов, тексты которых мы считаем межъязыково “специализированными”. Разумеется, Хлебников из их когорты.7![]()
Обратимся к еще одному “военному” стихотворению Велимира. В нем нет ни синиц, ни щек, но в преизбытке наличествуют выстрелы. Из птичьих представителей здесь летают голуби, голубым цветом заменяя синь, а текст преимущественно построен на омонимии “падших” и палимых (как и в стихотворениях о газовых снарядах).
О зачине стихотворения, где Хлебников состыковал несколько немотивированных смысловых единиц (глухонемую отчизну, возглас „не убей!” и станицу голубей) уже доводилось писать, а обо всем тексте еще не пришлось. Связкой-рифмой служит немецкий омоним, слово ‘Taube’ — одновременно и ‘глухой’, и ‘голубь’.8![]()
Несколько неожиданная для голубей станица аукнется затем и в странице ночи, и в восстании, и в стоне. Если вспомнить по иным текстам, что русское слово ‘стан’ (тот самый девичий стан, в который стреляют) созвучно с английским ‘stun’ (оглушать; глушить),9![]()
В хлебниковской «Малиновой шашке» в круг тех же контекстов добавлен еще камень (stone и petra):
Еще более окольный хоровод образует строчка Пьяница пением посоха пуль. Пьяница притягивает к себе и вино цели (Анжу), и пение, и penna (стрела лат.), и много еще такого (вплоть до мозга и запахов), на что не будем сейчас распылять внимание. Вспомним только о пыли, которая родственна русским ‘пулям’, а также посоху, голубям и глухим. ‘Посох’ по-немецки Stab, а ‘пыль’ — Staub: вполне закольцованное пение в комплекте с Taube, а также с английским ‘stab’ — стрелять.
Вместо команды „не убей!” оглохшая и онемевшая страна исправно выполняет сигналы „целься!”, „пли!”. Без огрехов восемь пеших пехотинцев палят в восемнадцатилетнюю девушку, лишая ее жизни (живота). В стихотворении есть все неоднократно перечисленные подробности «Кузнечика», но посвящен стих все же особенностям этой красной девы, убиенной блоковской Катьки. Дваждыпадшая, — сказано о ней, а еще с вопросительным знаком: Тело раненой волчицы / С белой пеной на губах?. Сигнал пали! и все опознавательные знаки греха-пеш-син говорят о деве, которая второй раз пала, теперь буквально, с песней навзничь, — она падшая, гулящая, проститутка. О волчице уже тоже приходилось писать, по другому поводу, конечно, а сейчас с удобством процитирую собственное замечание, считая его достойным внимания, слегка уклонившись для этого в сторону от Хлебникова.
До сих пор почему-то ни один комментатор не отметил гимназическую шутку Ильфа и Петрова. Достославный Васисуалий Лоханкин столь яростно твердит ругательство, вошедшее в народный обиход: „Ты публичная девка!.. Волчица ты... Тебя я презираю... Волчица старая и мерзкая притом!” Откуда эта волчица? В переносном смысле ‘lupa’ (лат. ‘волчица’) означает ‘публичную женщину’. Гимназия упразднилась, ее юмор остался.10![]()
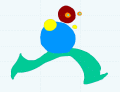
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 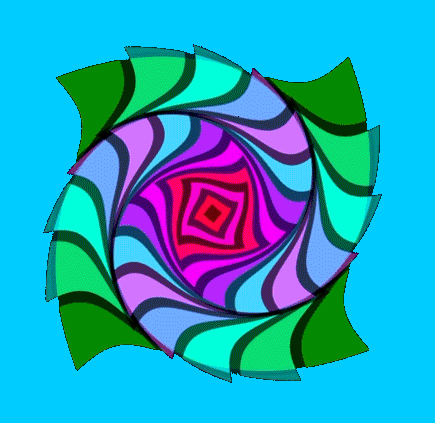 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||