







Но и изнанка монархизма — революционный терроризм всех мастей (народовольцы, эсеры, анархисты) чрезвычайно волновал Хлебникова. Причем, едва ли не в первую голову, интерес его подогрет пристальным вниманием к науке конспирологии. В той же «Снежимочке» основной герой, прячущий революционеров и затем горько раскаивающийся, зовется Ховун (прозвище, соотносящееся с инициалами автора — ХВ), а сказочное имя героини в специфической мифологии Велимира также сопряжено с тайной (она из снега, то есть тает и таит).
А потому и множество стихотворных персонажей воинственного поэта остаются навек зашифрованными. Как, например, герой раннего текста: Еще не пойманный во взорах вор ник, / А уж в устах вставал надменный дворник ‹...› (1908). Трудягу дворника следовало воспроизвести с заглавной буквы, и тогда он превратился бы в знаменитого родственника Хлебникова, двоюродного брата его матери — А.Д. Михайлова, руководителя боевых предприятий землевольцев, закончившего жизненный путь в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Его революционная кличка была “Дворник”, так как он ввел жесткую дисциплину и разработал великолепную систему конспирации, основанную на точном знании топографии улиц и дворов Петербурга.
Таким же неопознанным остается вбрасывание Хлебниковым собственного имени ‘Виктор’ в русло английской истории, примерка, продиктованная размышлениями о судьбах российской династии. Это загадочный текст о сибаритах-лордах, закончивших Оксфорд и прожигающих жизнь в охоте на львов, а их зачем-то призывают к ответу — доводилось ли им участвовать в охоте на молодых королев?
Что же скрывается за этой ширмой? Имена (не произнесенные) двух героев драмы — венценосной Виктории и покушавшегося на нее юнца. Юный террорист в Оксфорде не обучался, к английской знати не принадлежал, но был первым среди тех, кто сводил счеты с королевой (а всего за долгое правление покушались на ее жизнь около десяти раз). Итак, 10 июня 1840 года, вскоре после королевской свадьбы, Лондон был потрясен известием о попытке некоего Эдварда Оксфорда застрелить королеву. Оксфорд, молодой человек 17 лет, работавший барменом в пабе, стрелял дважды, но оба выстрела не достигли цели. Он был арестован, признан безумным и осужден на 35 лет заключения. В 1875 году освобожден при условии, что отправится в другое полушарие. Оксфорд уезжает в Австралию, где и работает до смерти маляром (каковы, однако, художества фортуны!). И наконец — в 1921 году попадает в хлебниковское стихотворение, где Велимир, своеобразно интерпретируя деяния безумца, выясняет свои отношения с революционным миром: Что делаю я, и что делаете вы?
Кроме того, следует учесть, что упор в стихотворении сделан на классовых изменениях не только в Англии, но преимущественно, в России. Царская семья и аристократия — упразднены, они исчезающий вид, почти как дочеловечьи леса цари, то есть ископаемые. На таковых и ведет охоту толпа, то есть скоп. Вспомним, что это же обыгрывание толпы-скопа и телескопа мы наблюдали в стихах о межпланетных газетных “утках”. И что важнее, еще неоднократно столкнемся с этим ‘скопом’ в стихах о мамонтах, драконах, лошадях Пржевальского, да и о самом поэте, вплоть до знаменитых строчек:
И знамена оптом — это ‘скопом’, и ликующая толпа — ‘скоп’, и пыльный череп-лик поэта — будущее ископаемое.
Идем дальше. Знакомство Хлебникова на юге с семейством Самородовых описано в мемуаре старшей сестры Ольги — «Поэт на Кавказе». Старкина подробно (иногда цитируя) пересказывает эти бакинские и железноводские воспоминания, относящиеся к 1920–1921 гг., и заученным жестом констатирует:
О Юлии Самородовой (1901–1929) известно, что она была начинающей художницей и что ей посвящено несколько замечательных стихотворений Хлебникова (Детуся! Если устали глаза быть широкими ‹...› Я ведь такой же, сорвался я с облака ‹...›). Но намного ли она была младше сестры и чем та занималась? Хлебниковедам неизвестно. Так что пассаж о „добытчиках и буржуа” высосан из пальца. О себе О. Самородова скромно сообщает (в мемуаре 1928 года): „Я в те годы была занята совсем не литературой…” В чем она участвовала — лучше знать историкам революционного движения. Но и это не просто, так как молодая женщина (она старше сестры всего на шесть лет) значится… под четырьмя фамилиями! Вот краткая выписка из мемориальских изысканий:
Стоило ли огород городить вокруг Ольги Самородовой и “невинного” замечания Старкиной? Стоило, ведь эти сведения имеют прямое отношение к биографии Хлебникова, к датировке, а значит и к пониманию его «Ручья с холодною водой…». Почти дневниковый стихотворный шедевр повествует о том, как Чека за сорок верст позвала поэта на допрос (время и место действия размыты — горы, конец лета), а затем его за ненадобностью отпустили, и он гонимый ею, в Баку на поезде уехал. Одни датируют стихотворение „лето-осень 1921 года”, Старкина полагает, что допрос состоялся летом 1920-го, и Хлебникова арестовали за то, что он без командировочных документов поехал из Баку в Дагестан (спрашивается, а как он всегда ездил?). Не нам искать логику в действиях всемогущей Комиссии, но будущие исследователи, будем надеяться, найдут связь между Чека, громким бакинским процессом над эсерами, Ольгой Самородовой и упавшим с облаков поэтом.1![]()
Что ж, вооружившись суммой знаний о биографии Хлебникова и о его поэтике, можно попытаться ответить на давно мучивший меня (об остальных не ведаю) вопрос. Отчего Хлебников, столь дотошно рассказавший в своей поэме подробности жизни Александра Николаевича Андриевского, назвал свой опус «Председатель Чеки»? Ведь поэт сам скрупулезно повествовал о служебных функциях своего героя, будучи осведомленным, что тот являлся военным следователем Реввоентрибунала 14-й армии,2![]()
Я могу объяснить столь неосмотрительное смешивание мест службы только магическим действием на поэта простецкой пословицы „Ради красного словца…” С чем рифмуется кровавая Чека? Да просто-напросто со словом ‘щека’, которое связано сигналом (‘син’) с выстрелами (огонь!), вином (Анжу) и виной, грехом (и греками), страстным огнем желаний и соитий. Эта ‘щека’ прикровенно мотивирует Чека и ведет за собой весь ареал задействованных в поэме атрибутов. Синеглазый герой стрелялся из-за дамы сердца, сам он никого не расстреливал, но, по собственному признанию, заставлял души принять душ смерти | духовно выкупаться в смерти. ‘Душ’, ‘дух’ — признаки запаха, сигналы выстрелов (пах-пах). Недаром в поэме неоднократно описывается заядлый курильщик, а само курение подано как некий аналог стрельбы. В самом начале:
Щека и кубок (‘ку’ — coup — франц. выстрел), огонь и запахи, страсть да частое насмешничанье и шутовство неуклонно ведут поэму к ритуальному смешению реальных обязанностей с вероятностными воплощениями. Встреченный в харьковской коммуне юный синеглазый человек был образованным интеллигентом и жестоким следователем. В других ипостасях мог играть Нерона, но мог прикинуться и Спасителем. А уж в силу словесной вязи, которая самоуправна, ему могло быть уготовано место Председателя Чеки. Пусть только и в заглавии.
Сейчас не будем отвлекаться на сугубую физиологичность хлебниковской эротики (отдельная тема). Современное сознание, воспитанное постмодернизмом, воспринимает сравнение любовного акта с выстрелом, как почти будничную данность. Для Хлебникова этот эвфемизм тоже не новшество, вот только средства для описаний у него частенько блещут таким разнообразием, что поиск смысловых обертонов всегда затруднен. Далее следует любовное стихотворение (то ли 1920, то ли 1921 года), посвященное той же Прекрасной Даме, не знающей жалости, что была представлена возлюбленной в «Председателе Чеки». Комментарий аккуратно сообщает, что звали ее Вера Демьяновская, была она кузиной сестер Синяковых, Хлебников был в нее влюблен (как, впрочем, и в остальных сестер поочередно) и посвятил ей некоторое количество поэтических текстов:
Из финала стихотворения явствует, что написано оно после «Председателя Чеки». Разделяла ли красавица ложе с поэтом, мужем, ревтрибуналом не суть важно. Приговор суровых моралистов переведен здесь в высокий ранг: вульгарное имя потаскушки делает ее Клеопатрой, а презрительное определение шкура преобразуется в греческое и странное руно.
Но вот над чем все комментаторы и по сию пору ломают голову, так это, отчего Хлебников проявил грубую оплошность в любимой им орнитологии, приписав зоологу П.П. Сушкину авторство книги о харьковских птицах, принадлежавшей перу Н. Сомова.
Сушкин пал жертвой рифмы так же, как прежде Андриевский был подтасован к ЧК. Хлебникову был позарез необходим Пушкин, а уж кажется, Сушкин подверстался по насмешничанью. О выстреле любовного свидания сигнализирует теперь весь декоративный антураж стихотворения.
Вино и кубок — вещдоки стрельбы, как уже было не раз проговорено прежде.
Пушкин — и артиллерийский залп из пушки, и смертоносность «Египетских ночей».
Сушкин — после его именования природа сохнет и раздается сигнал-предупреждение осени (син!), и трубный глас птиц (гром журавлей), заменяющих по смежности синицу („журавль в небе, синица в руках”). Сомнительное и неопрятное предположение для дамы, приглашающей к винопитию. Но что поделаешь, греховность разлита по всему демаршу: Клеопатра — смертельный грех, син-грех, пеш-грех, греческий грех, да и сволочь тоже не подарок.4![]()
Уж как-то так неизбежно поворачиваются декорации в стихах, что о чем бы ни говорили поэты, всё едино за каждой кулисой нет-нет, а примерещится тень Пушкина. Пастернак описывает гибель Маяковского в стихотворении, где заглавие неизбежно отсылает к имени Пушкина:
Ограничимся только кратким реестром-перечнем тех словесных атрибутов, которые мы пристально разбирали, вытягивая их из смертельных ран «Кузнечика». Тем более что имя Маяковский тоже содержит сколок глагола ‘ковать’. У Пастернака так же (как и у Хлебникова в стихах об известиях в газете «Таймс») одно из основных понятий — двусмысленное слово ‘предан’. Поэт лежит на смертельном ложе, но его окружает ложь. Он вошел в предания, в легенду, а его преследуют сплетни и „люгенды”. Весть о его смерти воспринимается как бредни с разрывом сети-бредня, а затем эти нелепости выливаются в призрак “фата-морганы”. „Твой выстрел был подобен Этне / В предгорьи трусов и трусих”. Ответственность за презрительных „трусов” берет на себя землетрясение-землетрус (укр.). Гибель Маяковского подобна Этне, так как Гибел — мифологическое имя этого вулкана. ‘Этна’ на древнесицилийском наречии означает ‘гора’, по-итальянски она тоже просто Гора — Монджибелло (от арабского ‘джебель’ или ‘гибел’ — гора). На этой горе Гибел по преданию жила фея Моргана, завлекавшая юношей в свой замок миражами (“фата-морганой”).5![]()
![]()
После выстрела Маяковский „спал, прижав к подушке щеку”, „постлав постель на сплетне”, грачи кричат у „домов чиновниц и купчих”; выстрел схож с „шутихой” — он плющит, выплеснув из стока рыбу. Команда роковой стрельбы „пли!” (-пле-, плю-, -пли-) включает французские ‘целься’ („к щеке!”) и выстрел (coup), а также английское ‘стрелять’ (shoot). И здесь сигнал суицида сопровождается уже известными знаками ‘син’ и “пеш-пек” (грех, горе и пекло): „Грачи, в чаду от солнцепека / Разгоряченно на грачих / Кричавшие, чтоб дуры впредь не / Совались в грех”.
Оттрепетавший поэт был тих и нем (taub), а страх трусов выдает его порох и пыл за прах и пыль (Staub). Как вытекает из свидетельств Вяч.Вс. Иванова, поэт Пастернак недолюбливал поэта Хлебникова (это у них было взаимно), что не мешало Борису Леонидовичу читать на память — не менее изощренное стихотворение Мандельштама «Импрессионизм», «Кузнечика» и другие стихи Велимира.7![]()
Пора возвратиться к еще одному стихотворению Хлебникова (о пьянице и запахах), которое сулит последовательное разгадывание двух шарад. Первый ребус — сам текст изобретательного Велимира, а вторая загадка, ключ к которой кроется в пьянице-мозге.
О велимировом стихотворении в комментарии сказано, что в нем отразились впечатления Хлебникова от посещения в 1920 году анатомического театра Бакинского университета. Могу добавить, что к впечатлениям трупарни нужно присовокупить изрядную долю макабрического юмора да еще два словаря — украинский и французский.
В комментарии к этому стихотворению указан также отсыл к «Интернационалу» (до основания, а затем), но кроме кипящего там разума, я связей с пьяницей-мозгом пока не вижу. В стихотворении попросту описан экспонат патологоанатомического музея — заспиртованный в колбе мозг. Оттого он пьян и с удовольствием выполняет роль учебного пособия. Но вот дальше начинаются странные метаморфозы, мозг приобретает вид цветка и начинает распространять винный запах. У Хлебникова, коли присутствует запах — жди выстрела. И дождемся, так как мозг по-украински — ‘мозок’, а дальше он трансформируется в “мазок” на полотне из цветовой палитры художника, в зимние желтые цветы, пахнущие “тем светом” и излучающие душистый аромат трупов. В общем, мозг подсказывает строку о пьянице пением посоха пуль из стихотворения «Над глухонемой отчизной: „Не убей!”». Одно непонятное должно объяснить другое, еще менее доступное. Во французском языке слово ‘мазок’ (художественный, а не медицинская проба) обозначается понятием ‘coup de pinceau’, то есть удар, толчок или выстрел кистью. Вот вам и “веселая” радость (истины в вине), выставленная напоказ, — кого-то убили выстрелом, препарировали, заспиртовали мозг и он начинает вспоминать о своих функциях мазка художника, выстрелом кисти создающего цветы, пьянящие душу светом и запахом. А кроме того, конечно, разыграна партитура простейшей омонимии, в которой ‘spirit’ одновременно и спирт и дух, душа.
А вот что из того же “подручного материала” изготовил Мандельштам, — разумеется, никто эти два текста и сравнивать не станет. Отметим, что эксперимент чист, никакой интертекстуальности нет и в помине: «Импрессионизм» датирован 23 мая 1932 года, а стихотворение Хлебникова было впервые опубликовано в 1933 году. Но только благодаря разгадке Хлебникова, читаем Мандельштама.
На то, что в стихотворении действует та же цепь, что и у Хлебникова, указано как будто сразу: мозг-мозок-мазок (‘coup de pinceau’). (Только попробуй это заметить!) Масляные краски, „лиловым мозгом разогретые”, и „лиловые” тени, ведут, конечно, к сирени ‘lilas’ (фр.). Художник кладет мазки выстрелами, оттого они ложатся звучными струпьями-трупами. Обморок сирени — это музыкальная синкопа или психологический провал, то есть неудача-Pech (нем.), они проявлены в „запекшемся лете”. Как только любые звуки (выстрела, свистка, хлыста) затухают (излюбленное поэтами и Пушкиным ‘touche’8![]()
И наконец, равный с сиренью и художником — хозяин стихотворения — шмель. В натуралистической квалификации он зовется bombus (лат.). Вот кто в финале отвечает за развал и разбой взрыва словесных и живописных массивов. А также за „цвет воздушного разбоя и пещерной густоты” уже иного художника и другого холста.9![]()
Конечно, впечатлительный «Импрессионизм» Мандельштама, как всегда, текст не о живописи, а о стихотворстве. Поэзия — день и тень, жирное масло масляное, непрерывное движение и столкновенье словесных дуплетов, рассекающие удары кистью и пером, хозяйство, где „не разбойничать нельзя”. Вот о чем перезваниваются засевшие на полигоне два клоуна Бим и Бом — Бом-Бим.10![]()
Не нужно надеяться, что на этом можно остановиться. Все поэты вольно обращаются с ростовщичьим обменом согласных, особенно свободно с глухими и звонкими, а также щипящими. А потому наш „главнокомандующий” смелый Шмель (smell) распоряжается наряду с бомбами, еще и запахами «Импрессионизма». А если уж совсем избыточно разохотиться, то он хозяйничает и на кухне со шмальцем жирных голубей. К тому же и „Фета жирный карандаш” написан одновременно с „обмороком сирени”.
Раз уж заговорили о шипящих согласных и сале,11![]()
На мой взгляд, потому возникло столько идеологических споров вокруг этого стихотворения, что Мандельштам намеренно применяет здесь неоднократно им использованную технологию качелей (или хвоста ласточки), которая проиводит иногда к стихам-двойчаткам. Ведь разработанный поэтами язык — не эзоповское явление, он органичен как поэтика загадки, но при этом пригодился в тяжелые времена, так как своей кажущейся и действительной “темнотой” оказался вынужденно функциональным.12![]()
Начнем с конца, так как самое непонятное словообразование — это полуукраинское слово ‘разумейте’ (‘розумiйте’-понимайте). Оборот неловкий, но необходимый. Он подытоживает последней точкой весь массив текста, построенного на перемигивании огней сигнальной системы ‘син’ и расстрельной семиологии. Она заявлена впрямую: „Пахнут смертью господские Липки”. Никаких сомнений нет, что речь идет о расправах красных, а уж то, что они вернулись, к 1937 году — бесспорно. То есть речь идет о способе письма, а не об отношении поэта к этому возвращению. А весь текст, вращающийся вокруг слова ‘sine’ повествует о безвозвратности — и господ, и слёз, и скрипок, и купцов. ‘Sine’ — это вошедший во все языки из латыни предлог ‘без’. „Не знаю чья”, „без слез”, „не гадают”, „не играют”, Липки без жизни, Крещатик без лошадей, город без красноармейцев — это всё то, чего нет. Что есть? Выстрелы и смерть. Щеки — знак ‘целься’, слеза — tear (англ.) оказывается соприродной с тиром и стрельбой, Купеческий сад несет знак выстрела (coup), „пахнут” (пах!) означает смерть, „лошади пали” — это и ‘пали!’, и „падшие” (предположительно ‘крали’), цыган созвучно с сигналом и наконец, финальный ‘разум’ — это Sinn (нем.). Остальное — варианты-отсылки к ‘син-зин’: жинка, слезинка, шинель. Есть ли что-то светлое в этой картине? Только путь-дорога. С страсти-штрассе начинается стих, и даже веки жуткого Вия вливаются в нее, в улицу-виа, а заканчивается этот страшный сон трамваем, где way — путь, а Traum — сон, фантазия, но, конечно, и травма. Пока есть слова, воображение, юмор и пишутся стихи — выход есть. Может быть, в смерть, это уж как повезет. Стихотворение, которому приписывают зависимость от романа «Как закалялась сталь», звенит как реквием по Николаю Гумилеву, который первым признался: „Из логова змиева, / Из города Киева, / Я взял не жену, а колдунью…” Всяк читает на свой лад…
Для финала, как и было обещано, припасено стихотворение Анненского, который (в этом нет сейчас никаких сомнений) был первоклассным учителем поэтов. И каждый “учащийся” брал у него в меру сил, внимательности и собственной предрасположенности. Хлебников, как известно, пришел в отчаяние в день смерти поэта. Ахматова тоже считала его своим главным учителем, но, когда однажды Пастернак в течении полутора часов произносил восторженную речь об Анненском, она потом не могла вспомнить ни слова. И вовсе не потому, что восприятие стихов у них сложилось верное или неверное, а просто абсолютно разное. Ахматова же заносчиво предполагала, что виновата в том завораживающе-туманная риторика Бориса Леонидовича.
В каком-то смысле стихотворение Анненского о такой же завороженности мелосом, о музыкальной магии неизвестных слов.
Собственно, это стихотворение я решила привести, потому что в нем слишком недвусмысленно с первых строк видно, как слова выстраиваются в пары. И первое слово -„буддийская” — обеспечивает основной камертон этой “парности” в Париже. Кроме непосредственно описанной „мессы” (которая имеет свой отзвук в „мисс”) ведется повествование о стихо-строительстве — ‘будувать’ (укр.) значит строить.14![]()
Древность созвучий заложена в эпитет монгола — „базальтовый”, об этом многозначном ‘альте’ и повествует ироничный стих — в нем и высота мессы и заземленность слушателей, и внимательность к иным “мовам”, и благодатное стремление к Другому.
Об этом “Другом” и будет следующее повествование.
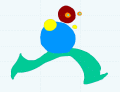
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 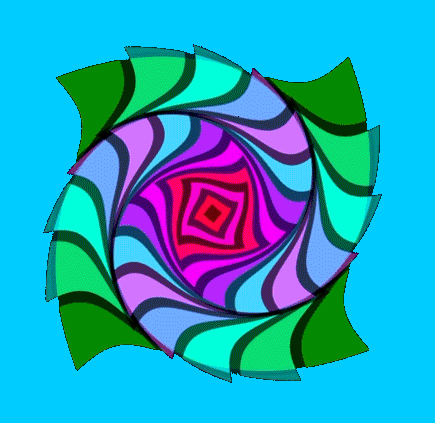 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||