








Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.
Аполлон Григорьев Героям нашего времени
Как весело перед строями
Летать на ухорском коне
И с первыми в дыму, в огне,
Ударить с криком за врагами!
Константин Батюшков. К Никите
Привратник — колесико в огромном механизме мировой иллюзии:
согласно ей, жизнь будто бы имеет некий смысл, который ничего не стоит разгадать.
Мюриель Барбери. Элегантность ёжика
Милиционер, миллионер,
За торой бор,
За хором хер.
Премного разных трав и вер.
Бутылка, например.
Виктор Пелевин. Элегия 2
 решила отменить свой куцый церемониальный мемуар за ненадобностью, а сразу отправиться по следам последних текстов Омри Ронена, которые меня, как всегда, соблазняют спорностью высказываний.1
решила отменить свой куцый церемониальный мемуар за ненадобностью, а сразу отправиться по следам последних текстов Омри Ронена, которые меня, как всегда, соблазняют спорностью высказываний.1Меня интересует даже не то, что пытливый исследователь поименовал “головоломками”, а его отношение к этому типу загадок. Уже само “обзывание” двусмысленно и чуток презрительно. Ведь головоломками принято считать специфические задачки, требующие сообразительности, а не обширных познаний высокого уровня. Потому мне мнится, что ученый с опаской относился к своему пристрастию и как бы просил прощения у академического сообщества за этот сомнительный вкусовой выбор. Что уж говорить о поставщиках этого подпорченного товара. Вот разоблачительное высказывание Омри Ронена о стихах каверзного вендора Бориса Пастернака:
И хотя этот обвинительный вердикт вырван из окружающей среды, но сопроводительный контекст (со ссылками на авторитеты Андрея Белого, Николая Трубецкого3![]()
Как правило, что чаешь, то и получаешь. Так высоколобо и самовнушенно о поэтических разгадках как ерунде мне никогда не доводилось думать, разве что в связи с опусами Кручёных, да и то попросту оттого, что безоговорочно поверила приговору Мандельштама.4![]()
На роль катапульты выбираю одну обаятельную догадку Омри о стихотворении Пастернака «Балашов». Предупреждаю, что, по-видимому, этой затравки мне будет предостаточно для развития сериальной интриги Пастернак-Хлебников, а одинокой она останется хотя бы потому, что сам ученый умышленник к этому стихотворению больше не возвращался (почти). Соответственно, пресловутое “почти” понадобится в свое время для сопоставления того, что каждый из нас получил в итоге. К прискорбию, даже самые свои блистательные догадки Омри зачастую подбрасывал фейерверком в воздух, где, погаснув, они никого не вели к сути дела (возможно, кроме него самого). Но как он и оговорился, для него суть была не столь и важна (а вдруг чепуха?), важен азарт, как в еврейском анекдоте: „но зато какая дорога!” Стало быть, Омрины наития до поры до времени оставались (а теперь и останутся) питательным агар-агаром, поводом для размышлений или состязаний на сообразительность, что заведомо немало, но без вариантов — обидно.
В частности, обдумывая шифры стихотворения «Балашов», Ронен прозорливо предположил, что Пастернак выбрал эту станцию на железной дороге, так как она
Вот полностью этот текст из сборника «Сестра моя — жизнь»:
Если просеивать, как муку сквозь сито, пёстрый набор ипостасей, рвущихся на амплуа “лирического героя” стихотворения, то из нескольких — юродивый, душевнобольной город Балашов (занявший меж тем заглавную позицию), огонь, солнце, таинственный Повелитель — я бы выбрала Жародея-Солнце.
В тексте потаенным звуковым повтором проходит знакомая нам морфема ‘sin’.5![]()
Время действия — ранняя осень, она заставляет вспомнить палящую природу лета, жаркую, как кухонная плита. Впрочем, все предметы от колебаний воздуха на жгучем зное начинают дребезжать и двоиться. Вагон отвечает огню, меч из „мечась” — палашу из Балашова, паял-баял оборачивается речью. Природа разговорчивости „лип” кроется в губах (lip, Lippe — губа англ., нем.), даже у плиты для готовки есть близнецы — „плиты госпиталей”. Этими сырыми плитами вымощена дорога в стихотворении, которым Пастернак отвечает на вопрошание „Мой друг, ты спросишь, кто велит, / Чтоб жглась юродивого речь?”, взяв эти две строки эпиграфом.6![]()
![]()
А что еще установил Ронен, добавив к стихотворению искалеченную картину Репина? Пришла пора наведаться к обещанному “почти”. Оборотившись, наконец, к несчастному инвалиду, Омри широким жестом признался в выборочной любви к поэту:
Ну что ж, после этой симптоматики можно, наконец, и к ‘юродивому’ подойти поближе. Конечно, он сродни пушкинскому Николке, которому Богородица не велит молиться за царя-Ирода. Но не только. Речь юродивого оттого жжется, что это заложено в природе самого, слегка измененного, слова — блажженный. Словарные столкновения воздействуют на природные буйства и управляют измерительными приборами — градусниками, телескопами, анероидами, гремят в пустоте Торричелли, следят за скачками барометра. Пастернак показывает, что в поэзии властвует плеоназм — избыточность и чрезмерность: большой как солнце Балашов сосуществует в восходе и закате, лете и осени, в огне и каплях дождя, в любовном свидании и прощании похорон, в песне небес и дребезжании пилы.
Тут-то и „возникают подозренья”. Что может скрываться в гундосых звукоподражаниях юродивого? Вечно длящийся профессиональный спор. Давайте всего лишь составим уравнение из элементарных “a” и “b”.
Первое — в стихотворении «Балашов» изначально медник подливал масла „в огонь, томпак куя”, то есть сплавляя медь с цинком. В стихотворении с потаенной звуковой организацией (син-зин-цин) с первых строк, раззадоривая словесные излишества в спорах-“базарах”, работал мелкий ремесленник, кузнец, почти “кузнечик”. Второе — воспоминания о том, как Пастернак, влюбленный в Маяковского, в прениях запальчиво отвергал весомость Хлебникова, что не мешало ему неоднократно приводить по памяти «Кузнечика».8![]()
Но и на это вопрошание у Пастернака был втайне заготовлен ответ. Он предположил, что хлебниковская звукопись сплавлена с цыганскими красками заката, явлена в союзе солнца и коня. В стихах, где вместо поэта гастролирует кузнечик, это звучало прикровенно:
В прозе «Охранной грамоты», особенно в рукописи, эта конская ипостась проявлена особенно явно. После признанного первого поэта поколенья — Маяковского — Пастернак выделяет другого претендента на вакансию:
Намек на поклонника свифтовских гуингнмов, на фантаста из вымышленного Конецарства, был убран впоследствии, при подготовке повести к печати. Кстати, именно в этой хлебниковской стране не каверзный „медник лудил” посуду, а осужденный конь, „жуя, станет жить, медь удил”. Достаточно ли помянуть коня, чтобы взошло (или зашло) солнце? Да, у Хлебникова и Пастернака они слишком часто взаимосвязаны. Довольно рано заявленный Велимиров поэтический девиз (опубликованный только в 1940 году):
Хлебников всю жизнь доказывал, что, если захочет, может писать, как Пушкин. Гумилев признавался, что попытавшись писать в стиле Гилеи, сделать этого не смог.9![]()
Вероятно, цыганам в Бессарабии понадобилась молдавская окраска для подчеркнуто-юного возраста героини стихотворения. Мол(о)даванам подобает по определению быть молодыми. Перед зрителем картинно выступает юная красавица-цыганка с черно-смоляными косами, которые не нуждаются в украшениях, даже в монистах. Вряд ли для неё значима легитимация семейного статуса — как и полагается гордой соплеменнице Земфиры, она свободна, „отлынивая от луча” и пребывая вне закона (франц. hors la loi). То ли жена-молодица, то ли дева, любовница Солнца. Тяжкий труд ей нипочем, когда в помощниках у нее ходит волшебное диво. Обращается она с Жародеем-Жогом на равных, как с конем. Здесь-то и проглядывает сокрытое имя солнечного божества — Хорс. Одновременно Солнце-Хорс и конь (англ. horse). Провожая в путь обоз, увозящий красавицу, Солнце с высоты („с пеклой вышки”) льет лучи, подобные звукам колокольчика лошадиной дуги („шелуху бубенца”). Текст стихотворения закольцован. Оно начинается „от луча”, то есть французским ‘от’ (haute — вышка), и завершается ‘шелухой’ (нем. Haut).
Пастернак по-свойски, попирая все негласные установления и законы, обошелся с тяжело груженым архаически-футуристическим текстом. Такова природа его таланта, и не следует думать, что заявленная им установка на „неслыханную простоту” смогла изменить слуховые абсорбции поэта, его нетривиальное обращение со словарями. Ничуть не бывало, до конца дней этот “казак лихой” не покидал поприща словесно-цирковой эквилибристики, и даже потерпев сокрушительный провал в романном бытописательстве, оставил воплощения поздней небывалой поэзии и прозы, выросшие из ранних стихотворных эскизов-уникумов.
Я бы не стала тормозить движение своего вестерна пикантными словарными подробностями «Цыган» Пастернака, когда б они не совпадали со строительным фундаментом Велимирового стихотворения «Я и Россия». Но этот кунштюк я приберегу для финала.
А сейчас по слишком явному формальному признаку, превозмогая страх сцены, залитой солнцем, в декорум напрашивается «Жизнь» Хлебникова.
Стихотворение тоже было исполнено на заказ — для астраханской газеты «Красный воин», штатным сотрудником которой Хлебников прослужил полгода, пока город находился почти на осадном положении. И “служба”, и “газетчик” — понятия, далеко отстоявшие от фигуры поэта, но желание публиковаться превозмогало идиосинкразии, тем более что в редколлегии газеты работал поэт Сергей Буданцев — поклонник Велимирового таланта. Потому 7 января 1919 года стихотворение было опубликовано, то есть воинская газета отметила Рождество Христово футуристическим текстом о жизни и смерти — ситуация близкая к гротеску. Именно своеобычные и причудливые характеристики стихотворения — объекты моего внимания.
Формальный признак, заставивший обратиться именно к «Жизни», — это открыто представленный здесь тройственный компонент: Хорс-Солнце-конь (или кобылица). Красный цвет воина, газеты и времени вменяет стиху кровавую окраску. На меч ложится вишневая роса крови. Заря сверкает крыльями красных лебедей — О лебедиво! О озари! Жизнь размахивает алой столицей, словно прощальным платком. Алый цвет последовательно диктует распутья семикрылости (или наоборот), так как ala — крыло в латыни.
Слово ‘жизнь’ подхвачено многоязычными сотоварищами: французское vie проявляется вишневой росой в первой же строке, английское live льется допотопными ливнями, английская zing-зин (просторечная ‘жизнь’) молчит в черных глазах-зинах многоглагольной гадалки-цыганки (zingara — цыганка англ., итал.), звучит в побудках зари, лебедя (франц. cygne) и сигнала-знамени. Мимоходом мы получаем простую разгадку строк «Кузнечика»: как только пролетает диво лебедя, раздается сигнал горна, он играет “зорю”.
К тому же английское zing кроме жизни и свиста пули означает “живо, быстро произносить, выпаливать”: Здесь ты поток времен убыстрила, / Скороговоркой судит плаха. Из смеха палача вырастает неистовый хохот-кат обезглавленного Разина, который и сам, подобно кату, казнил персидскую княжну. Жизненное назначение низаря-Хлебникова противоположно, он возвращает к жизни погибших, трудится на поприще Спасителя. Вишнево-вышний меч, росу которого сушит волосами новая Магдалина, сменит вскоре окраску и превратится в малиновую шашку, артефакт живописных обманок.
Жизнь-героиня в стихотворении Хлебникова движется медленно и быстро; по вертикали (вверх к Солнцу или вниз к засыпанным песком письменам); по горизонтали (вперед в будущее или назад к мамонту в прошлое); непрерывно меняя места действия — “здесь” и “там”. И всё же смерть оказывается не менее многоликой и крылатой. Стихотворение вместило множество насильственных изводов конца человеческой жизни: удар меча и ножей, действия палача (плаха, повешение), утопление, замерзание, сожжение, выстрелы. Кажется, не хватает только яда, колесования и распятия.
Хлебников настолько интересовался смертью, что оставил странный текст о каннибализме (это отнюдь не отменяло его насмешек над „навьими чарами” Федора Сологуба). Но в ранней поэме, где родителям на пиру скармливают тела их детей, Хлебников всего лишь так нестандартно угрожал расправой-местью Японии за Цусиму (что можно прочитать только при специальном освещении текста). Чтобы уберечь самого Хлебникова от недоуменных возгласов читателей, составители последнего Собрания сочинений решили от греха подальше просто изъять этот текст из обращения.10![]()
Признаться, мне кажется, что выявляемый у поэтов широчайший реестр интертекстуальностей — скорее вопрос биографии самого Омри Ронена, предмет его гениальной слуховой памяти, материя его филологического бизнеса. А потому когда в эту область ринулись подражатели-продолжатели, когда бойко произросли хваткие крошки цахесы, то на сражения с ними Омри стал тратить слишком весомую часть своего научного темперамента.
Возвращаюсь к примерам поэтических совпадений, вытекающим из пресловутых „головоломок”. Что кроется в финале хлебниковского стихотворения, где доблестная Жизнь машет алою столицей, / Точно последнее „прости”? Гипербола такова, что никакое буйное воображение нарисовать эдакое не сподобится. А словесная фантазия — пожалуйста: здесь подспудно происходит столкновение нескольких паронимов. Жизнь была уподоблена медленной черепахе, содержащей слово ‘череп’. У слова ‘caput’ в латыни есть много значений — голова, столица, жизнь. “Мертвая голова”, или череп, или Caput mortuum — это название бабочки. Что касается немецкого (и латинского) ‘капут’, то сейчас объяснять его значение излишне, но и во времена Хлебникова оно означало “отдавать концы”, “бедственный конец”. Жизнь машет столицей-головой, как Барышня-Смерть, говоря свое последнее “прощай”-капут. Но возможна и чуть иная раскладка головоломного пасьянса со схожими “головными” паронимами. Сapital в английском — столица, а в латыни - головная повязка, полотняное покрывало, надевавшееся жрицами на голову во время жертвоприношений. Косынкой-столицей размахивать сподручнее, когда прощаешься навсегда.
Хлебникова вообще отличает повышенный интерес к головам, черепам, столицам и труду Маркса. В «Детях Выдры» том «Капитала» привычно годится на то, чтобы „череп проломить”, или же находит применение для свежего каламбура — „ни капли толку”. Громады живых и мертвых голов заполняют тексты. Начинается с пушкинской Головы, которой футурист-Руслан наносит удар — „пощечину общественному вкусу”, затем этот “кочан” превращается в голову боярина Кучки и вырастает до Головы вселенной. Из черепа Святослава изготовлен «Кубок печенежский», прежняя столица повисает на мече («Москва — старинный череп глагольноглазых зданий…»), а имя самого поэта приравнено к яду из растения ‘вех’,11![]()
На этом “головной” поток следует перекрыть, чтобы завершить анализ стихотворения Велимира Хлебникова «Жизнь». Пожалуй, теперь можно ответить на вопрос, каким макаром сюда занесло мамонта. Он вызрел из очень давней Велимировой “заготовки”, и голыми руками его было не взять. У Хлебникова мамонт парадоксально возник как бы на почве той шинели, из которой все мы вышли, по утверждению критика. Но шинель слово французское, потому табуированное, и в хлебниковском обиходе получают бытование русские замены — плащ, шуба, тулуп и проч. Шкура мамонта — мохнатый плащ, и в хлебниковской палеонтологии ему, ископаемому бедняге, оттого пришел каюк-капут, что солдатская шинель в немецком языке — Kaput. Входили ли эти паронимы в намерения Гоголя? Бог весть. А вот в хлебниковские интенции вполне умещались, о чем свидетельствует отрывок из драматической поэмы «Любовь приходит страшным смерчем…» (1912). Одно из первоначальных ее названий — «Мотылек и меч и гроб». Поэма эта чрезвычайно воинственна и кровожадна, прославляет любовь, ратные подвиги и победы, словом, ее замысел противоположен «Жизни», но героические компоненты сходны (жизнь и смерть, кровь и меч, солнце и конь, палач и допотопные спутники прошлых миров, ливни и бивни). Хлебникову стоило только перевернуть концом копье, поменяв смысловую окраску. Вот как описан неназванный мамонт, выбывший в дебри могильные и запечатленный во взоре красавицы-Жизни:
Мимо внимания Хлебникова, столь пристально следящего за состоянием столиц и голов, мотыльков и поездов-драконов, вплоть до пограничных состояний ума, гонимого числами и огнями, не могло проскользнуть стихотворение Пастернака из сборника «Близнец в тучах» (1913):
Сейчас этот текст придется пропустить как подсобный, не анализируя все его немалые “головоломные” особенности, среди которых бабочка мортуум-капут летает вовсе не случайной „втирушей” (как аттестовал ее Пастернак в письме к Сергею Боброву). Конечно, ее голова-caput заключает двоемирие со столицей-caput. Из наиболее наглядных двойников отметим опять же латинское крыло-ala, входящее в состав вокзала, бывало и шпала. Неожиданный высший свет, beau monde, тоже вовсе не случаен в стихотворении о богатстве и бедности в двух мирах, на которые разделен мир. Он расчленен по горизонтали на восток и запад (вест), так что высший свет не одинок, он созвучен с западом. Но граница делит миры и в вертикальном разрезе, здание вокзала расчерчено на низ и верх, рельсы и кров, перепонка членит вселенную на почву и небо, грунт и вышние сферы ангелов, куда и устремляется „покинувший землю экспресс”. Из хаты-вокзала огнедышащий поезд-дракон летит в высь (франц. Haut).
Хлебников откликнулся на «Вокзал» Пастернака, переполненный неприемлемыми для него иноязычными формулами, по-своему, да так, что никто не опознал ни исходного образца, ни собственное предназначение Велимирова объекта. И это вовсе не удивительно. Никто не идентифицировал заимствование, так как позже, вставив свой собственный опус о вокзале-Путестане в сверхповесть «Зангези», Хлебников ловко убрал первую строку стихотворения («Мой череп — путестан, где сложены слова»), превратив тем самым Череп-Вокзал в Мозг-Часы. Почему бы и нет? Голова остается головой, где Песни зубцов и колес / Железным поют языком. Хоть железная дорога, хоть часы, — какая разница, если речь идет в конечном счете о производстве слов поэтического языка в мозгу автора? Зато теперь никто не придерется, всё шито-крыто.12![]()
Так как у нас впереди еще пара стихотворений Хлебникова, а от всей этой увлекательной для меня машинерии читатель должен был притомиться, я отмечу только основной посыл в представленной метаморфозе. Попозже постараюсь возвратиться к устройству этого текста, тем более, что часы человечества на руке поэта — излюбленный образ позднего Хлебникова. Неологизм Путестан образован по принципу топонимов “теплый стан”. Так обозначали еще в XVI-XVII веках места, где дозоры сторожевой службы могли отогреться и отдохнуть. Железнодорожный Путестан логично объясняет только связь со словесным багажом, который обозначен как Глыбы ума, понятий клади. Хлебникову хорошо было известно устройство грузоперевозок, кто как не он умудрился послать медленной скоростью корзину с рукописями в один город, а сам меж тем отправился в другой… Глыба по-французски — motte, ей резонно поручено слежение за словом-mot. А вот мерой, числом заведовать может потаенный Вокзал, во всяком случае, его второй слог: немецкое слово Zahl — это число, цифра (и пусть никого не смущает смена согласных, поэты смело варьируют звучания “з-с-ц” и т.д.). Потому переход к циферблату часов (к листу чисел в хлебниковском “переводе”) был оправдан. Вокзал таил в себе часы, числа и слова не только благодаря „поездов расписанью”. Остальное — потом.
К следующему стихотворению — о соревновании с Солнцем — постараюсь пройти без всяких оправдательных мостиков и адаптеров-переходников. К его неожиданной и озорной подоплеке я готовила читательское восприятие исподволь, прокладывая кабель необходимых понятий.
Стихотворение написано весной 1922 года, опубликовано посмертно в сборнике Хлебникова «Стихи» (1923), и анализ его будет до скупости кратким. Принято сопровождать этот текст отрывком из его же прозы «Утес из будущего» (1921):
В славянском исчислении слово ‘тьма’ означает тысячу тысяч, то есть миллион. Россия, как солнце, освободила миллионы своих граждан от тьмы, с нагого поэта пала темница рубашки — такова нехитрая параллель равноправных деяний. Но в основе всех причудливых поступков поэта так ли, сяк ли, лежит слово — здесь работает простецкая идиома “лезть из кожи вон” (очень стараться), которая по-немецки звучит aus der Haut kriechen, где соответственно Haut — кожа. При некоторых натяжках в произношении эта кожа превращается в хату, а скрестившись с французской высью, высотой (haut) малая хатка становится высотным зданием — вполне русскоязычным небоскрёбом. Поэт снял одежду, тогда из кожи вон лезут старательные волоски-небоскребы и тянутся к солнцу. Ни слова в простоте, даже и загорать на солнышке не дадут, всюду чудятся подвохи и затейливые постройки. И в своем высотно-поверхностном усердии домового Хлебников отнюдь не случаен и не одинок.
Никаких противопоказаний не вижу, чтобы сейчас не напомнить, например, о раннем опусе Велимира, поддерживающем дерматологическую тематику. Нам уже доводилось его обсуждать, но на сайте его нет, потому очерк приведу в сжатом виде, переписав его и дополнив соображениями о связи кожи и смеха. В раннем стихотворении нет Солнца, но есть безусловное ощущение собственной значимости и будущего величия. Притом что текст этот эпатажный, с манерно-бодлерианской эстетизацией уродства, Хлебников умудряется соотносить микро-физиологию с космосом, славного себя с историческими катаклизмами.
Антиэстетический вызов угреватого юнца брошен с первой строки. Но сочинитель не пеняет, не страдает, а смеется. Стихотворение — о российской истории, в постоянной заботе Хлебникова о соотношении гомеопатических доз простых чисел с бесконечностью.
Одним из посылов является каламбур пора / пора. Довещные рати (миллионы, тьмы тем, толпы, скопы) увеличенного под микроскопом изображения — кожа с порами. Каждая пора — тростинка, скважина тела, вентиляционная труба, позволяющая дышать. Если пора — единица воинского строя телесного пространства, то пора — мера времени и определяет краткий миг существования на огромном теле Истории, нелинейное время жизни.
Поры кожной поверхности могут болеть — покрываться сыпью, прыщами, чирьями. Глагол ‘прыщать’ однозначен ‘прыскать’. Кожа-Haut-хата оказывается тождественной и смеянью-хохоту (хо-хату) и желанью-хотенью (хатенью). Отсюда все “отражения” хлебниковского стихотворения. Прысканье от хохота. Отходить в покой — не только отдыхать, но и удаляться в покои под крышу. Жница-времиня бритвой жнет нивы волос, где прыщи и угри оставляют лицо некрасивым, но само деяние получает ранг высочайшего (haut) обряда.
Сходятся все действия в том, что ‘жать’ означает не только сельско-хозяйственные работы, но еще и давить, держать под прессом. Такое прысканье под давлением выявляет еще одну проблему желания-охоты, оно неизбежно ведет к занятиям письменным — к печати, прессе. К чему и устремляется все почтовое волеизъявление юного корреспондента: 31 марта 1908 года Хлебников отправил это стихотворение (и еще 11 других) на суд Вячеслава Иванова. Входя в раж, словесность отражается и в уродстве, а сыпь и рвение доводят до вдохновительного порыва — текст рассыпается до рассеяния и возрождается вновь.
В одной из таких хат-вселенных по имени Рассея жил этот воинственный ратник-славень в ту пору, в тот миг, когда с шумом и блеском все распалось на куски... Это был грохот Цусимы и осколки зеркала первой русской революции.
И завершу свой спагетти-вестерн опять же высказываниями воинственного Ронена о головоломках. Чуть раньше, в эссе «Грусть», Омри собственные пристрастия к шифрам приписал неким отвлеченным знакомцам:
Из этого высказывания (и того, что следует далее) опять явствует, что, по мысли автора, “поговорочная” разгадка стихов у Пастернака мелко плавает. Кто согласен, пусть первым бросит камень и в Хлебникова. Что-то я не слышу свиста…
P.S. Выловив в интернете идиому “To kick the bucket” и руководствуясь своими слабыми познаниями в идиш, я бы попросила поглядеть вверх, на букет Хаима Сутина, но это разухабистое “колотить по ведру” переводится как печальное ‘умирать’ (впрочем, в его более грубом изводе).
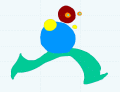
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 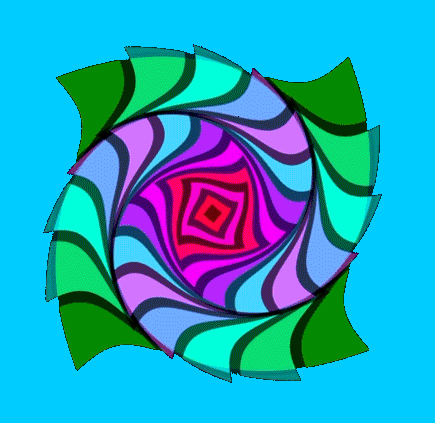 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||