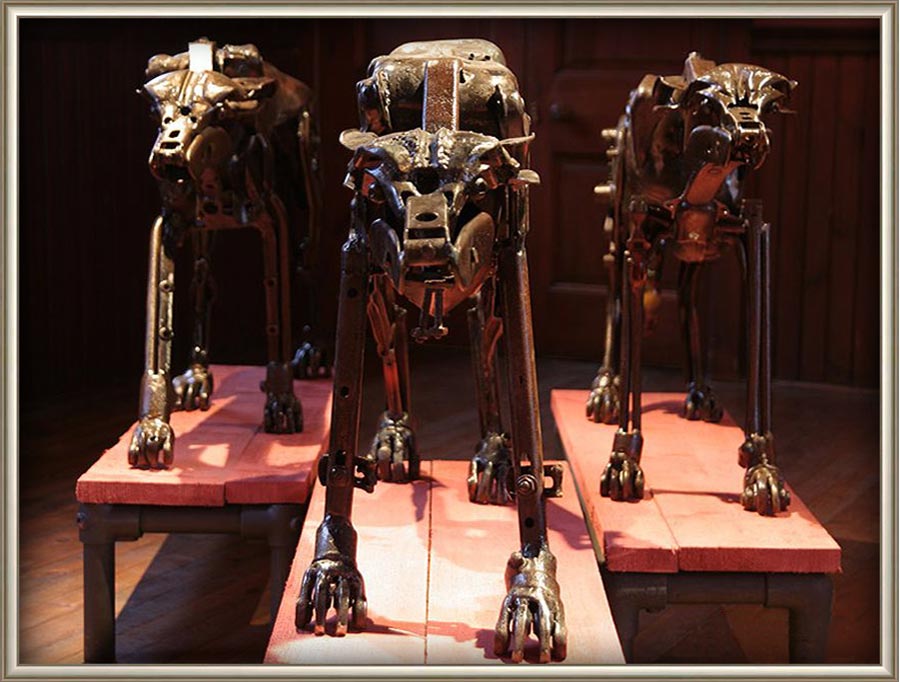
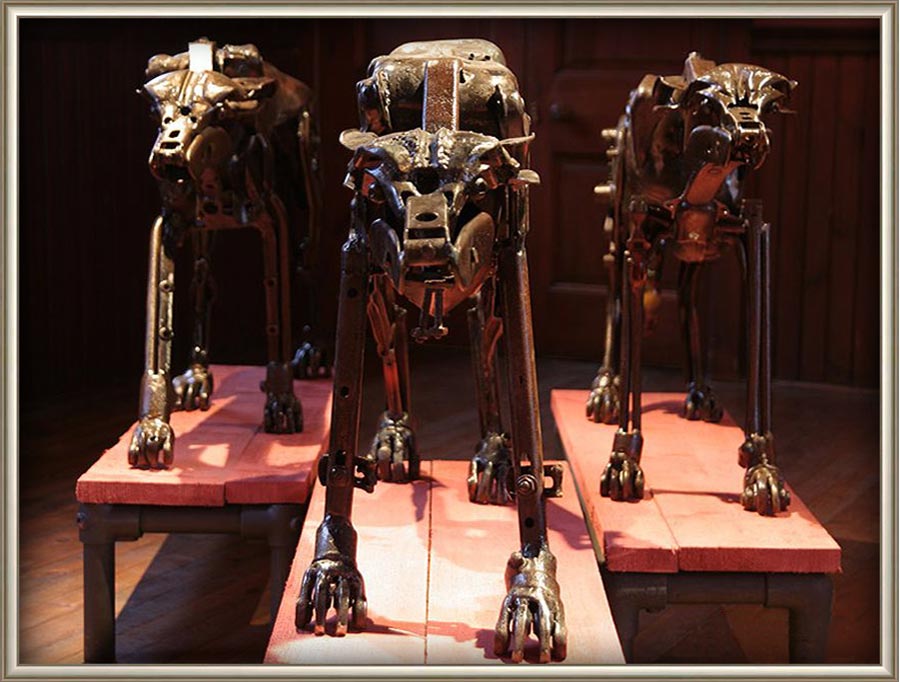
Нам не избежать сравнения нового издания Дуганова с предыдущим, подготовленным самим автором в «Советском писателе» под названием «Велимир Хлебников. Природа творчества» (1990). С теперешним титулом произошел некоторый конфуз, томик именуется «Велимир Хлебников и русская литература». Классический случай обманутых ожиданий, так как речь идет не о взаимовлияниях, ни даже о привычной интертекстуальности, а всего лишь о насельниках коммуналки. Взяты шесть текстов о Хлебникове из предыдущего сборника и четыре статьи из периодики — о русском театре. Некоторая странность наблюдается и в текстологии. То ли Дуганов при жизни сильно сокращал и переименовывал свои хлебниковские статьи (что вряд ли), то ли редактированием, не пошедшим на пользу внятности, занимались нынешние составители и издатели.
Евгений Арензон зря написал предисловие под названием «Памяти Р.В. Дуганова»: призванное живить и продлевать живой опыт дугановcкого наследия, оно заупокойным колоколом самого названия всё напоминает о смерти мэтра. И «Памяти...» звучит как надгробная речь, которой нет конца. По Арензону выходит, что хлебниковедения не было и вовсе, пока в 1958 году первокурсник МГУ Рудик Дуганов (так любя называет его Арензон) не поставил перед собой задачу „конгениально интерпретировать гения авангарда” (с. 3). Ну а далее космогония этой интерпретации прояснилась сама собой.
Поговорим подробно о заглавной статье сборника — «Краткое “искусство поэзии” Хлебникова». Этот индрик считается вершиной дугановского творчества. С одним только положением этой статьи согласимся: четырехстрочное стихотворение Хлебникова — маленький шедевр. Все остальные утверждения или вызывают возражения или заставляют малосольно млеть от пряных снадобий академической риторики. К тому же из статьи исчез тщательный анализ хлебниковских вариантов этого текста, проведенный в предыдущей книге, а это уже граничит с передергиванием. О границах этого наш интерес. Вот этот текст:
На двенадцати страницах Дуганов приводит схему “движения гласных”, анализ фонической и ритмической структуры стихотворения, рассуждает об онатоморфном пейзаже в форме заклятия именем, о круге единого языкового сознания, об имени третьего порядка, о скрытой антисимволистской полемике Хлебникова с Верленом, об интегрально-синтетическом методе поэтики, о философии Вл. Соловьева и А.Ф. Лосева, маньеристской и сюрреалистической живописи и т.д. и т.д.
Все это ни на йоту не сдвигает нас в понимании стихотворения. Как оно построено? Дуганов полагает:
Все очень мило, но только одна маленькая рапортичка: сам Хлебников ничуть не считал свой опус законченным. Обыкновенно, когда подворачивался удобный случай, он всё своё норовил дописывать и переиначивать. Так обстояло дело и с «О достоевскиймо…». Дуганов в прежнем варианте своей статьи вынужден был, недоумевая, признать, что Хлебников… испортил свой шедевр. Приведя четвертый вариант стихотворения (во всех прежних варьируется только четвертая строка с замирным и безмерным), он пишет:
Когда пою, мне звездыПодразумеваемое “лирическое” начало здесь откровенно выходит на первый план. А далее, в следующих трех стихах мы видим не что иное, как перевод “Заклятия именем” на звёздный язык.
Хлопают в ладоши.
И за-за сине-белых туч,
И вэ-ва мощных солнц,
И го созвездий, черных и великих.
Таким образом, у четверостишия было продолжение, но Дуганов в угоду собственному толкованию отбросил его. А ведь между тем Хлебников ещё продолжил: Вот улица несется на коньках / На ледяном полу и добавил в сторонке, на полях: Предместье — лыжебежец. Но разбежавшись, поэт не остановился — ему не хватило места на странице, и потому через два листа он дописал (теми же чернилами и тем же специфическим почерком):
Теперь это известный финал стихотворения «Моряк и поец», но эти строки надо читать вместе с «О достоевскиймо…» Надеемся, эту наидосаднейшую ошибку исправят будущие издатели “Гросбуха”. Но и сейчас ясно как божий день, что при такой текстологической рекогносцировке, дугановский анализ вообще теряет всякий смысл. Хлебниковское «О достоевскиймо…» просто не о том! Звезды у Хлебникова хлопают в ладоши, как в «Петербурге» Пастернака: „Пристани бьют в ледяные ладоши”; оттого улица Млечного пути несется на коньках как конькобежцы пастернаковского «Зимнего неба», а созвездье Девы чокается перевернутым «Черным бокалом» пастернаковского небосвода: „Чокается со звонкою ночью каток”. Хлебников только делал вид, что Пастернак его не интересует — интересовал, да ещё как!
Присмотримся же внимательнее к достоевской туче, и к тому, что в ней кроется смешанно-иностранное. Любителям комнатного цветоводства хорошо известно растение, которое в быту зовут “денежным деревом”, а ещё его именуют “толстянкой”, что является калькой, переводом латинского названия crassula.
Вот эта красота провоцирует веер смыслов, образует словесные цепочки, “работающие” в поэтической речи. Благодаря латыни от русского понятия ‘красивый’ разбегаются волны. Сrassus (лат.) — тучный, толстый, густой, плотный, полный, жирный. Но и это ещё не все, так как сама ‘красота’, ‘красавица’ (belle франц.) имеет во французском языке разговорное значение — побег, бегство. Вот теперь можно вернуться к всеобщему свету (и цвету) — белый. Потому обычно хлебниковские красавицы — тучные, и уж если сине-белые тучи бегут, то красота будет пушкинианской, а ночь — полной (то ли звезд, то ли жирной ухи).
Наконец замерцало главное деепричастие текста, последнее слово стихотворения «О достоевскиймо…» — полня. Если что-то спрятано в тучах, то оно тучное — полное. Полнота хлебниковского универсума слегка смешлива и немного навеселе. Слова раскалываются и раскрываются сами собой: о Достоевский, твои достоинства не в стоянии, а в красивом побеге, ты — мо (mot), слово бегущей тучи. Тобою тоже сmotрится ночь. О Пушкин, ты и красота и ноты млеющего полдня, ты закон, зенит и канон — высшая нота песнопения и пушка (canon, Kanone, cannone — франц., немец., итал.). („Верую”, — пели пушки и площади, — скажет позже Хлебников.)
Дальнейшее дописывание «О достоевскиймо…» опиралось на небосвод как на звёздный Город с улицами-катками и лыжнёй предместий. И тема города возникла не случайно, так как хлебниковский белокаменный Город — лакомка и толстяк.
И, пожалуйста, не нужно недоуменно пожимать плечами — ведь всем известно, что Хлебников непрестанно рылся в словарях. И не впустую. (Мы привели только малую толику из цепочки “белый — беглый — бегущий — красивый — тучный — полный”).
Тривиальный “предмет созерцания”, в поисках которого пребывает Дуганов, у Хлебникова начисто отсутствует. Предметы текучи и зависят от созвучий, они переплавляются и, плавясь, выныривают всякий раз в неожиданной личине. Слово выступает самовитым актёром на этом театре избыточности — в весёлых переплесках и в единстве вообще мировых языков (по признанию Хлебникова). Тут озарение шествует рука об руку с хитроумием и изобретательностью. „Без плана, вспышками идущее сцепленье: / Мое мучение и мой восторг оне” (И. Анненский). Такое искусство управления словами принципиально не может быть ни кратким, ни замкнутым, занимаясь самовоспроизводством, перепевом или клонированием. Порой у кичливого недоумия оно даже ставит под вопрос самое себя: да помилуйте, искусство ли это? А может, графомания? Называйте как угодно, только читайте внимательно. Вариаций несметное изобилие и все они неожиданны. Перед нами сейчас прошла только одна цепочка из великого множества.
А ведь мы не успели поговорить о Малявина красавицах, которым неприятен немец, упитанный толстяк (вероятно, Бог в цепях цеппелина), и о тучных красавицах-сестрах, божествах белей сметаны (и вообще о тучности и полноте поэтического универсума). И о масленичном Поэте, Музы которого — Мадонна и донная Русалка. А ещё о Горе и его антиподе — Смехе, веселом, тучном и белом .… И о Городе будущего не сказали ни слова… И о белокаменной Москве — квакающей лягушечке, что толста, низка и в сарафане, о драмах «И и Э», «Чёртик», «Госпожа Ленин» и «Боги»…
Драматическая поэма Хлебникова «Гибель Атлантиды» (1912). Поэт предъявляет свой извод гибели города. И его выдуманная история нисколько не напоминает о холсте Л. Бакста «Древний ужас», к которой сводит свои изыскания Дуганов:
Ничего похожего — у Хлебникова вовсе своеобычная интерпретация наводнения, где и Атлантида-то существует только в названии. Потоп, обрушившийся на город (а именно городом, а не материком предстает Атлантида), случается из-за расстроенного равновесия. Как только полнота и гармония этого топоса были нарушены — немедленно воспоследовало утопление. Мир города держался на неустойчивом балансе, на коромысле сосуществования двух особей — божественного жреца и низменной рабыни. Он пожиратель чисел, холодный и мудрый созерцатель, она — беспечная жрица любви; он звериной гордости воин, она — явление похотливого веселья; их классические составляющие — разум и сердце, рассудок и чувство, мысль и страсть, душа и плоть. Когда жрец в своей непомерной гордыне отсекает мечом голову красавицы, на миг бухгалтерские счета прихода и расхода не сходятся. Но ненадолго, так как качели мира восстанавливаются, но верх и низ меняются местами. Голова низменной красавицы взмывает вверх, к тучам, и плывет над гибнущим городом ужасающей Медузой Горгоной с волосами-змеями. Удел верховного жреца опускаться вниз, на дно, вместе с проклятым городом, принявшим кару потопа. Красота не спасла, а утопила мир. Платон о такой версии гибели Атлантиды не помышлял.
Споры по поводу каноничности текстов — пустое занятие: у Хлебникова нет последней авторской воли. Но это вовсе не значит, что написанные Хлебниковым и отданные им в печать поэмы следует своевольно перекраивать. А именно таким амикошонским авантюризмом заражен Дуганов. Статья Дуганова о глобальной реконструкции хлебниковской «Ночи в окопе» в “прогресс-плеядовский” сборник не вошла, но в новом собрании сочинений текст Хлебников опубликован так, как Дуганов за него придумал! Это ли не тайная мечта любого филолога — конвертировать свою литературоведческую отражательность и вторичность на литературную оригинальность! Да, но причем здесь цирлих-манирлих под названием наука?
Чем же стала неугодна смелому интерпретатору Дуганову хлебниковская «Ночь в окопе»? Рукопись поэмы не сохранилась. Набиралась книга в Москве, и Хлебников получил уже готовое издание, которое, надо отметить, с удовольствием дарил — сохранились экземпляры с его инскриптами. Следовательно, сам автор существенных претензий к издателям и типографии не имел.
Но по разумению Дуганова страницы рукописи были перепутаны, текст искажен, логические связи нарушены — и потому, элегантно “проанализировав” событийную последовательность, он предъявил новый текст — им абсолютно придуманный. Навеки искалеченный текст поэмы поневоле читайте в новом Собрании Сочинений Велимира Хлебникова (т. 3, с. 221–228), а статью Рудольфа Дуганова о ее реконструкции см: http:/www.ka2.ru/nauka/duganov.html
Дуганов безапелляционно полагает:
Всё, можно торжественно зачеркнуть все дальнейшие дугановские рассуждения, построения, исправления хлебниковских “дефектов” и “композиционных бессмыслиц текста”, они гроша ломаного не стоят из-за этого ошибочного представления о „дне”, „бое”, „победе красных”. Если сказано — ночь в окопе, значит — ночь. И что происходит в окопах, на которые опустилась ночь?
Нужно ответить на хрестоматийные, самые простые и естественные вопросы: О чём поэма Хлебникова? Для чего в ней создано впечатление нарушений временнóй и логической последовательностей? Зачем появляются фантастические голоса, образы, видения — Москвы, механического чудища-танка, скифской конницы, вождя? Ответ прост: рядовые окопов — братья, равные перед лицом смерти. Страшная героиня его поэмы, загоняющая воинов в могилы и именуемая эта тётя, — болезнь, сыпной тиф. Боя не будет. Каменные бабы древних могильников стоят сторожами в степи, где друг против друга в ночных окопах междоусобицы залегли красные и белые, воины Алой и Белой розы. Боя не будет, так как всех одолеет повальный мор Черной розы, финал поэмы это удостоверяет: Скажи, суровый известняк, / На смену кто войне придет? / — Сыпняк!
И потому поэтическое повествование перемежается галлюцинациями, вызванными тифом, о чем свидетельствует восклицание в центре поэмы: Проклятый бред! Молчат окопы, / А звезды блещут и горят... / Что будет завтра — бой? Навряд. Сыпняк не только болезнь, он символ сыпучести земли, которая погребет враждующие стороны “одноплеменного народа”, превратит живых, поющих и мечтающих людей в засыпанные курганные кости. Повести временных лет этих “бешено орущих костей” и будут изучать потомки, курганы расскажут им свою “историю болезни” — горестную былину революционного сдвига и переворота. Сам поэт — в сыпном тифозном бреду, где перед его мысленным взором проходят и застывшие древние изваяния каменных баб, и мчащаяся конница из Чартомлыцкого кургана, и древние мощи русских чудотворцев.
Хлебников по себе знал, что такое сыпняк, — незадолго до «Ночи в окопе» он перенёс два тифа. Но дело не в биографической подоплёке. Внутренняя форма — закон всему. Далёкое от медицины (и от тифа) слово, управляющее хлебниковской поэмой, — rétif. (Косвенно, через Романа Тименчика, и по другому поводу на него обратила наше внимание киевлянка Полина Поберезкина.) Это французское понятие говорит о человеке (и коне) — артачливом, строптивом, упрямо-непокорном. Именно так Хлебников описывает в поэме ретивого вождя Ленина, который жаждет, чтоб земля покорней трупа / ‹Его› доверилась рукам. В системе регрессий, подобных возвратному тифу, описаны и обманные волны моря то наступающие на Москву, то скатывающиеся на юг, так поступательно “пануют” в поэме и сыны обмана (наваждения) — ретивые всадники, то восстающие из своих могильников, то рассеивающиеся миражем, оставляя только “шорохи и звуки”. А вся поэма повествует о невозможности боя, бранного сражения, того, что прежде именовалось словами ‘пря’ или ‘реть’.
Собственная беспомощность в анализе поэзии не мешает Дуганову наитеоретически поучать других: „Невнимание к глубинным структурам хлебниковских произведений — не случайность. Это неизбежное следствие почти суеверного представления о какой-то принципиальной иррациональности и алогизме хлебниковской поэтики, которое исключает всякое стремление понять его художественную мысль” (с. 218). Что верно, то верно — невнимателен и сам Рудольф Валентинович.
В ранней хлебниковской драме «Чёртик» Лукавый, который любит посещать обедню в день кончины Чайковского, ведет учтивую беседу с девицами и приглашает их к себе в гости. Они охотно принимают приглашение, а одна считает нужным оправдать свой выбор:
Свои убеждения, требующие отдельного комментария, Чёрт приводит почти под присягой: он клянется собственным хвостом (естественным дополнением к людям установленного образца), то есть попросту доморощенный петербуржский Мефистофель — хвастун.
Комментарий Дуганова к этому пассажу из подготовленного им совместно с Арензоном Собрания сочинений Хлебникова:
На самом деле, гороховая дочь Германии — это колбаса из гороха, которой кормили немецкую армию.
А чем кормят нас?
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 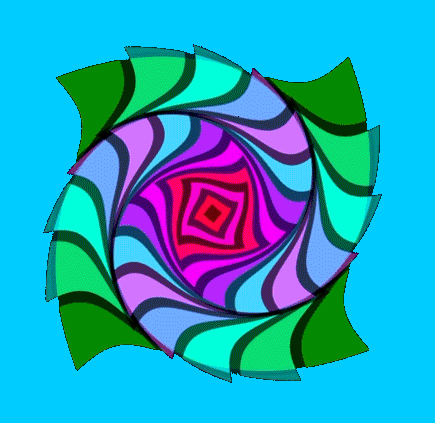 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||