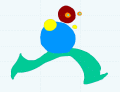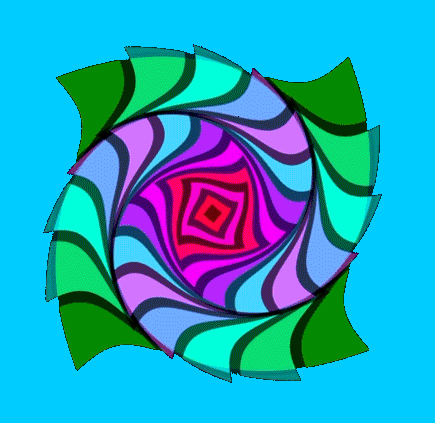Валентина Мордерер
По следам. XVII
Продолжение. Предыдущие главы:
















По тяге поле
Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать —
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.
Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льёт
Слёзы; тоже мечет взгляды
Мимо, — словом, тот же лёд.
Борис Пастернак. Между прочим, все вы, чтицы…
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд. Критик как художник
Смех — древнейшая реакция на вызовы жизни,
и сохранилась она лишь у художников и бандитов.
Оскар Уайльд. Письмо к Роберту Россу

амый популярный элемент в составе земной коры — кислород, его кларк — 47%. В моей эпиграфике “оскар-уайльдовский” кларк приближается к 50%, но преодолеть соблазн я не смогла и привожу ещё один афоризм Уайльда, резонно утверждавшего, что „единственный способ отделаться от искушения — уступить ему”. Потому покоряюсь своей давней мечте об экспериментальном тексте, иллюзия которого сродни стараниям некоторых художников устроить живопись так, чтобы картина держалась на стене без гвоздя.
Мои претензии, при всём том, попроще: предполагается, что в создаваемой экспликации причинно-следственная подгонка цитатного каркаса позволит строению держаться почти без скреп.
Отказ от пространных смычек и мостиков ведёт к сугубой эллиптичности сценического действа, предвидит выпадение настойчивых сравнений и толкований,1 располагает читателя к свободе домыслов. Или, если по-научному, то этот бойкот допускает “неустойчивости Кельвина-Гельмгольца”, которые в быту именуются незатейливым „хотите верьте — хотите нет”.
располагает читателя к свободе домыслов. Или, если по-научному, то этот бойкот допускает “неустойчивости Кельвина-Гельмгольца”, которые в быту именуются незатейливым „хотите верьте — хотите нет”.
Возложенная на себя миссия — Хлебников у Бродского,2 — как и полагается по киношной формуле, оказалась невыполнимой. В том смысле, что объём при накоплении наблюдений, как ласточкино гнездо при варке, распух впятеро. Приходится идти на размежевание угодий, что мне не впервой.
— как и полагается по киношной формуле, оказалась невыполнимой. В том смысле, что объём при накоплении наблюдений, как ласточкино гнездо при варке, распух впятеро. Приходится идти на размежевание угодий, что мне не впервой.
Поначалу целью была “птичья” поэма Иосифа Бродского «Осенний крик ястреба», но теперь она отодвинулась во вторую часть господарства, при том, что название сохранилось — «По тяге поле». Даль объясняет, что речь идёт о податях, повинности, тягле — „Кто за сколько душ тянет, столько и землицы берёт”. Но мне больше по вкусу собственное, орнитологическое, толкование. „По тяге и поле”, то есть, где дичь летит (тянет), там на неё и полюют (охотятся).
Предуведомление затянулось, пора переходить к сути, которая состоит в том, что фамилии Хлебникова и Бродского с точки зрения обоих поэтов синонимичны. Латентно они почти что тёзки, а это очень действенный резон для одностороннего внимания (первый контрагент лишён был таковых возможностей по обстоятельствам времени).3 Интервью о метафизической поэзии, которое Бродский дал для радио «Свобода» имело внятную “шапку” — «Хлеб поэзии в век разброда», хотя полагаю, что название предложил, выявляя игру слов, собеседник и ведущий радиопрограммы поэт Игорь Померанцев.4
Интервью о метафизической поэзии, которое Бродский дал для радио «Свобода» имело внятную “шапку” — «Хлеб поэзии в век разброда», хотя полагаю, что название предложил, выявляя игру слов, собеседник и ведущий радиопрограммы поэт Игорь Померанцев.4
Своё отношение к Велимиру Бродский высказал опосредованно в разговоре с Соломоном Волковым: „Такое, кстати, вообще часто случается — поэту нравится как раз то, чего он сам в жизни никогда делать не станет. Взять хоть отношение Мандельштама к Хлебникову”.5 Из этих двух странных предпосылок я буду исходить, а начну и вовсе издалека. Оговорюсь при этом, что в отличие от заверений Льва Лосева о пользе и тактичности выбранных им для одного сборника статей о Бродском,6
Из этих двух странных предпосылок я буду исходить, а начну и вовсе издалека. Оговорюсь при этом, что в отличие от заверений Льва Лосева о пользе и тактичности выбранных им для одного сборника статей о Бродском,6 я гарантировать ни того, ни другого не смогу.
я гарантировать ни того, ни другого не смогу.
Мое внимание к весеннему стихотворению Бродского привлекла занимательная сноска. Привожу полностью и то, и другое.
Восславим приход весны! Ополоснём лицо,
чирьи прижжём проверенным креозотом
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса — радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрогнув, себя застаёшь в грядущем.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.
Денис Ахапкин комментирует:
Впервые: Континент. 1978. № 18 — под заглавием «Ода весне».
…
туда же, куда ведут следы / государственных преступлений — т.е. за границу; Ю.М. Лотман и М.Ю. Лотман приводят это стихотворение в качестве примера вытеснения ключевого слова из текста: „О важности категории границы свидетельствует, в частности, и то, что слово ‘граница’ может подлежать семантическому анаграммированию — своего рода табуированию, вытеснению за границы текста” (
Лотман Ю.М., Лотман М.Ю. Между вещью и пустотой: (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») //
Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т.
Таллин, 1993. Т. 3. С. 294–307).
7
Всё было бы ладно, вот только зачем ящерицам и оленям устремляться заграницу? Русский язык так устроен, что ему никакие фрейдистские советы не требуются, слово само себе указ, а в поэзии оно законно ищет себе пару. В первой же строке поэт ополаскивает лицо водой. Весна — время, когда снег тает, птицы будят леса. Глагол будить оказывается родственником будущего, которое оплодотворяет зерном землю. Весна — пора воды (влаги) и осеменения. Дважды повторен глагол ‘наполняет’, причём второй раз время работает, “как двигатель прогресса”,8 а маятник часов ёрнически указует на обстоятельство образа действия: „наполняет часы ихним туда-сюда”. Всего-то и следует понять, что “родственными” словами оказываются влага и влагалище, место, куда устремляется весной вся природа. Туда же тянутся и шпионские следы, ибо государственный преступник влагает секретные материалы в тайник.9
а маятник часов ёрнически указует на обстоятельство образа действия: „наполняет часы ихним туда-сюда”. Всего-то и следует понять, что “родственными” словами оказываются влага и влагалище, место, куда устремляется весной вся природа. Туда же тянутся и шпионские следы, ибо государственный преступник влагает секретные материалы в тайник.9 Да-да, уподобляясь шестикрылому серафиму. Собственно, установление связей поэтического говорения с генитальными атрибутами и есть постоянная озабоченность Бродского.
Да-да, уподобляясь шестикрылому серафиму. Собственно, установление связей поэтического говорения с генитальными атрибутами и есть постоянная озабоченность Бродского.
Только не пристало думать, что он в этом одинок. “Эротика стиха”10 — предмет постоянного внимания поэтов, и отличает эту тему только разная степень прикровенности и остроумия. Как и обещала, приведу всего несколько примеров, делая упор на неожиданности.
— предмет постоянного внимания поэтов, и отличает эту тему только разная степень прикровенности и остроумия. Как и обещала, приведу всего несколько примеров, делая упор на неожиданности.
Мандельштам, из «Воронежских тетрадей»:
Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен
взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, — без языка — тиха:
Уже я не пою — поёт мое дыханье —
И в горных ножнах слух, и голова глуха...
Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов — смола.
Песнь одноглазая, растущая из мха, —
Одноголосый дар охотничьего быта, —
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.
8 февраля 1937
Пожалуй, к “бесхитростности” и влажным вольностям этого стихотворения добавлю только перевод „горных ножен”: латинское слово vagina означает ножны, чехол; влагалище. Остальное предоставляю во власть подозрений и трудолюбия читателей. Ещё только пара-тройка честных примеров из Мандельштама:
Глазели внутрь трёх лающих порталов
Недуги — недруги других невскрытых дуг. ‹...›
И, влагой напоён, восстал песчаник честный…
Реймс–Лаон. 4 марта 1937
Чур-чур, меня! Далёко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.
Из цикла «Армения». Осень 1930
Или поразительный по смелости кульбит из «Восьмистиший»:
Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко —
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, —
Как будто в руку вложена записка
И на неё немедленно ответь...
Май 1932 – февраль 1934
Неназываемый объект описан как придаток шестого чувства — чувства любовного. Предмет вожделения замещён рядом сообразных символов — глаз, створки раковины, сжатая в кулак ладонь. В восьмистишиях (да и в «Грифельной оде») речь всё время идёт о чем-то парном как скобки, параллельные прямые, как знак равенства (=), но одновременно и созвучном, эхоподобном, мгновенно откликающемся, ответствующем. Или повествуется о царапинах, чертах, порезах, стыках, куда следует “вложить персты”. И в одночасье зазор перестает быть зазорным, метафора, как перчатка выворачивается наизнанку — речь интимно идёт о рифме (напоминаю, что в латыни rima — трещина, щель, скважина).
Всего лишь один пастернаковский модуль приведён в эпиграфе, не буду перегружать текст дальнейшим побочным цитированием, ведь я избрала ряд “Хлебников — Мандельштам — Бродский”. Вне сомнений, поэтические экзерсисы с эротической окраской выстраиваются по линии вовсе не родственных грамматически слов: влага, влажный — влагать, влагалище, вложить, вложение с дальнейшими производными — ложе, ложь, лгать и т.д. Вот отчего, в частности, у Мандельштама порталы соборов лающие (англ. lie — ложь, неправда, обман; лгать, обманывать).
И напоследок обширная цитата из мандельштамовского «Разговора о Данте»:
Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуке, но не одним, а множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство существует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд. ‹...›
Здесь луны многочленного маятника раскачиваются от Брюгге до Падуи, читают курс европейской географии, лекцию по инженерному искусству, по технике городской безопасности, по организации общественных работ и по государственному значению для Италии альпийского водораздела.
Мы — ползающие на коленях перед строчкой стиха, — что сохранили мы от этого богатства? Где восприемники его, где его ревнители? Как быть с нашей поэзией, позорно отстающей от науки?
Страшно подумать, что ослепительные взрывы современной физики и кинетики были использованы за шестьсот лет до того, как прозвучал их гром, и нету слов, чтобы заклеймить постыдное, варварское к ним равнодушие печальных наборщиков готового смысла.
Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает.
Не сочтите за труд, и перечтите, пожалуйста, после этого загадку Бродского о „следах государственных преступлений” или про „верхом и на верхах” Мандельштама.
Речь далеко заводит не только поэтов. Непроизвольно возникает вопрос: „А где же Велимир?” Пожалуйста. Ранняя хлебниковская поэма «Журавль» (1909) начинается с картографической привязки, мрачное действо зарождается в Петропавловской крепости, возле усыпальницы русских царей:
На площади в влагу входящего угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей,
Там мальчик в ужасе шептал: „Ей-ей!..”
Подробности нам сейчас и не нужны, достаточно того, что чудовищная птица железной цивилизации (журавль) имеет и другое название: подъёмный кран.11 Угол, входящий во влагу, — это мыс. Ещё один маленький шажок — и мы получим олицетворение крупной вещи Бродского «Колыбельная Трескового Мыса» (1975). С оглядкой или нет на Велимира написана поэма, утверждать не берусь, но поэты пребывают в едином “рельефном” пространстве. То, что у Хлебникова стёрто невнятицей описательных скачков, у Бродского проговорено с бравадой бахвальства:
Угол, входящий во влагу, — это мыс. Ещё один маленький шажок — и мы получим олицетворение крупной вещи Бродского «Колыбельная Трескового Мыса» (1975). С оглядкой или нет на Велимира написана поэма, утверждать не берусь, но поэты пребывают в едином “рельефном” пространстве. То, что у Хлебникова стёрто невнятицей описательных скачков, у Бродского проговорено с бравадой бахвальства:
Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдаётся во Время.
Позже Велимир открыто продемонстрирует связь влаги с детородными органами, он представит Революцию новой Кипридой, возникающей из морской пены:
В этот день, когда вянет осеннее,
Хороша и смуглей воскресения
Возникала из моря свобода,
Из груды чёрных мяс,
Из закипевших в море членов,
Мохнатых гор зачатия и рода.12
Сейчас у исследователей есть тенденция объяснять интерес к телесному низу у современного поэта одной из составляющих его фамилии — Бродский. Мои старательские усилия при всём при том сосредоточены на глаголе бродить и его отчётливой связи с хлебом. И потому, если нежданно в стихотворении о географии затевается брожение в осоке лошадей Пржевальского, то я начинаю слышать Хлебникова там, где его никто не слышит. Приведу стихотворение Бродского целиком, опять в сопровождении Дениса Ахапкина. Пояснения на сей раз обширны и информативны, так как у исследователя есть специальные статьи, посвящённые этому тексту. Но, судя по комментариям, будетлянин в отлучке.13 Мне поручается подвести фигуру Велимира к Урании Бродского.
Мне поручается подвести фигуру Велимира к Урании Бродского.
К Урании
И. К.
У всего есть предел: в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днём, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрыла,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо — город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как бельё с кружевами.
1981
Здесь наблюдаются отсылки к Хлебникову несомненные и скрытые, возможно, и необязательные. Очередь в ‘затылок’ выстраивается из знакомых имён: два ведомых Осипа за ведущим Велимиром, так как бродящие „лошади-пржевали” самоочевидны. Движение в пространстве протекает по евразийской карте после бытового утверждения “можно налить воды”: от моря и до моря, с севера (СПб) и до юго-востока (Владивосток). Черта проведена в пространстве от точки до точки и завершается кораблями боевой линии, линкорами. Время задано листом календаря, образующим лиственный узор чугунной решётки ограды. К этой пастернаковской метафорике, излюбленной Бродским, я ещё вернусь, отметив только незаметное участие в ней Велимира. В том самом раннем «Журавле», действие которого вершится в Петербурге:
Чугунные решётки — листья в месяц осени…
Стих переполнен цифирью: от бесконечного множества переходим к пределу, неожиданный дромадер (одногорбый верблюд) возникает из одиночества — это единица, кол. Портьера и рельсы раскалываются на счёт два; квадрат окна даёт четыре; в ключах скрыты Клио и ноты — пять линеек; а дальше опять россыпь, полная ягод и телефонных номеров.
Верблюд пустыни может напомнить о чернильнице Ирана, так как черника и белуга — символы букв на бумаге, лес ведёт к словарю цветов (запомним на будущее), а реки со скатертью-самобранкой, где сказочно ловят рыбу, отсылают к «Иранской песне» Хлебникова:
Как по речке по Ирану,
По его зелёным струям,
По его глубоким сваям,
Сладкой около воды
Ходят двое чудаков
Да стреляют судаков.
Глобус — естественная принадлежность Председателя Земного Шара, но самым безусловным и нежданным текстуальным атрибутом Велимира оказывается последняя строка с “кружевным бельём”. И чтобы увидеть, откуда она взялась, заглянем в наиболее хлебниковское стихотворение Бродского, мимо которого ещё никому не удавалось проскользнуть. Написано оно на шесть лет раньше, но метафора не обветшала, а лишь видоизменилась до неузнаваемости. Впрочем, и в первичном состоянии она не была опознана. Выделю её шрифтом Arial.
Михаилу БарышниковуКлассический балет есть замок красоты,
чьи нежные жильцы от прозы дней суровой
пиликающей ямой оркестровой
отделены. И задраны мосты.
В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которою не ляжешь,
одним прыжком выпархивает в сад.
Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангела добра
в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
овация Чайковского и Ко.
Классический балет! Искусство лучших дней!
Когда шипел ваш грог, и целовали в обе,
и мчались лихачи, и пелось бобэоби,
и ежели был враг, то он был — маршал Ней.
В зрачках городовых желтели купола.
В каких рождались, в тех и умирали гнёздах.
И если что-нибудь взлетало в воздух,
то был не мост, а Павлова была.
Как славно ввечеру, вдали Всея Руси,
Барышникова зреть. Талант его не стёрся!
Усилие ноги и судорога торса
с вращением вкруг собственной оси
рождают тот полёт, которого душа
как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчёт того, где выйдет приземлиться, —
земля везде тверда; рекомендую США.
14 1975
1975
Из собственных наблюдений, впрямую не относящихся к Хлебникову, приведу только несколько. Что скрывается за врагом — внезапным маршалом Неем? Просто-напросто английское значение слова: nay — отрицательный ответ, отказ, запрещение. В стихотворении десять раз в различных сочетаниях повторено “не”, а речь, следовательно, идёт о том, что в прежние времена (в отличие от советских) запреты и “отказы” не существовали (вот здесь как раз подразумевается выезд заграницу). Имя наполеоновского маршала и „элизийская спячка”15 переносит действие на Елисейские поля, в «Париж» (1923) Мандельштама:
переносит действие на Елисейские поля, в «Париж» (1923) Мандельштама:
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!
У Бродского: «И мчались лихачи…». Ещё более двусмысленно звучит в применении к Барышникову утверждение о сохранности как его призвания, так и его „барышей”: „Талант его не стёрся…”, где обыгрывается название старинной монеты. И опять отсылка к Мандельштаму, к его “пиндарическому отрывку” «Нашедший подкову» (1923) :
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепёшки
С одинаковой почестью лежат в земле,
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.
Земной шар в “балетном тексте” поддержан двояко — он и шар-‘балл’ из балета, и ‘терра’ из „стёрся”. Мост (Brücke), тоже повторенный дважды, подхвачен заменами штанов (трико и тем предметом, что в плюшевом кресле). А основным неприличием подъёмных мостов руководит именно классика, слово ‘старинный’ с его мнимо-латинской этимологией (sto — stetī, statum, stāre — стоять дыбом, торчать, вздыматься, подниматься вверх).16 Пока хватит.
Пока хватит.
Однако текст организуется неологизмом лебедиво — неназванным слово-знаком из хлебниковского «Крылышкуя…», а потому сам Велимир на пару с Мандельштамом вовсе не уходят в прошлое, не окаменевают в классицизме, а сберегают подмигивающие сигналы насмешек, которых и ждёт от них душа поэта.
Появившись здесь впервые у Бродского прилагательным к пачке, эвфемизм невыразимые перекочевало из стихотворения Велимира «Крымское» (1908):
Море гуляет среди нас,
Надев голубые невыразимые.
А дальше эти кальсоны Бродский преобразовал в кокетливое женское исподнее моря, да так, что их теперь не опознать:
‹...› и простор голубеет, как белье с кружевами (К Урании)
или
‹...› флигель, отстраняемый рыжей дюной
от кружевной комбинации бледной балтийской глади (Стрельна).
Теперь, если реагировать на семафор, одновременно посылающий слова лебедь, кузнечик, сцена, балерина, пачка, комбинация, то по этой избыточной триангуляции можно безошибочно диагностировать симптоматику большой вещи Бродского «Эклога 5-я (летняя)» (1981). Её первая часть соревнуется с ботаническим багажом Хлебникова, предъявляя вариации его стихотворения «В лесу (Словарь цветов)». Приведу только пять строф из финала первой части “эклоги”.
Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чабреца, тимофеевки — драгоценны
для понимания законов сцены,
не имеющей центра. И злак, и плевел
в полдень отбрасывают на север
общую тень, ибо их посеял
тот же ветреный сеятель, кривотолки
о котором и по сей день не смолкли.
Вслушайся, как шуршат метёлки
петушка-или-курочки! что лепечет
ромашки отрывистый чёт и нечет!
как мать-и-мачеха им перечит,
как болтает, точно на грани бреда,
примятая лебедою Леда
нежной мяты. Лужайки лета,
освещенные солнцем! бездомный мотыль,
пирамида крапивы, жара и одурь.
Пагоды папортника. Поодаль —
анис, как рухнувшая колонна,
минарет шалфея в момент наклона —
травяная копия Вавилона,
зеленая версия Третьеримска!
где вправо сворачиваешь не без риска
вынырнуть слева. Всё далеко и близко.
И кузнечик в погоне за балериной
капустницы, как герой былинный,
замирает перед сухой былинкой.
Во второй части эклоги Бродский проводит ряд комбинаций, заменяет синее бельё моря описанием голубых просторов атмосферы, пачку балерины перелицовывает в пачку ассигнаций (чьи акции лопаются, как стручки акаций), а «Лебединое озеро» замещает другим балетом Чайковского. В «Спящей красавице» юная Аврора (утрo) засыпает после укола веретеном пальца, а на прялке — „голубая кудель воздуха”.
Верное ставням, спальням,
утро в июле мусолит пальцем
пачки жасминовых ассигнаций,
лопаются стручки акаций,
и воздух прозрачнее комбинаций
спящей красавицы.
‹...› дальше попросту не хватило
означенной голубой кудели
воздуха.
Предполагаю, что “эклога” не в меньшей мере проговаривается об отношении Бродского к Хлебникову, чем стихи о классическом балете. Тот сеятель, на которого указывает, как стрелка компаса на север, весь состав “ботанической ризницы”, находится на сцене, не имеющей центра, он одинокий лицедей, пророчествующий о сеянии очей. К сеятелям Пушкина, Некрасова и других русских поэтов не применим ярлык о несмолкающих кривотолках (“любить-не-любить” луговых лепестков).
Бродский демонстрирует неплохую ориентацию в хлебниковском наследии. Шуршащие метелки “петушка-или-курочки” — из «Ночного обыска» (1921), когда пьяные матросы пророчат детской считалкой пожар:
Садись, братва!
— Курится?
— Петух!
— О, боже, боже!
Дай мне закурить.
Гадательный “чёт и нечет” ромашки — из «Точит деревья и тихо течёт…» (1919):
Точит деревья и тихо течёт
В синих рябинах вода.
Ветер бросает нечет и чёт,
Тихо стоят невода.
Леда в заумном бреду болтает то с лебедой, то с Лебедем-Зевсом. Детальное перечисленье аллюзий завершается повелительным заклинанием, обращённым к призраку Хлебникова: „Встань передо мной как лист перед травой”. Так богатырь вызывает своего коня, так “герой былинный, замирает перед сухой былинкой”, так меняются местами слова в перевертне: если „вправо сворачиваешь не без риска / вынырнуть слева”.
Вспомним хлебниковский афоризм И скорее справа, чем правый, / Я был более слово, чем слева («Вечер. Тени…», 1908). И не менее знаменитые качели Бродского в «Рождественском романсе» (1961):
‹...› как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
Но всё же помимо выявления сходств и признаний, едва ли не самое значительное — это независимая рука помощи, когда натыкаешься на нечто непонятное у Бродского, помогающее расшифровать ещё более непонятное у Хлебникова.
В “летней эклоге” природа ведёт себя, следуя весенним установкам, здесь тоже не обходится без первичных половых признаков, чья символика присвоена „ножнам осоки” и „минарету шалфея”. Но гораздо интереснее, отчего это строение названо „зелёной версией Третьеримска”, то есть перенесено в Москву?
Чтобы меня не заподозрили в напраслине, приведу еще два “исламистских” примера из Бродского. Начало «Речи о пролитом молоке» (1967):
Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражён Кораном.
Или еще похлеще, в стихотворении «Время года — зима…» (1967–1970):
Полумесяц плывёт в запылённом оконном стекле
над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.
Куполов, что голов, да и шпилей — что задранных ног.
Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим,
где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог,
где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.
Я предупреждала, что при демонстрации текстов буду обходить стороной оценочную риторику, почти не касаясь того, каковой была цель цинически-сниженной символики Бродского. Не буду приводить комментарии Льва Лосева по этому поводу, они тактичны, интересны, теоретичны и громоздки, так как простираются далеко, вплоть до эссе Бродского «Путешествие в Стамбул» (1985). И всё же они не отвечают на поставленный вопрос: отчего так настойчиво в стихах “омусульманивается” Москва?
Я и вообще умышленно почти не обращаюсь к идеологическим ресурсам поэтов оттого, что придерживаюсь совета незабвенного Козьмы „зреть в корень”. Буквально — в корнесловие. Потому мои “теории”, методики, разгадки просты и беспардонны, а главное — общеизвестны. Для решений поэтических шифров нужно элементарно искать словесный материал, которым оперируют остроглазые шутники-художники. Отсюда — совпадения исходных предпосылок у разных поэтов. Дальше они расходятся, и очень далеко (оттого общие признаки плохо опознаваемы). Мясом убеждений слово обрастает позже, тогда и превращается в мысль. Но чтобы получать суммы смыслов, достаточно докопаться до тех игр и проделок, к которым склонны слагатели слов и песен (не все).
И в данном, конкретном случае построение у Бродского проходит по линии простого созвучия — Москва= mosque; mosquée; Moschee = мечеть. Теперь уже и до мышей недалеко, попробуйте сказать, что это не трюизм.
Тут-то мы и получаем представление о том, из каких ингредиентов изготовлен фрагмент «Ночи в окопе» (1920) Хлебникова:
И пусть конина продаётся,
И пусть надсмешливо смеётся
С досок московских переулков
Кривая конская головка,
Клянусь кониной, мне сдаётся,
Что я не мышь, а мышеловка.
Клянусь ею, ты свидетель,
Что будет сорванною с петель
И поперёк желанья Бога
Застава к алому чертогу,
Куда уж я поставил ногу.
Вся центральная часть текста посвящена монологу Ленина, который назван не по имени, а перифрастично Лицом Монгольского Востока. Вот только этот Восток и эта Монголия, оказывается, простираются у Велимира не дальше Казани. Белые противостоят красным, белый вождь рвётся к московским колокольням, а красно-татарский Ленин стремится превратить Москву в мечеть, накормить голодающих кониной, и в частности, этой магометанской составляющей, по-видимому, объясняется его вредоносное отношение к православным храмам, куда он засылает любимых латышей. И всё это вершится под пение «Интернационала». Белый одержим мечтою, красный — мечетью.
Меня всегда удивлял не сам космополитизм Велимирова введения в сверхповесть «Зангези», а то, отчего довольно точный в деталях автор называет вопрос о конфессии московским, хотя он таковым нисколько не является. Хлебников пишет:
Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий.
Вероятно, это же словесно-подспудное “мусульманство” древней столицы позволило Хлебникову якобы перепутать города и в «Свояси» перенести свой текст о “зверях и верах” из Петербурга в Москву, переча самому себе: «Зверинец» написан в Московском зверинце.
И, наконец, таково же происхождение метафоры о трубах Замоскворечья, огонь которых напоминает о Гурриэт-эль-Айн:
Мы хотели всему дать свои имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьёвыми горами, город был цел.
Я особенно любил Замоскворечье и три заводских трубы, точно свечи твёрдой рукой зажжённых здесь, чугунный мост и вороньё на льду. Но над всем — золотым куполом — господствует выходящий из громадной руки светильник трёх завод‹ских› труб, железная лестница ведёт на вершину их, по ней иногда подымается человек, священник свечей перед лицом из седой заводской копоти.
Кто он, это лицо? Друг и‹ли› враг? Дымописанный лоб, висящий над городом? Обвитый бородой облаков? И не новая ли черноокая Гурриэт эль-Айн посвящает свои шелковистые чудные волосы тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие? Мы ещё не знаем, мы только смотрим.
Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.
Для первой части обзора осталось лишь одно стихотворение Бродского, предназначенное для выуживания созвучий с Велимиром из его строк. Формально продолжим присматриваться к морю, временам года и решёткам оград. Бродский преподнёс Анне Ахматовой стихотворение в жанре сонета, отмечая Новый год — 1965.
Сонет
Седой венец достался мне недаром...
Анна Ахматова
Выбрасывая на берег словарь,
злоречьем торжествуя над удушьем,
пусть море осаждает календарь
со всех сторон: минувшим и грядущим.
Швыряя в стекла пригоршней янтарь,
осенним днём, за стёклами ревущим,
и гребнем, ослепительно цветущим,
когда гремит за окнами январь,
захлёстывая дни, — пускай гудит,
сжимает сердце и в глаза глядит.
Но, подступая к самому лицу,
оно уступит в блеске своенравном
седому, серебристому венцу,
взнёсенному над тернием и лавром!
Этот сонет вовсе не без героя. Конечно, главный персонаж здесь сама царственная Ахматова, но верховное действующее лицо — море. А основной предмет притязаний в поэтическом турнире — „алмазный венец” Пушкина (доставшийся от Марины Мнишек). Море поначалу предлагает череду растительных подстановок. Взамен терния и лавра — осенние листья, затем янтарь, потом ослепительный гребень волн. Но всё это ничто в сравнении с седым венцом волос, доставшимся Ахматовой в муках “каторжных песен”.
Календарь и ‘удушье’ пришли в сонет из «Души» Пастернака, где февраль и волны наводнения заливают равелин, а далее следует сложная метафора с лиственной решёткой-месяцесловом.
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.
(Напоминаю, о том же у Велимира сказано: Чугунные решётки — листья в месяц осени…). Море, выбрасывающее на берег словарь, водворяется из хлебниковского «Морского берега», где сваи азбуки были вчера / Оцелованы пеной смертей, а “злословие” забредает из его же злобного «Моря», приносящего боль и гибель пловцам:
Почернел суровый юг,
Занялась ночная темень.
Это нам пришёл каюк,
Это нам приходит неман.
Судну ва-ва, море бяка,
Море сделало бо-бо.
Волны, синие борзые,
Скачут возле господина,
Заяц тучи на руке.
И волнисто-белой грудью
Грозят люду и безлюдью,
Полны злости, полны скуки.
В небе чёрном серый кукиш,
Небо тучам кажет шиш.
Эй ты, палуба лихая,
Что задумалась, молчишь?
Ветер лапою медвежьей
Нас голубит, гладит, нежит.
Будет небо голубо,
А пока же нам бо-бо.
Вот это инфантильное Велимирово бо-бо послужило импульсом для загадочного и травестийного стихотворения Бродского «Похороны Бобо» (1972). Но о нём — в следующий раз.
————————
Примечания  1
1 К числу существенных потерь относятся оставленные до лучших времен многочисленные стихотворные примеры. Мой опыт показывает, что внимание читателя ослабевает после десяти насыщенных страниц. Вина, конечно, лежит на конферансье.
 2
2 Разумеется, я хорошо знакома как с алфавитным указателем, так и с главкой «Бродский и Велимир Хлебников» книги Андрея Ранчина «На пиру Мнемозины. Интертексты Бродского» (2001).
 3
3 О жонглировании Велимира собственной фамилией написано в «Именитом конфетти», см.:
http://ka2.ru/nauka/valentina_19.html  4
4 См.: http://www.ruthenia.ru/60s/brodsk/pomeranzev.htm
 5
5 См.: http://lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt
 6
6 В предисловии к сборнику «Как работает стихотворение Бродского» (2002) Лев Лосев написал: „Ещё в середине 70-х годов один популярный международный журнал опубликовал стихотворение Бродского и интервью с автором под шапкой: “Поэт чертит карту своего стихотворения” (“A poet’s Map of His Poem”). Эта фраза, видимо, глубоко задела Бродского. Очевидно подставляя ‘критик’ на место ‘поэт’, он не раз с возмущением повторял: „Они думают, что могут начертить карту чужого сознания!” („They think they can map your mind!”). Мы надеемся, что в нашей книге таких бестактных и бесполезных попыток нет”.
 7
7 Комментарии Дениса Ахапкина здесь и далее цитирую по сетевой версии его книги «Иосиф Бродский после России» (2009), см.:
http://e-libra.ru/read/255270-iosif-brodskij-posle-rossii.html
 8
8 Из «Мексиканского дивертисмента» Бродского: „Хуарец, действуя как двигатель прогресса…”. Беспутное скоморошество распространено там же и на Бетховена, когда в письме императора Максимилиана рефреном-эвфемизмом проходит неотчуждаемый от тела „мой сурок”: „Меня убьют здесь, видимо. И мой / сурок со мною, стало быть. Ещё вам / моя мулатка кланяется. М”.
 9
9 Стандартное газетное сообщение: „Шпион был “взят с поличным” в момент
закладки тайника со сведениями для зарубежных спецслужб”.
 10
10 Так озаглавлен раздел в книге:
Г. Амелин, В. Мордерер. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама (2000). Название позаимствовано из статьи:
Сергей Мазур. Эротика стиха // Даугава, 1990, №10. Повторять сказанное в книге не буду, тем более, что за истекшее время материала для анализа прибыло. Скопирую только ещё раз цитату из труда Б. Эйхенбаума «Лермонтов» (1924): „Эротика, отличается ‹...› тем, что она для самых откровенных положений находит остроумные иносказания и каламбуры, — это и придает ей литературную ценность”.
 11
11 Решаюсь обратить внимание читателя (не всем дано помнить) на излюбленную Г.А. Левинтоном замену пушкинского „крана”
непристойным самоварчиком в стихотворении Хлебникова «Чёрный царь плясал перед народом…».
 12
12 Анализ указанного стихотворения см.
Ежи Фарыно. Несколько наблюдений над поэтикой Хлебникова (
В этот день, когда вянет осеннее...).
 13
13 Примечания Д. Ахапкина привожу в сильном сокращении.
К Урании («У всего есть предел: в том числе у печали…») Впервые: Russica-81: Лит. сб. / Сост. А. Сумеркин. New York, 1982.
Как отмечает В. Полухина, посвящено Инней Кеннелл, испанской художнице, знакомой Бродского.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы — эта строка отсылает к известному фрагменту романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок»: „Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная магистраль», на обложке которой был изображён верблюд, нюхающий рельсы”.
…оттого-то Урания старше Клио — эта мысль встречается у Бродского и в «Письме Горацию»: „Наше ремесло, боюсь, побивает историю и довольно сильно отдает географией. Общее у Евтерпы и Урании то, что обе старше Клио”.
…видишь, она ничего не скрыла — здесь противопоставление Урании и Клио развивается за счёт подключения традиционных аллегорических изображений муз — Урания держит в руке армиллу (‘глобус’), на которой всё видно, а Клио — свиток, содержание которого скрыто от глаз.
…вон они, те леса, где полно черники — “географичность” смешана у Бродского с “литературностью”, поскольку данная строчка представляет собой отсылку к известному стихотворению Мандельштама 1930 года «Не говори никому…»:
Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.
…либо город, в чьей телефонной книге / ты уже не числишься — очевидная отсылка к «Ленинграду» (1930) О. Мандельштама:
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.  14
14 Привычно предоставляю слово Д. Ахапкину, как более лапидарному информатору. Комментарий Льва Лосева в двухтомнике Библиотеки поэта намного отличается накопленными сведениями, но вовсе не в той части, что меня интересует.
«Классический балет есть замок красоты…»
Впервые: Новое русское слово. 1975. 7 сент.
Михаил Барышников (род. 1948) — артист балета, балетмейстер. Один из друзей Бродского. Будучи солистом Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, в 1974 г. во время гастролей театра в Канаде отказался вернуться в СССР и поселился в США.
Крылышкуя скорописью ляжек… В метафоре использован неологизм Велимира Хлебникова из стихотворения «Кузнечик» (1908–1909) (крылышкуя золотописьмом), далее ещё один хлебниковский неологизм: бобэоби (из стихотворения «Бобэоби пелись губы»). Как отмечает А.М. Ранчин, „хлебниковские новации превращаются у Бродского в архаику, в знаки “искусственной”, классической традиции, отделённой от нас золотой рамкой рампы” (Ранчин А.М. «На пиру Мнемозины…»: Интертексты Бродского. М.: НЛО, 2001. С. 406).
…маршал Ней. Мишель Ней (1769–1815), маршал Франции, командующий корпусом в походе 1812 г. на Россию. Здесь, наряду с Чайковским, выступает как один из символов “классического” девятнадцатого века.  15
15 «Концерт на вокзале» (1921) Мандельштама держим в уме.
 16
16 Это слишком обширная тема у многих поэтов, и она ждёт отдельного разбирательства.
Изображение заимствовано:
Alexej Jawlensky (1864–1941).
Abstrakter Kopf, Morgenlicht. 1926. Öl auf Karton. 38×29,5 cm.
Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern.
Продолжение 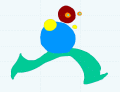
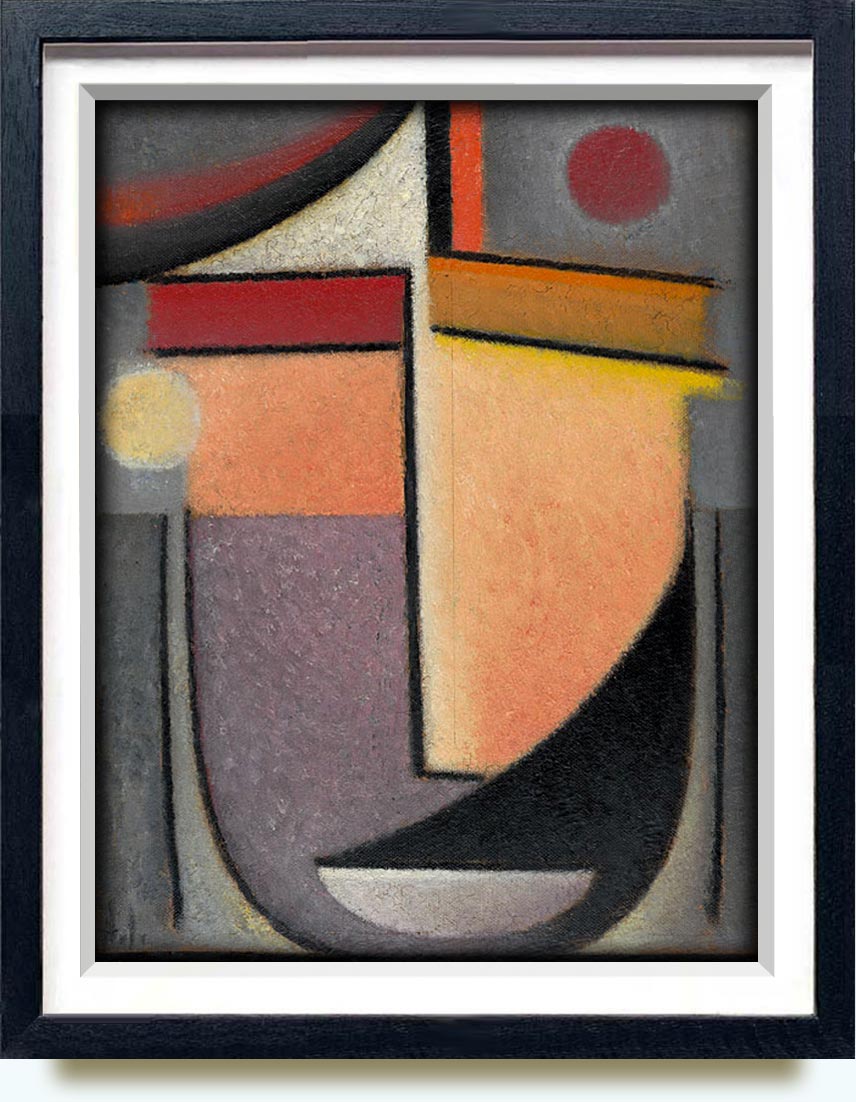
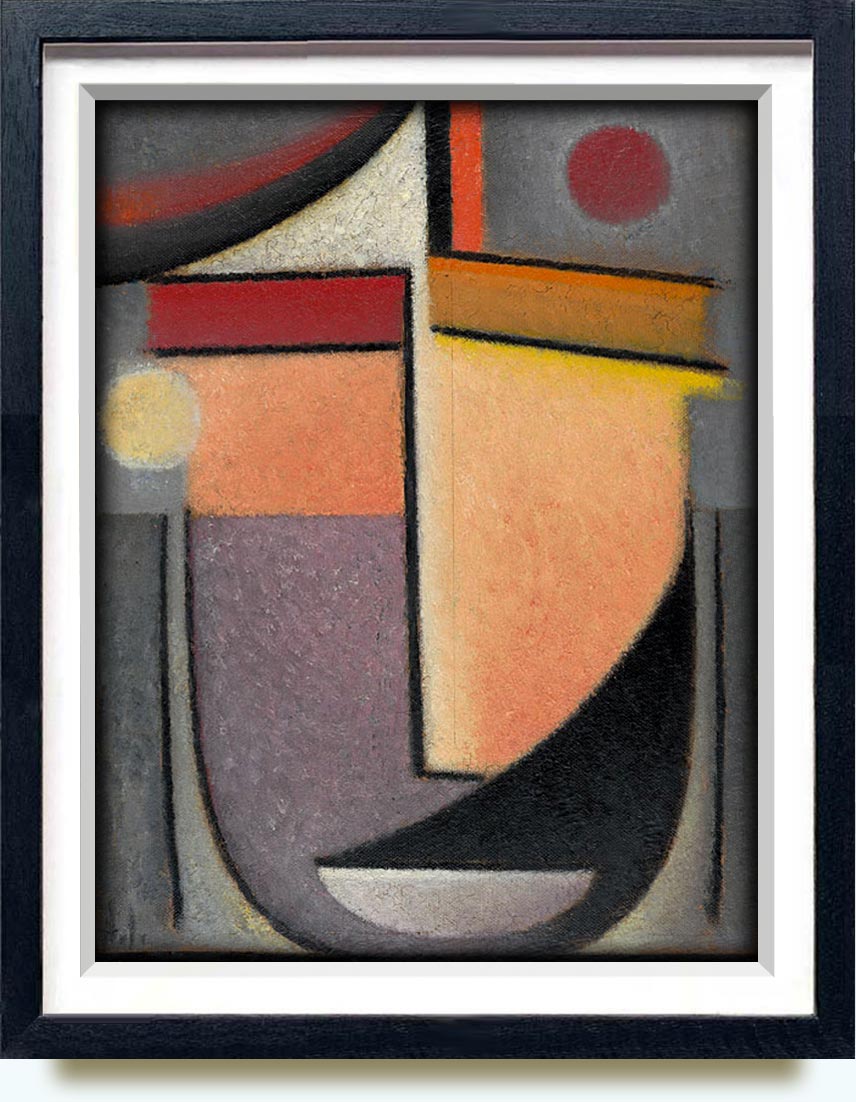
















 амый популярный элемент в составе земной коры — кислород, его кларк — 47%. В моей эпиграфике “оскар-уайльдовский” кларк приближается к 50%, но преодолеть соблазн я не смогла и привожу ещё один афоризм Уайльда, резонно утверждавшего, что „единственный способ отделаться от искушения — уступить ему”. Потому покоряюсь своей давней мечте об экспериментальном тексте, иллюзия которого сродни стараниям некоторых художников устроить живопись так, чтобы картина держалась на стене без гвоздя.
амый популярный элемент в составе земной коры — кислород, его кларк — 47%. В моей эпиграфике “оскар-уайльдовский” кларк приближается к 50%, но преодолеть соблазн я не смогла и привожу ещё один афоризм Уайльда, резонно утверждавшего, что „единственный способ отделаться от искушения — уступить ему”. Потому покоряюсь своей давней мечте об экспериментальном тексте, иллюзия которого сродни стараниям некоторых художников устроить живопись так, чтобы картина держалась на стене без гвоздя.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()