










С тех пор в разнообразье строгом,
Как оный славный «Водопад»,
По четырём его порогам
Стихи российские кипят.
Владислав Ходасевич. . Не ямбом ли четырёхстопным…
Изо всех отверстий тела
Червяки глядят несмело,
Вроде маленьких малют
Жидкость розовую пьют.
Была дева — стали щи.
Смех, не смейся, подожди!
Николай Заболоцкий. Искушение
Правда длинна. Волей-неволей разводишь целую оперу исписанных бумажек.
Самуил Лурье. Изломанный аршин
Не смог предотвратить — возглавь!
Михаил Жванецкий
Отнюдь не всегда старинное слово ‘выть’ (и его многочисленные производные) появляются в поэтических текстах Велимира с воинственной окраской. Вот только два примера мирных и лирических экзерсисов. Зачин «Лесной тоски» (1919–1921) слагается из виртуозного призыва поющей Вилы:
Для введения в кровоток поэмы рокового и двойственного глагола-существительного ‘выть’ поэту пришлось на время переместить Вилу из леса в поле, а затем бросить вместо русалки в воду. Словесная свита здесь вполне мирная, даже палач не задействован. Малюты нет, но есть малютки-мыши, капель нет, но есть копытца и купаться. Ещё более безмятежный (на грани покойного — от покойника) колорит имеет стихотворение «Песнь смущённого» (1913), которое Ахматова прибрала к рукам, опознав в нем опус, обращенный к ней:
Здесь гадание выполняется по камням с хвойной веткой. (В такой камень превратится позже двойник поэта Ка.) Участь поющего предрешена воем хвои. Жизненный выдел приравнен двери, куда ритмично постукивает рука смерти. То ли пульсация пятой симфонии Бетховена, то ли ее мандельштамовский эквивалент из стихотворения «Сегодня дурной день…» (1911): „И страстно стучит рок / В запретную дверь к нам…” А дальше Хлебников по привычке начинает макабрически шутить. Примерно так. Если уж мне по звёздному гороскопу суждено вскорости быть покойником, то отчего бы не нанести визит чете поэтов, приветствуя их длинной рукой скелета? Ведь интересно, какое я произведу впечатление на томную красавицу-турчанку, увидит ли она звёзды или, ах, простите, червей?3![]()
![]()
И тут без всякого напряжения возникают ещё две важные последовательности. У вождя, атамана, вожака, главаря, главы государства, полководца, капитана, заправилы, вожатого, руководителя есть ещё один, неизбежно напрашивающийся, синоним, но для Хлебникова вслух неприемлемый — ‘лидер’. А уж у ‘лидера’ есть красивый омофон — ‘песенный’ (нем. Lieder-). Так образуется пара — вождь и песня, как бы само собой разумеющаяся, а у Хлебникова и вообще слишком хорошо знакомая, благодаря цитации ее Маяковским (кому, как не главарю и запоминать-то было):
Дальше потихоньку проследим за оглушением согласной ‘д’ — и тогда главенствующей производной окажется даже не литера-буква, а литос-камень и вода, которой свойственно литься, образуя капли. И замыкаем хоровод-коло воспоминанием о том, как в старославянском языке именовался каменный (или деревянный) кумир или идол. Он звался ‘капь’ (отсюда до сих пор сохранившееся слово ‘капище’ — пространство языческого храма).
А теперь беспроигрышная викторина для посетителей Хлебникова поля. В каком Велимировом произведении солдаты на войне сперва окапываются, а затем поют песни-лидеры («Интернационал» и «Журавель, журавушка, жур, жур, жур…»)? К тому же в чистом поле их сторожат две каменные (литос) дуры (sic! так у Хлебникова), то есть два идола-капи? Затем поэт рассказывает о возвышенном лидере-главе-вожде, который признается, что по необходимости возьмет на себя функции палача-Малюты (Когтями старое казня). Столицей (caput) Москвою пролиты капли слёз (И если слезы в тебе льются, / В тебе, о старая Москва), накапливаясь, они текут рекою в море. Но боя не будет — всех поразит сыпучая малость болезни (франц. mal — болезнь). Засыпая ночью в окопах, воины в проклятом бреду увидят, как из засыпанного кургана мчатся их предки: С звериным воем едет лава. Судьба-‘выть’ окопных героев предрешена, это железная ирония фатума: Скажи, суровый известняк,/ На смену кто войне придет? / — Сыпняк!6![]()
В том же 1920 году, когда была создана не названная мною, но всем знакомая поэма, Хлебников написал статью, в которой судьбу подсудимого в случае крайности (то есть смертного приговора) предлагал решать с помощью кинематографа. Не казнить и не миловать, а показывать осужденному собственную гибель на экране. Не обсуждаю действенность Велимировых “мер пресечения”, а только предлагаю присмотреться к словесному хитросплетению роковых событий. Во-первых, толчком для статьи послужило имя персонажа, лишившего Хлебникова слова. Мизиничный поэт именовался громко — Рюрик Рок. Во-вторых, молчащий Велимир тут же ощутил себя оскорблённым родственником “Великого Немого” и сделал сам себя “гласным думы”. Правда, общеизвестно, что записным оратором он никогда не был. А в-третьих, опять-таки не обошлось без подспудной ‘выти’. Статья называлась «Речь в Ростове-на-Дону» (хотя речь-то как таковая и не состоялась), впервые она была опубликована в 1933 году в пятом томе собрания сочинений Хлебникова. Текст невелик, потому привожу его полностью. Велимир пишет:
Конечно, ведущим (и неназванным) действием в этом крикливом воззвании к современности является замена рока — на ‘выть’. Улюлюкающая толпа об этом свидетельствует (напоминаю, что в латыни глагол ‘ululo’ — выть), о том же говорит пай продуктовых выдач. А строго говоря, сама причудливость идеи свершения казни вырастает из неприметно воющего слова двойник. Пусти двойника на теневой экран — и все тут же перевоспитаются. Но отнюдь не о перевоспитании наивно печется Велимир. Его забота — борьба с практикой террора, сопротивление беззаконности кровавых расстрелов и казней. Что такое хвосты, о которых дважды идет речь? Это те самые длинные очереди перед кинематографом, который ручается, что убийств не будет. Не будет пулемётных очередей, не будет расстрелов. Как всегда, есть и избыточность в хлебниковской текстовой ткани (куда без этого!?). Китай поджигает кукол, Разин плюется зубами — это и есть сигналы „огонь!”, „пли!”, после которых звучат выстрелы. Но и ‘хвост’ по-польски — ogon. На этот раз — всё! — до следующей ревизии.
Разумеется, Хлебников не был одинок ни в своих протестах, ни в своих словарных пристрастиях, но что поделаешь, если невинное простодушие читателей (и комментаторов) далеко отстает от искушённости поэтов, которые надеялись, что к ним внимательно прислушиваются. Ввиду его краткости, процитирую новейшее примечание к первому стихотворению (1918 года) мини-цикла «Сон в летнюю ночь» из сборника Пастернака «Темы и варьяции». Но сначала сам текст:
Пояснение-комментарий убеждает читателя, что здесь представлены „‹...› реальные признаки голодного времени: распределители и ночные очереди, ожидающие открытия магазинов и привоза продуктов”.
Как бы не так! Стихотворение построено, как шлейф, вереница мыслей, — как музыкальная “кода” (хвост), как сплошной поток. Немецкое слово ‘Kette’ (та самая цепочка) созвучно и русской рыбе, и итальянской коде, и очередям. Последний пассаж текста звучит угрожающе-вопросительно: надеюсь, ты — гений, а потому рыбу не распределяешь, но почему творишь беспредел, заковываешь всех в цепи (нем. ketten) так, что эхо (укр. луна) пулемётных очередей стоит ночью до края света (до предела земли). Тот магазин, куда стоят очереди за пайком имеет ведь ещё и огнестрельное значение. Выстрелы заведуют построением: „как выстрел выстроил бы их” (о смерти Маяковского). „Крупный разговор” и удаление, грубо говоря, “выпирание” („вон отсюда!”) — это брань, другое значение которой — война, побоище. И, наконец, в тексте участвуют несколько “огней” — польский ‘хвост’ и греческий ‘пир’ („запирали | выпирали | препирательства”).
Но я отклонилась от темы синема. Мандельштам в 1929 году в разгромной рецензии на «Куклу с миллионами» употребил (по-видимому, вполне автономно) ту же расхожую формулировку, что и Хлебников: “Кинопаёк выдается как хлеб по заборным книжкам”. А полностью кинематографически он вернулся к теме рока-‘выти’ летом 1935 года в Воронеже,7![]()
Но самым ценным опять оказалось имя: главного героя зовут вовсе не Рок, но тоже неплохо — Чапай. Звук-тон пришел и ушёл — Чапаев утонул, утоп. И тут же возник огонь — из двусмысленного глагола ‘топить’. Жаром пышет земля, перестает палить винтовка, пыхают смертельные папироски, летят горящие самолеты (которых нет в фильме). Земля (пай) была отвоевана, но победители сами захлебнулись в хлебном голоде. Кто победил в военном споре? Длинная рокировка короля и ладьи (другие ее имена — тура, рок) не помогла, шахматная партия закончилась патом. “Выть-пай-рок-фатум” привели к пату, ничьей. Мандельштам свой трагический текст о кровных судьбах земли и поэзии устраивает, используя дурацкую детскую шутку-загадку с тройным дном: „Что делал слон, когда был Наполеон?”8![]()
![]()
Вот так, не слишком поспешая, я добралась до цели путешествия — самого именитого стихотворения Хлебникова. Во всех значениях именитого — и в смысле знаменитости этого текста, ибо не счесть всех, кто его интерпретировал, и в буквальном разумении — преизбытке имен, в нём звучащих. Благодатным подспорьем служит высокопродуктивная статья Хенрика Барана, тексту посвященная. Считаю её непревзойдённой классикой велимирознания, особенно в области художественного источниковедения. Потому смиренно принимаю вызов, брошенный автором в финале статьи:
Статья Х. Барана посвящена стихотворению «Усадьба ночью, чингисхань!..», и всех читающих убедительно прошу ознакомиться с ней ещё раз. Тогда мне не придется заниматься компиляцией и пересказывать выводы глубокоуважаемого оппонента. Самое замечательное и авангардное в работе исследователя — это проведенный им анализ бытования в России репродукций Ф. Ропса и их отражение в стихах Хлебникова, который, глядя на картинку, попросту описывал её своими словами. Веско и предметно, как практиковались жанры “изложений” и “сочинений” в начальных классах передовых советских школ. Вот только загвоздка в том, что “свои слова” Хлебникова нуждались бы, в свою очередь, в профессиональных толмачах. У Велимира не было шансов заработать высокий балл, да и специфические гравюры Ропса к детям бы не пропустили.
Кроме этой, вызывающей восхищение и совершенно отдельной от стихотворения «Усадьба ночью…», работы с изображениями, я согласна и со многими другими частными наблюдениями Барана об устройстве текста, но в главном, несомненно, понимаю стихотворение Хлебникова совсем на иной манер. А с чего бы, строго говоря, я стала весь этот огород городить? Даль утверждает, что городоимец — это „приступных и подкопных дел мастер, военный инженер, при обложении и взятии укреплений”. Лестное определение, если его на себя примеривать, особенно по части „приступных дел”. Текст Хлебникова я считаю вполне отвечающим авторской воле, и нет у меня поползновений хоть что в нем отменять.11![]()
А вот мой анализ стихотворения «Усадьба ночью, чингисхань!..».
Определим место действия. Слово усадьба у Хлебникова свободно трансформируется в судьбу, что наглядно соблюдено в стихотворении «Горные чары» (1919–1920). С трудом удерживаюсь, чтобы не процитировать его целиком, настолько оно чутко “переговаривается” со своим ранним, “чингисханящим” собратом, но достаточно и половины:
Декорация полностью изменена, но множители нежного умножения — давние знакомцы. Судьба по-прежнему — рок и ‘выть’ (я верю их вою и хвоям), она измеряется роками-годами-летами и богом-Год. Вслед за годами-летами в полёт отправлены все: и падун-водопад,12![]()
Но самое разительное отличие первой усадьбы от второй даже не в нежности словесного состава, а в том, что первичный коллектив там был подчёркнуто мужским (Музы-русалки не в счет), к тому же исключительно иностранным. Вот тогда-то и пригодится Фелисьен Ропс. И не забудем, что Велимир всегда был склонен к неординарным шуткам, которые даже летают (Но смерч улыбок пролетел лишь). За что и получил однажды строгое внушение от мэтра Гумилёва:
Так что, на мой взгляд, «Усадьба ночью, чингисхань!..» — застарелый спор с Гумилёвым, а возглас роопсь! (спор!) только подтверждение этому. Ненужное ‘о’ добавлено в фамилию малоизвестного бельгийца, чтобы с толку сбивать непривычное к палиндромам зрение. Но художник тем не менее оказывается двойным олицетворением ‘спора’. Lis в латыни — спор, так что спрятанный “Фелисьен” поддержан “пл(и)снувшей” осью Земли (Ещё плеснула сутки ось). Да и все “крики” стихотворения тоже исходят от дискутирующих — от улыбок, русалок, да и самой усадьбы.
А на какой почве возник спор? Гумилёв отправился на войну добровольцем-кавалеристом сразу же после её объявления. В конце 1914-го на фронте он написал, а в начале 1915 года опубликовал в газете14![]()
Итак, воинственный и серьёзный Гумилёв на фронте пишет о женственности мирозданья, а ещё не призванный, но заведомо непригодный к солдатским будням (и брани-мату) Хлебников спорит с ним, доказывая что поэтической судьбой ведают мужчины, преимущественно полководцы, а непременным компонентом и развязкой этой судьбы должен стать Смех. Это мы и по «Зангези» знаем: если Смех погибнет,16![]()
Хлебников написал свой “домик”-усадьбу из трех октав, повелевая известнейшими именами, ведя веселый рассказ о зарождении, движении и судьбе поэтического текста. Имена фатально наполнены “энциклопедической информацией” и “культурной компетенцией”, но функции их предопределены звучанием. Звуки — зачинщики жизни, — воскликнул Велимир, оперируя заглавными буквами-литерами своей и Маяковского фамилий. Получилась, как известно, аббревиатура “Хам”. Самым свирепым завоевателям Мамаю и Батыю доверена Велимиром ответственная миссия родителей, они “мама-папа”, рождающие звучащее слово-Логос-Голос и слушающие первые крики младенца: Пусть сосны бурей омамаены / И тучи движутся Батыя, / Идут слова ‹...› После сна сосны (и автора) Каин-сын убивает “немоту” молчаливых братьев-святых (saint). Тут и впрямь действует любимая хлебниковская борьба столикой закричальности17![]()
Но вот равноправные вариации истолкования этих двух строк (Идут слова, молчаний Каины, — / И эти падают святые). Языческие святые тишины — идолы-капи — падают, как капли в ночной водопад. Или: звучащие слова-mot Каинами сбрасывают в водопад глыбу-motte немоты.
Русалки получают свой эпитет смелоликие в награду от столикой и крикливой зари, так как тоже вопят о том, чтоб их не забывали. Но когти криков в хлебниковской усадьбе уже изменились, они теперь напоминают о судьбе-‘выти’: ‘ululo’ не только вой, вопль, но и крик, включая крик ночных птиц-хищников с когтями. Стало быть, улыбки обзаводятся когтями и переходят в хохот заката, отчего поэт видит ката-палача. И становится — смел: ему издавна смех давал смелость, для чего и было написано «Заклятие смехом» (1908–1909), где почти все производные содержат приказ „смей!”.
Приказы по усадьбе судьбы тоже просто-напросто осмысливаются по звучанию. Моцарт (царь), Чингис (хан) — лидеры и начальники в производственном цеху по изготовлению песен-“лидер”; Заратустра, понятно, заведует зарёй и огнём (как и хвосты русалок, но это уже перебор18![]()
Остались две неохваченные единицы — девушка-лосось и Газдрубал. Думаете, с ними наконец серьёз наступит? Напротив, здесь-то смех и зарыт. Во-первых, кто решил, что на бал ходят с войском? ‘Дружина’ — это ещё и ‘жена’ (укр.). И то сказать, я хотела возражать Барану, что Газдрубал у Хлебникова не погибнет, но, кажется, не суждено. С кем бы он ни шел, движется он навстречу смерти. Если с соратниками, то к позорной гибели, а если с женой, то к завидному триумфу — к Солнцу и на костёр.19![]()
Утопленниц из рек Хлебников уже вызвал, растапливает костёр зари Заратустра, а Газдрубал тяжкой походкой движется (топает) на каменный (роковой) бал. Хлебников, чтобы снять наши сомнения, разъяснил в другом стихотворении, чем, по его мнению, занимаются на балу. Стихотворение так и называется «Ночной бал» (1922). Разыграно всё как по нотам. Сначала дивчата топают в пляске заодно с тополями, потом наступает потоп гнева и темноты, а в финале непреклонная красавица отвергает влюбленного разбойника замечательной фразой: Точно спичка о коробку, / Не зажжешься о меня. То есть — любви не жди, ты не затопишь во мне пламени страсти. И всё же, чтобы не забывать о Газдрубале и понять, что делают на балу, лучше процитировать самого Хлебникова:
Что бы ни приключалось с “топающим” Газдрубалом, он безотказно выполнил приказ, помещённый в его имени: разрубил хвост финала родившегося стихотворения, поддержал двусмысленности, заложенные в пророчествах судьбы, охочей к насмешкам.
Осталось диагностировать семейство лососёвых. Зря или не зря поэту снилась девушка-лосось / В волнах ночного водопада? Чтоб каламбур не пропал втуне, объясню выбор заглавия моего аналитического разбора. Катаракта (греч. водопад) — помутнение хрусталика при заболевании глаз. А с Велимировым сном ещё проще. В немецком языке ‘лосось’ — Lachs, а ‘смех’, притом грубый, — Lache.20![]()
Думаю, никто не сомневался в том, что у меня команда поддержки уже наготове. Стихи независимого наблюдателя Пастернака с тем же “лососем-смехом” давно припасены и засолены. Стихотворение «Заря на севере» (1916) вошло в сборник «Поверх барьеров», появившийся в декабре 1916 года (напоминаю, что «Четыре птицы» с «Усадьбой…» вышли в феврале 1916-го). Так что я смело предполагаю, что их поэтические каверзы изготовлялись автономно. Да мне в любом случае это безразлично. Если только для чистоты эксперимента нужно это устанавливать, чтобы ещё раз убедиться, что такие различные поэты словесные ангажементы сплошь и рядом устраивали одинаково. Главное, — результаты их опытов отличаются, как небо и земля.
Под занавес обращаемся к стихотворению Пастернака «Заря на севере».
В самом тексте я выделяю шрифтом Arial только пару лосось (Lachs) и смех (Lache), да разве ещё встрявшую промеж них плаху. Всё остальное стихотворение, хоть и повествует о закате и смерти, называется «Зарёй…», локализуя зловещее место и время гибели — север, топи, глушь, река, таянье льда. Всё то, что якобы утеряно, имеет вполне весомых напарников и двойников, а само устройство текста убеждает, что с весной песенный дар вновь возродится. С таяньем мы знакомы, оно таит тайны. Вот часть из них. Главный злодей — лёд, лiд (укр.), он расправляется с песней (нем. Lied). Другой изверг — яд (нем. Gift), он отравляет дар (англ. gift). Глыба (франц. motte) казнит слово-mot. Закат обслуживает плаху палачом-катом. Сердце-кардио-cor созвучно с мясом (лат. caro). Глаза (англ. eyes) отражаются во льду (англ. ice), берега — в ягодах (англ. berry) и т.д. При таком интернационале плакать не приходится, только смеяться, да и Пастернаку было ли время следить за хлебниковскими водопадами, девушками и суеверными гаданиями, когда у самого забот был полон рот… Так что перед нами вовсе не гибель, а канун второго рождения.
И кажется естественным, что поэты со столь разными почвами и судьбами так рьяно пеклись об очевидной составляющей стихотворства — звуке.
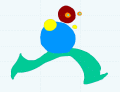
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 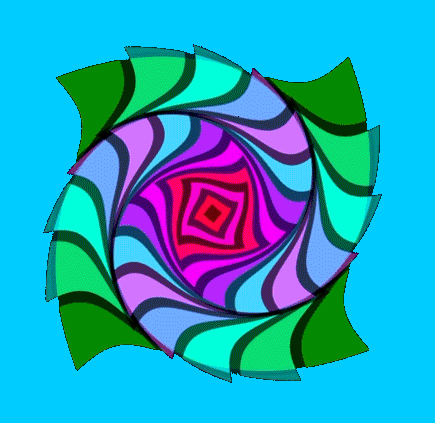 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||