
















— Лисицы имеют норы, и волки лесные — логова, а русский народ, покоритель мира, не имеет, где преклонить голову.
— Помилуйте, а на плаху?
Оскар Уайльд. Вера, или Нигилисты
Любому веку... Брось, при чём тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.
Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке,
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.
Бахыт Кенжеев. Любому веку нужен свой язык…
‹...› Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как бельё с кружевами.
Иосиф Бродский. К Урании
 о техническим причинам объявлен перерыв”, — так издавна принято извещать обрадованного посетителя присутственных мест. Я решила прибегнуть к тексту служебной авизовки (или ещё лучше — хабарламы), чтобы сигнализировать о декабрьской неуспеваемости. Полноценную “колонку” принуждена заменить жантильной россыпью, то есть применить для повествования лакомый жанр “окрошки”. В разные времена и у непохожих авторов эта лоскутная манера получала самые пёстрые номинации: безделки, заметки, арабески, комментарии, примечания, ссылки, попурри, тутти-фрутти, виньетки, маргиналии. Недавно один находчивый кулинар назвал свою хлебниковскую выпечку „свояси по сусекам”. Присоединяюсь к изобретению. Зачастую благодатными закромами бывают собственные замечания и сноски, обнародованные когда-то, но припрятанные в дальних углах забытых хранилищ. Со временем их вес и значимость возрастают, получив доппаёк, освещение и подмогу. Предлагаю шведский стол из приправленных острым соусом новых и старых колобков для пропитания джентльменских лисиц.1
о техническим причинам объявлен перерыв”, — так издавна принято извещать обрадованного посетителя присутственных мест. Я решила прибегнуть к тексту служебной авизовки (или ещё лучше — хабарламы), чтобы сигнализировать о декабрьской неуспеваемости. Полноценную “колонку” принуждена заменить жантильной россыпью, то есть применить для повествования лакомый жанр “окрошки”. В разные времена и у непохожих авторов эта лоскутная манера получала самые пёстрые номинации: безделки, заметки, арабески, комментарии, примечания, ссылки, попурри, тутти-фрутти, виньетки, маргиналии. Недавно один находчивый кулинар назвал свою хлебниковскую выпечку „свояси по сусекам”. Присоединяюсь к изобретению. Зачастую благодатными закромами бывают собственные замечания и сноски, обнародованные когда-то, но припрятанные в дальних углах забытых хранилищ. Со временем их вес и значимость возрастают, получив доппаёк, освещение и подмогу. Предлагаю шведский стол из приправленных острым соусом новых и старых колобков для пропитания джентльменских лисиц.1Хлебниковская конспирология включает изрядный запас этюдов, шарад, ребусов, построенных на основе имён собственных. Вполне ожидаемо, что кодированию в первую очередь подвергалось хитроумное именование себя самого, но и ряды знакомцев, литературных героев, учёных тоже не были обойдены вниманием поэта. Не претендуя на полноту шифровального реестра, соберём в клочковатый штабель всех — и высоких и низких, и малых и великих — всех, кто в разное время поэту под руку попадался.
Когда самому Велимиру понадобилось отметиться в привычном для натуралиста жанре классификации, он, не стесняясь, заимствовал строку у Пушкина и начал ею стихотворение без обиняков. Этот жест перевёл текст в ирои-комический регистр, но “сурьезному” публикатору ни до знаменитой цитации, ни до шутки дела не было:
Конечно хлебниковские география и история — специфические науки. Например, где территориально располагаются неоднократно воспетые Лебедия и Конецарство? Вот как они первоначально упомянуты в поэме «Война в мышеловке»:
Мы привыкли доверчиво слушать “точные” пояснения о древней “Лебедии” — нижнем течении Дона и Днепра, которую сам Хлебников переместил восточнее и определил так: Лебедией звался в древние времена весь степной край между Доном и Волгой. Но ведь Конецарство — именно этот родной край — Калмыкия и Астрахань, а невозможно забыть что-то и отказаться от чего-то, чтобы вспоминать его тут же под другим именем. Хлебников лукаво знает и о другой территории с таким названием, он готов забыть роскошные царские дворцы Крыма, носившие греческое имя Левадии (Лебадии). Поэту нужно вычеркнуть из памяти черноморских красавиц — и ноги трепетных Моревен — ради того, чтобы целовать копыто у коня в своем сконструированном с оглядкой на Джонатана Свифта благородном книжном Конецарстве. Так Левадия трансформировалась в Лебедию. А в стихах начала жить самостоятельной жизнью еще одна метаморфоза лебедя (cygne) — ‘левада’ — усадьба судьбы, оснащённая знаками (signe) синевы и ночными именами. Левадой зовётся участок земли близ дома с лугом, лесными или садовыми деревьями, то есть левада — та знаменитая усадьба, что ночью чингисханит, шумит синими берёзами, плывёт облаками по синему небу и перекликается именами Гойи | Заратустры | Моцарта | Ропса | Батыя | Мамая | Каина | Газдрубала.
Самым притягательным именем-образом для Велимира был Иисус Христос. В символистский век огульного жизнестроительства и мифотворчества, пожалуй, только о Хлебникове можно сказать, что, непрестанно примеряя лики и личины, он жил и творил с полной убеждённостью в своей миссии Спасителя. Христос-человек — идеал и сущность земной жизни поэта. Все остальные ипостаси, двойники и души, заселяющие утёс по имени Хлебников, — вариации этого литургического канона.
Хлебников, в поисках замены собственного имени ‘Виктор’, перебирает различные варианты “славянского” псевдонима (Владимир | Волеполк | Вадим | Всеволод), пока не останавливается на редкостном Велимире. Заметим, инициалы остаются неизменными — ВХ. Они также всячески обыгрываются — например, Веха (шест со знаменем, цель, знак, звезда) или оборотная сторона поэтической монеты — Вех (бех, цикута, трава, яд). Есть еще одна личностная замена — конь, но и он переплавляется в икону.
В пьесе «Снежимочка» основной герой, прячущий революционеров и затем горько раскаивающийся, зовется Ховун (прозвище, соотносящееся с инициалами автора — ХВ), а сказочное имя героини в специфической мифологии Велимира также сопряжено с тайной (она из снега, то есть „тает и таит”).
Вторым ценностным эталоном и каноном был Пушкин, который, по Хлебникову, сравним с величайшим водопадом речи — Ниагарой.
Сам футурист Велимир-Виктор спешит в будущем стать равным водопаду Виктория, второму в мире по величине. Отсюда имя его alter ego — Зангези. Хлебников соединяет в этом имени африканскую реку Замбези (с водопадом Виктория) и ещё одну реку с древнейшей поэтической и пешеходной родословной — Ганг.3![]()
Точно так же в стихотворении «Воспоминания» (1915) поэт воссоединит две другие великие реки — женственную американку мисс Миссисипи он выдаст замуж за африканца, чей исток в центре материка, — за старого умного Нила. Нил же берет начало в озере Виктория. Тени солнечного фараона Эхнатэна, русского арапа Пушкина и победительного льва речи Велимира скрепляются единым росчерком пера. На месте погибшего Эхнатэна эхнатэнствует уже сам поэт:
Если заниматься статистикой, то первое место в “подписном” ряду поэта займет фамилия — Хлебников. Разумеется, не в открыто-паспортном формате, а под маской колосьев, снопов, озими, ржи. Интерес к хлебным мотивам в поэтических текстах повысился, когда колосья обрели высокий геральдический статус, заняв центральное место в гербе государства. Поначалу этот росчерк имел сахаристый привкус: О, колос, падай, падать сладко! Это факсимиле также годилось для присяги4![]()
Во времена голода падение жита вниз свидетельствовало о негодовании и отчаянии поэта: Колосьев нет... их бросил гневно Боже ниц. Повествование о разгроме мужицкого восстания сопровождалось собственным присутствием гневного Велимира: Лежи, колос людей обмолоченный… Но в финале поэмы «Ладомир» клише подписи — Хлеб-ник — поэт ставит как знак надежды:
В «Ладомире» приведена и развернутая трактовка того, чем занят пахарь-Хлебников, сеющий рожь и одновременно прозревающий числовыми измерениями густоту будущих урожаев:
Своим “метрическим именем” Виктор Владимирович подписывал творения нечасто, но о том, что в быту его не звали Велимиром, свидетельствует он сам поэмой «Синие оковы», где одна из сестер Синяковых обращается к нему уменьшительно-ласково:
Латинская тема ‘Виктора’-победителя оказывается востребованной, начиная от ранних стихов, вплоть до 1922 года, когда поэт утверждается в триумфе своих числовых предсказаний. В стихотворении 1912 года Велимир настаивает на своих преимуществах вождя; правда, в его ликовании ещё слышны вопросительные и заклинательные ноты. Поэт как бы убеждает самого себя в правомерности претензий:
Осенью 1919 года в зачине карнавальной поэмы «Поэт», посвященной масленице, в панораму харьковских пейзажей вплетаются обе ипостаси имени ‘Виктор’ — победительная и водопадная:
Ещё более непредсказуемым, чем сосуществование с водопадом Виктория, оказывается вбрасывание Хлебниковым собственного имени в русло английской истории. Это загадочный текст о сибаритах-лордах, закончивших Оксфорд и прожигающих жизнь в охоте на львов, а их зачем-то призывают к ответу — доводилось ли им участвовать в охоте на молодых королев? («Исчезающие! взгляните на себя!..», 1921–1922).5![]()
В хлебниковских элеваторах, накопивших немало фамильных сокровищ, не обошлось и без переводческих трюков. Пристальное внимание к мифологическому Пану вызвано созвучием его греческого имени с обозначением в латыни хлеба (pane, panis). Собственно, об этом и идёт речь — мое восклицалося имя — в стихотворении Хлебникова 1915 года. Для разнообразия привожу более краткий вариант, опубликованный по рукописи (ИМЛИ) в новом собрании сочинений Хлебникова.
„Поэты должны бродить и петь”, — красиво воспроизводит Дмитрий Петровский хлебниковскую декларацию творцов. «Ладомир» и множество других текстов подтверждают эту поэтическую установку, подкреплённую целеустремлённым бродяжничеством позднего жизненного уклада. Вечерний бродяга | бродяга дум | голубой бродяга | стан бродяг осени | мой горделивый и прекрасный бродяга | воздушным бродяги указом и т.д. плюс мощный напор глаголов брожения заставляют попросту усмотреть в этом бродильном чане поэтической браги всё тот же ‘брод’-хлеб.
В поэтической пинакотеке Хлебникова существует портретный диптих, посвященный паре его ближайших соратников. Приведу тексты подряд, сохраняя условное единство противоположностей. Оба стихотворения созданы осенью 1921 года и наряду с дружескими чувствами демонстрируют ряд точных, порой нелицеприятных наблюдений. Надмирный поэт обнаруживает знание мельчайших подробностей в жизненной канве своих подопечных. Что же их объединяет, с точки зрения Велимира, и что отстраняет друг от друга?
Оба футуриста чаруют по-своему. Крученых описан как книжник (энглиз + глаз девичий), Бурлюк — как художник (глаз + glass-стекло + голос). Хотя и тайна Бурлюка принадлежит литературе:
Ворожащий стеклянный шар, то есть искусственный глаз и монокль, связывают “жирного богатыря-живописца” с “магическим кристаллом” Пушкина, прозревающим „даль свободного романа”.
Конечно, оба портретируемые интересовали Хлебникова не в последнюю очередь как издатели: худо-бедно, с потерями и нареканиями, но оба активно продвигали в печать Велимировы творения. Стихи, посвященные им, — дань благодарности, тесно сопряженная с фамилиями адресатов. Притом, что один — мал, другой — велик, оба они ведут своё существование в стихах по правилу буравчика: при закручивании, движении по часовой стрелке, Кручёных утапливается, сжимается, делается малышом; при движении посолонь, с Востока на Запад, против часовой стрелки — Бурлюк растет вверх, как вывинчивающийся бурав. Он и описан, как скульптурный Давид, связующий азийский материк с Европой, как сверхестественный Дэв восточной мифологии, выпущенный из-под земли.
И сходство, и отталкивание приятелей-натурщиков извлекается из их фамилий.
Главный заумник русского авангарда Алексей Кручёных предстал диккенсовским героем — Оливером Твистом, бледным мальчиком-призраком в каменных трущобах Лондона. Омри Ронен точно угадал, что скрепой персонажей (Оливера и Алексея) служил перевод: английское twist — “переплетаться, сплетаться, крутить”. Сплетник Кручёных дополнительно получил сибирскую масть при окраске хвостика своей фамилии ‘чёных’.
Бурлюковская фамилия тоже с лёгкостью разломилась пополам. Первая часть была уподоблена дрели: И, точно бурав ‹...› Сверлил собеседника. Вторую и окрашивать специально не пришлось, её значение закономерно вытекало из профессии живописца, то есть отвечало за зрение, видение: английское look — взгляд, смотреть, глядеть.
Неожиданность ономастических процедур состоит в том, что фамилии русских футуристов становятся двойниками, обе ответственны за верчение, кручение, бурение. Но Круч и Бур родственны и по-русски, зато их английские составляющие и физические недостатки в полной мере выявляют, отчего они — отрицательные двойники: по физическому правилу буравчика. Напоминаю, что оно служит для определения направления линий магнитной индукции вокруг прямого проводника с током. Про магнитное поле Земли, опилки и пыль, акустические, магнитные и словесные эксперименты Велимира — как-нибудь в другой раз.
Морская тематика в этом доме была неизбежной — при наличии Маяка сухопутные Брики неминуемо оборачивались романтическим “Бригом”. У Пастернака, например, обыграна корабельная тема “бриговского” салона в стихотворном экспромте-буриме «Качка в доме» (1919). В игре-соревновании тогда участвовал и Хлебников, написав стихотворение на случай — «Случай». Условиями буриме он, разумеется, пренебрёг.
В начале 1922 года Хлебников в отсутствие хозяйки дома недолго живёт в квартире у Бриков и много работает. В частности, в этот период создаёт (так и неоконченную) поэму (сохранились и опубликованы в пятом томе Собрания произведений черновики и отрывки под общим названием — «Что делать вам…»).8![]()
Между тем, поэма несомненно обращена к Лиле Брик: Вам, вашим беседам и умным речам, / Вам эта громкая песнь | Кого обнять, понять, обвить / Ручками девы-младенца? | На вёслах дней / Плывёт глаз времени, / И вам видней, / Вы не старей меня | Вы много видели, / Вы видели Дункан, / Романченко — большего в море пловца | Любит поэта, но какого, / Чей голос гнёт пятак и выпрямляет подковы | Чей резал толпы / Железный подбородок, / Как ледокол, / Установившихся понятий / Трещала льдина дум…
Хлебников вступает в творческое соревнование с Маяковским, доказывая собственную несравненную ценность поэта-прорицателя перед лицом Музы — Лили Брик, Л.Ю.Б. Собственное величие поэт выводит не только из прорицаний законов времени, своей поэзии и прозвища Велимир. Величие произрастает из водопадов, рек, побед, колоса и колосса, которыми он себя на равных ощущает.
Прислушаемся к волеизъявлению самого Хлебникова и к тому, что из этой громкой песни, то есть недописанной поэмы, выросло. Свои права он отстаивает как леший-Пан, лесной великан-Велимир, король Времени, нищий-бродяга и соратник царственного Моцарта:
Здесь, в этом черновом тексте (он даже не освоен новым Собранием сочинений) — зародыш прощальной метафоры звёздного Велимира. Образ вылупляется из нехитрого морского каламбура Брик–бриг.
Поначалу Хлебников дружественно отправляет тройственный союз Бриков и Маяковского в плаванье, где есть корабль (бриг) и маяк на берегу. Позже Велимир ссорится с Маяковским, параноидально обвиняя его в краже рукописей. Раздор отражён в хлебниковских текстах о сытых кострах на палубах, негодных ориентирах для прокладки курса, кораблекрушениях и злостно сожжённых рукописях. Хлебников при этом всё увеличивается в размерах, он теперь не колосс Родосский, а путеводная устрашающая звезда (Из глаз моих на вас льётся прямо звездный ужас | Я далёк и велик и неподвижен. | Я буду жестоким, не умирая). Творческое соревнование переросло в распрю, быт повлиял на творчество, в салоне Бриков зародилась корабельно-навигационная тема планетарного масштаба, из свары родился великий предсмертный стих:
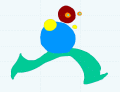
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 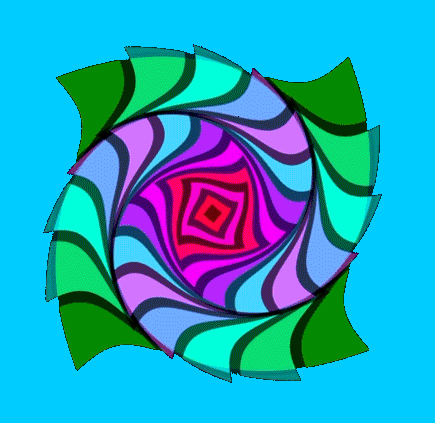 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||