














Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвеньи трачу я,
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя.
Александр Пушкин К моей чернильнице
Говорят, что во время работы Лютеру привиделся дьявол,
и он запустил в него чернильницей.
Возможно, тот чёрт был воплощением дьявольской трудности,
с которой сталкивался переводчик.
Грета Ионкис. Парадокс Мартина Лютера
Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову,
глаза его засверкали, он топнул ногою,
оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и,
схватив чернильницу, пустил ею в заседателя.
Все пришли в ужас.
Александр Пушкин. Дубровский
— Отлично, сегодня у Хилари благостный день.
— Значит, сегодня в нас не будут лететь чернильницы.
Айрис Мэрдок. Дитя слова
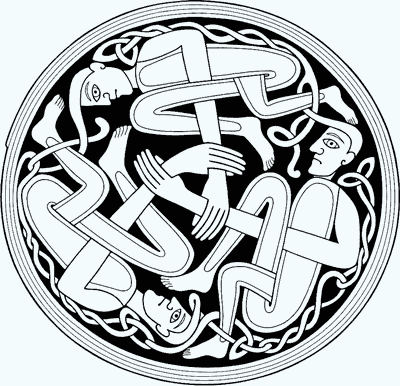 хотница я до споров — хлебом не корми. Но при строгой диете мучная продукция для меня и так и сяк под запретом, остается спорный Хлебников. Поводов для полемики непочатый край, подбирай с оглядкой на любой вкус. Но и тут поджидают камуфлеты. Уж на что иной раз сдаётся привычно-внятным текст, и вдруг от кого-то узнаешь о нём такую странную диковинку, что, вдосталь подивившись и переспросив, вынуждена приступить к возражениям.
хотница я до споров — хлебом не корми. Но при строгой диете мучная продукция для меня и так и сяк под запретом, остается спорный Хлебников. Поводов для полемики непочатый край, подбирай с оглядкой на любой вкус. Но и тут поджидают камуфлеты. Уж на что иной раз сдаётся привычно-внятным текст, и вдруг от кого-то узнаешь о нём такую странную диковинку, что, вдосталь подивившись и переспросив, вынуждена приступить к возражениям.Недавно в поле моего зрения попало суждение Лены Силард о стихотворении Хлебникова «С утробой медною…», где она обнаружила „шутливый образ писателя-верблюда, который обречен носить на горбах равенство основного душевного звука в душе писателя и душ‹е› чит‹ателя›”.1![]()
Потому вкратце: точка зрения автора базируется на том, что у Хлебникова в текстах водится много верблюдов, его детство проходит под их знаком, а потому можно предположить, что он иногда и себя видит в том караване. Не стану я доказывать, что Хлебников не верблюд, а попробую обратиться к анализу стихотворения «Испаганский верблюд», о фигурной чернильнице Рудольфа Абиха.
Текст был удостоен собственноручного комментария поэта. Кроме того, в бумагах Абиха сохранилась зарисовка медной “героини” стихотворения, и рисунок неоднократно воспроизводился. Но, по-видимому, для многомудрого учёного ума подобных свидетельств оказалось недостаточно. Что ж, обратимся к подробностям текста, которые, как всегда, до добра не доведут, то есть к чернильнице налипнет много новых деталей и аксессуаров, хотя от этого она вряд ли очеловечится.
В криминальной психиатрии есть ключевое понятие, издавна взятое на вооружение киносценаристами, — “мыслить как преступник”. Чтение иных произведений сродни этому занятию, но тогда оно торжественно именуется — “анализ поэтического текста”.
Слово ‘чернильница’ поэт не произнёс ни разу, но здесь перед нами редчайший случай хлебниковского комментирования, которое, как водится, только усложняет картину. Нам предлагается, следуя указаниям автора, производить переплавку слов, причём впервые Велимир открыто демонстрирует в экспериментаторском тигле немецкую составляющую своих алхимических опытов. В хлебниковской лаборатории дозволен экстрим без ограничений: омонимы и паронимы, аллитерации и аллюзии, переводы с одного языка на другой, а при желании и на третий, перевертни, отсечения букв и слогов, разрубание слов и прочая слуховая, лингво-био-историко-числовая франшиза. Весь этот беспредел составлял безоговорочную интеллектуальную собственность Виктора Владимировича Хлебникова.
Бытовая аскеза у Велимира привольно сочеталась с поэтической манией величия, потому при жизни посягательства на личные достояния письма жёстоко пресекались. А мы-то теперь находимся на свободном поле, у нас языки, умы и руки развязаны. Спорить тоже не возбраняется. Начала я с поэта-верблюда у Лены Силард, продолжу прения с “кадровым” оппонентом — В.П. Григорьевым. В комментарий к стихотворению в «Творениях» он привнёс соображения о немецких войсках на Украине, и сдвинуть его с занятых позиций не удалось. Перескажу общий свод примечаний с необходимыми сокращениями и дополнениями из иных источников.
«Испаганский верблюд» считается названием неавторским, оно появилось при первой публикации 1923 года в посмертном сборнике «Стихи», и хотя при последующих перепечатках заглавие было снято, но и сейчас заметна упорная тяга к его использованию. Р.П. Абих2![]()
Конечно, немецкость объяснима формой фамилии сослуживца по гилянскому военному походу. Как в детской игре, проводятся поступательные превращения, соединяющие ревкомовского знакомца с красноармейским “урус-дервишем”: Абих — хиба — хлiба — Хлебников. Оба участвуют в освобождении Персии, как бы выбрасывая букву Т из слова ‘тиран’ (у Велимировой поэмы, посвященной иранскому походу, два равноправных названия — «Тиран без Т» и «Труба Гуль-муллы»). Германский орёл летит к колосу ржи,3![]()
Чернила у Хлебникова поначалу входят в траурный обиход, они повсеместно размещаются во владениях смерти. Свобода меняет покрой и цвета одежд вольного человека труда, вместо чёрных лоскутьев нищеты и мора он получает красивые паруса крыльев. Время мора заменено на меру мира, крой на край, творяне смещают дворян, кут паруса — ката-палача, поэт получает священные права из красного угла (кута) иконостаса.
Даже пшеничный злак имеет чернильного предшественника в образе скорбного зрака затухания жизни. В антивоенном стихотворении 1916 года «Одетый в плащ летучих рыб…» Хлебников описывает предсказания гибели в морском бою, где письменный прибор переселяется во взоры убитого:
В «Испаганском верблюде» происходит ревизия знаков, чернильница меняет амплуа, захватывает на столе среди бумаг благоприятные позиции, неторопливо вышагивая в примадонны, притом становится пособницей жизни и реформ, а не смерти и гробов. Её медная утроба (то есть живот, который и есть жизнь) напоминает о начертательных пристрастиях насекомых и птиц, о кузове пуза крылышкующего золотописьмом кузнечика, о синице-зинзивере-кузнечике и знаковом лебеде. Неспроста упоминается в самом начале текста “родственник” кузнечика в будто бы невзначай обращенном к чернильнице вопросе: Кузнец случайно ли забыл дать удила? А до зелени трав-вер и вовсе уж рукой подать. Для этого достаточно, по совету автора, рассечь имя вер-блюда, получая искомые “веры” (к остальным сколкам шарады — верб, блюд, люд — вернемся позже). Тогда владелец вер закономерно становится ответственным за конфессионные разборки и связи. Уже в раннем «Зверинце» (1909) животное проявляет недюжинную эрудицию, ему ведомо то, что неподвластно человеку, зоосадовский вер-блюд знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.
Подготовительные операции к причудливым кульбитам бочонка с чернилами заложены в прозе, к которой обратимся за помощью. Нельзя сказать, что там всё явно и разложено по полочкам. Просто утверждать новое и непривычное для восприятия (чтобы не сказать “антипатичное”) легче, обратившись хотя бы к двум (их гораздо больше!) хитросплетениям. Распутав узлы одного, легче справляться с удавками другого. В повести «Есир» (1918–1919) есть вставной рассказ о лебеде и освободившем его индусе. Моя задача выделить словесные цепочки-нити, образующие ткань причудливого повествования о пленнике-Есире. Разумеется, отмечать доведется только те соположения, что пригодятся для анализа стихотворения «С утробой медною…». Привожу отрывок из «Есира» без сокращений.
Вся эта пёстрая несуразица с излишествами, прибаутками, маргинальными вставками оказывается необходимой для обоснования словесной вязи, которая не существует обособленно, а служит фундаментом для развития сюжета. Нельзя забывать, что приведенная обширная цитата — важный фрагмент провиденциальной техники Велимира, утверждавшего: Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня («Перед войной», 1922).
Предсказание индуса сбывается, рыбак Истома попадает на пять лет в Индию. Пленный лебедь, выпущенный на волю брамином, предрешает судьбу ловца, становящегося невольником. Провидец-индус, посетивший Астрахань, следовал по пути, противонаправленному движению есира-раба. (Истома, кстати, побывал в городе Испаган до того, как туда направился Хлебников.4![]()
Примечательно, что первая часть отрывка из «Есира» — это опять автореминисценция крылышкующего кузнечика. Нелепая жаба просит её подковать, благодаря слову ‘кузнец’, на брамина нисходит озарение, требующее освободить лебедя со связанными крыльями.
Вот ещё несколько словесных цепочек-связей, сопровождающих строительную конструкцию повести. Хохот рыбаков отражается в речной свадьбе (весiлля, укр.). Веры — в верблюдах, верёвках, возможности повернуться, совершаться, в Северной невесте, а также в тёмно-зелёном халате (vert — зелёный, франц.).
Толпа и народ — синонимы слова люд (сколок верб-люда). В стихотворении: Толпою управлявший голос и Люди открытий, Люди отплытий.
Наиболее странной может показаться связь самых обиходных слов, проходящая через многие стихи Хлебникова. Ответ кажется взятым из области фарса или насмешки, но он объясняет многие неожиданные соположения, и в частности нередкое появление Батыя как родителя, батьки. В текстах Велимира сам-друг “орудуют” вода и отец, их стёртое созвучие в английском и немецком — water и Vater. Таково самое известное — У колодца расколоться / Так хотела бы вода и Надо мною ли хохочет / Близко тятькиной избы? ‹...› О, сомнений быстрых вече, — Что пожалуюсь отцу? Или Волны скачут а-ца-ца! / Точно дочери отца.
В «Есире» как будто нет никаких неожиданностей, душа отца может оказаться у лебедя, а воде мужественного Ганга суждено одухотворить и оплодотворить Волгу-невесту.
В «Испаганском верблюде» не обошлось без неологизмов, но не наблюдается и никакой эксцентрики. На берега озер черниловодных, / Под деревом времен Батыя, копной его ветвей или Чей водопровод — / Дыхание песчаных вьюг, Холодного отца чернильных рек и т.д.
Выдуманный Хлебниковым для «Есира» ритуал переноса воды в стихотворении обрёл несколько “подмог”. Реальная процедура омовения по утрам паломников в Ганге служит цели очищения и достижения нирваны, прерывающей цепь перерождений. Волга обретает новый статус, дикарские и языческие воды делаются священными, для чего уместно служат языковые составляющие, заложенные в чернильнице. Второй слог вер-блюда, собственно, в переводе на немецкий и есть Ганг. Gang — это хождение, шаг — то, чем заняты и животные, и бочонок с чернилами, но Gang — это ещё и блюдо (в смысле очерёдности подачи). Приобретая эпитет “испаганский”, чернильница обращается к зрителю новыми сторонами. Её паганизм (язычество)5![]()
Оставим в стороне начальный слог верб-люда, то есть verba (слова, лат.), что созвучно с вербой, которой Хлебников пишет свою статью «Ветка вербы» (1922). Отодвинем заросли известных уже нам контактов ветвей и жен, листьев и страниц, а тем более дебри неизвестных пока что — птиц и учителей (гуру), потому что у читателя должны быть ещё силы, чтобы дочитать предлагаемый разбор шарад до конца. Недавно смотрела фильм, в котором американские издатели долго отвергали книгу, пока автор не назвал своё детище заманчиво «You can’t read» (по-русски звучит длиннее и нескладнее, но неплохо бы взять на вооружение).
Перейдем к наиболее труднодоступной интриге, таящейся в излюбленном Велимировом слове угол, ответственном за предсказания событий. В «Есире» этот угол зарекомендовал себя никудышным игроком в прятки, потому хорошо виден в смугол и в рукаве Волге Кутум, где останавливают свою лодку ловцы. В «Испаганском верблюде» он тоже на виду, хотя регулировку движения стиха он проводит незаметно. К 1921 году, когда написано стихотворение, система раскидистых цепочек, исходящих от этого слова, уже разработана и устоялась. Чёрные как уголь чернила, ночи, глаза — имена легкодоступные. Когда речь заходит о многоугольниках в небе, чертежах и плоскостях Пифагора, мечах и чашах — это гадания и ворожба на картах Таро, что требует специальных разъяснений, в которые сейчас лучше не вдаваться. Есть ещё слова-анаграммы, перевертни и рифмы — Волгу углов, голуби, разгулом, гнуло, огульно, угла-игла-укол, смугол, кругол. А для некоторых “ныряющих” связей нужны переводы. Украинско-русский кут Хлебников использует часто, особенно в «Синих оковах» (1922), обращаясь к домашнему имени Кутя героини поэмы Оксаны Асеевой-Синяковой. Ему вторит английский ‘cut’ (кат), который означает “резать | сечь | стричь | ударять” и т.д. И наконец, есть полный омофон, итальянское слово ugola со значениями: 1) язычок 2) горло; ugola d’oro — 1) чудесный голос; изумительный певец 2) “золотой голос” (обычно об оперных певцах на высших ставках).
Прежде чем настаивать на том, что в «Испаганском верблюде» свободные переходы от угла к “игле” грампластинки или к ножу произведены при поддержке ugola — горловых связок “золотого певца” (губ Шаляпина / Толпою управлявший голос ) или при пособничестве cut — “разрезания” (Режьте в Реште / Нити событий), убедимся на иных примерах, что Хлебникову хорошо ведомы и близки эти лексические перипетии.
В «Есире» посреди пира смуглых воинов резкий стон прорезал многоголосый говор толпы. Вслед за углом, прорезыванием, голосом не заставляет себя ждать горло, когда вода Ганга проливается из длинногорлого тяжелого кувшина рукой жреца.
Жутковатое стихотворение Хлебникова о войске матерей, бросающих своих детей в атаку (на нож!), имеет в зачине странную строку — Еще сильней горл медных шум мер… Здесь поэт описывает артиллерию, где снаряды к пушкам подносят горлинки, а рождение ребенка уподоблено удару выстрела. В крайнем случае в этой воинской повивальной практике младенцев из утробы добывают кесаревым сечением. Хлебникову нельзя отказать в методичности. Сперва Смерть, мышцами смуглая, косит стебли юношей, ставших дешевле телеги углей, а затем настает черед новорожденных. Из всего этого диковатого месива проглядывает назначение угла как дома, крова, родного края, в котором льется обесцененная кровь.
В довоенной поэме «Хаджи-Тархан» (1913), посвящённой Астрахани и всему волжскому краю, использован весь хор голосов, вьющийся окрест достопамятного угла.
В зачине приводимых строк, как и в стихотворении о чернильнице, верблюд движется по скатерти сирого края, а стародавний регион, как и Галилея, получает новые познания — Другую жизнь узнал тот угол.
Наша осведомленность об «Испаганском верблюде» тоже худо-бедно разрослась, так что пришла пора отвечать на вопрос, кто же тот писатель, что озаботился дать новое освещение отчизне Христа, чьё имя так плотно приросло к чернильнице, кто сродни древнему германскому орлу, кто совершил преображение, перевоз-перевод, уравнял в правах вековое и новое звучание пламенных текстов Библии — Дал равенство костру / И умному огню… А попросту — перевёл Ветхий и Новый завет на немецкий язык.
В нарушение всех канонов, традиционно установленных для энигматических текстов, разгадка была дана сразу — в эпиграфах. Анализ стихотворения сводился к тому, чтобы неожиданность предложенного решения подкрепить деталями искусной росписи, исполненной в мастерской поэта на “боках” мяса медного.
В «Досках судьбы» («Азбука неба», 1922) Хлебников нарёк Мартина Лютера вероучителем, вождем великого раскола. А в статье 1917 года о равноправии и свободе, о равенстве вер оставил специальное замечание о нём. Опус назывался «Разговор из “Книги удач”», и здесь Велимир опять говорит о реформаторстве приморских стран — Греции и Англии. Напоминаю, что в комментарии к «Испаганскому верблюду» поэт повторил этот пассаж, заметив, что Азия наконец строит свободную личность, чего она до сих пор не сделала, а делали приморские народы (греки, англичане). Вот отрывок из этого разговора:
Но возвратимся от Велимировой пророческой цифири к его поэзии. В кровеносной системе стихотворения «С утробой медною…» есть одна зацепка, намекающая на текст как будто внеположный интересам Хлебникова. Тот иллюзорный вьюк, что тащит верблюд-чернильница по столу среди белых бумаг, рифмуется с вьюгой:
Песчаная вьюга Велимира отправляет читателя прямиком к одному из самых загадочных текстов ХХ века, о котором написаны тонны статей с догадками о его назначении. Полагаю, что Хлебников вычислил, о чём идет речь, и когда подвернулся удобный случай, использовал в собственных целях. И то сказать, вряд ли мне подвернулась бы возможность сопрягать «Испаганского верблюда» с «Метелью» Пастернака, если б я давно не сообразила, о каком „посаде” поэт толкует. То место в городе, куда не ступала нога человека („ни один двуногий”), где хозяйничает метель белых бумаг, этот посад, мудрствуя лукаво, именуется письменным столом.
Компаративный анализ этих двух стихотворений отсрочу и перенесу в следующую статью (как ни странно, есть ещё многое, о чём следует сообщить). А сейчас приведу два примера из пастернаковских угодий, где оказался востребованным круговорот вышеперечисленных словесных связей: угол — уголь — кут — cut — кат — резать-сечь-бить-кроить — край — ugola — горло-пение-язык (и производные). Оба стихотворения («Петербург» и «Зимнее небо») взяты из сборника «Поверх барьеров» (1916).
Демонстрационный “материал” «Петербурга» внятен сам по себе, пояснений не требует, как мне кажется. После долгих колебаний (количество примеров слишком внушительно) я вынуждена была остановиться на этих текстах Пастернака хотя бы потому, что мне уже довелось когда-то писать о них в связи с Хлебниковым (по другому поводу и вскользь). Сейчас постараюсь расширить “интертекстуальные” границы, причем меня интересует, что Велимир “заимствует” у Пастернака, а не наоборот. Во втором стихотворении Млечный путь предстает движущимся спортивным полигоном, а лазурь пастернаковского небосвода следует за строками «Облаков» Владимира Бенедиктова — „Чаша неба голубая / Опрокинута на мир”.
Чёрный бокал, знак верха на упаковках, опрокинут и перевёрнут вверх ногами, ночь чокается с непроливающейся чашей, звон кубков подхватывают лезвия коньков (“норвеги | ножи | гаги”). Слово ‘cut’ естественно вылупляется из катка и не менее непринужденно производит действия, ему присущие — режет и сечёт. Серпантин змеи живет по соседству с серпом месяца; серп в латыни — falx, что ведет прямиком к фальшивомонетчикам; клубы дыма застилают клуб конькобежцев; воздух (айр) прикован железом (айрон) к ночи; кость домино передает не только визуальное равенство с глазами, очками и орбитами, но и отвечает за подобия. “Всё равно” маркирует “дубль” — оборот в игре, когда кости домино оказываются двойниками, как и словесная циркуляция. Всё в стихе движется по кругу, единственная вещь в стихе, могущая быть угловатой — скоба, к ней примерзает язык (ugola) месяца-собаки. И в финале кат-палач казнит фальшивомонетчиков, заливая льдом их глотки-горла. И чтоб совсем испытать чашу терпения читателя, добавлю, что шаг („В беге ссекая шаг свысока”) — это монета, грош, деньга (укр.).6![]()
Хлебников рентабельно воспользовался пастернаковским текстом, чтобы “испортить” свой. Что тут поделаешь, любят поэты переиначивать свои краткие шедевры, дописывая и расширяя их в пределах, неподвластных изысканному вкусу. Так Велимир изувечил свое “краткое искусство поэзии”, произведя на свет отпугивающего монстра. Вот что в 1921 году стряслось со знаменитым “достоевскиймом” после того, как поэт в Гроссбухе его дописал.7![]()
Заинтригованному читателю предлагаю не полениться самому собрать фрагменты звучащей мозаики, из шума вод выудить знакомые напевы слова и раскаты. Пушкинский полдень, например, откликается в финале: „Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю…” Звёзды аплодируют солисту, как петербургские причалы: „Пристани бьют в ледяные ладоши”. Конькобежцы пастернаковского «Зимнего неба» несутся по Велимировой улице, лыжники предместья напоминают о посаде, в небесном застолье чокаются все со всеми — каток со звёздной ночью, созвездье Девы с поющим поэтом.
А для того, кто не заинтригован, тоже место припасено — “край нечитаемых книг”. К полной цитации (земля нечитаемых книг) я прибегнуть не рискнула, так как она звучит двусмысленно и грубовато. Пожалуй, и “край” не лучше, тогда приглашаю в область кинодетективов, до которых я тоже большая охотница. Кольцо замкнулось, если кто помнит, о чем я…
„На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь”.
 В 1920 г. участник революционного движения в Гиляне, член Ревкома, руководившего боевыми действиями частей Красной армии. В 1921 г. член Комитета освобождения Персии. Знакомый поэта В. Хлебникова; в апреле 1921 г. они общались в Персии; Хлебников посвятил Абиху стихотворение «С утробой медною...» («Испаганский верблюд»). После ликвидации Иранской республики работал во Владикавказе. С 1922 г. в Москве. Учился на Восточном отделении ВА РККА (окончил в 1924 г.); научный сотрудник ВНАВ.
В 1920 г. участник революционного движения в Гиляне, член Ревкома, руководившего боевыми действиями частей Красной армии. В 1921 г. член Комитета освобождения Персии. Знакомый поэта В. Хлебникова; в апреле 1921 г. они общались в Персии; Хлебников посвятил Абиху стихотворение «С утробой медною...» («Испаганский верблюд»). После ликвидации Иранской республики работал во Владикавказе. С 1922 г. в Москве. Учился на Восточном отделении ВА РККА (окончил в 1924 г.); научный сотрудник ВНАВ.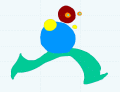
| Персональная страница В.Я. Мордерер | ||
| карта сайта | 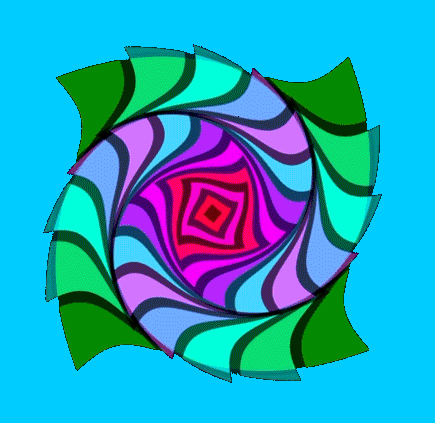 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||