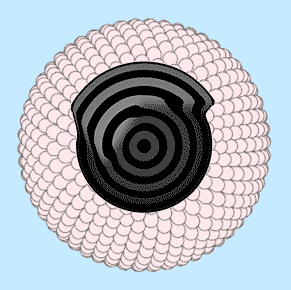Поэмы Велимира Хлебникова
Продолжение. Предыдущие главы:

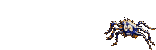

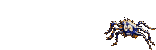

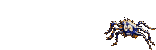

Глава VIII. Поздние поэмы
1

есять поэм, написанных после пребывания в Харькове, показывают, что „езде в незнаемое” Хлебников предопределил новый курс. За исключением «Уструга Разина», все они обладают небывалыми прежде достоинствами и недостатками. Трудно сказать, что у них общего, кроме изъянов. Тематический спектр (возмездие, война, революция, Разин, Восток) соответствует разнообразию слога, но ни одна из затронутых тем для поэта не нова; две поэмы о Разине настолько различны по замыслу и фактуре, что кажутся взаимоисключающими. Кроме того, качественно поэмы весьма неравноценны: к этому времени относятся и лучшие творения Хлебникова, и худшие. Вариации тем, слога и качества могут отражать или до некоторой степени быть следствием перемещений поэта в пространстве. «Труба Гуль-муллы», например, начата в Персии, а закончена в Баку. Период революционных поэм длился с июля по сентябрь 1921 года, т.е. Хлебников работал над ними в Баку, Железноводске и Пятигорске; «Синие оковы» написаны в Москве.
Советские учёные склонны преувеличивать значение революционных поэм Хлебникова (с неизбежной похвалой «Ладомиру»).1 Некоторые из них, особенно «Ночь перед Советами» и «Невольничий берег», явно неудачны, а переосмыслением революции существенно разнятся. Более того, в определённо лучших произведениях этого периода, «Трубе Гуль-муллы» и «Синих оковах», события осени 1917 года упомянуты мимоходом.
Некоторые из них, особенно «Ночь перед Советами» и «Невольничий берег», явно неудачны, а переосмыслением революции существенно разнятся. Более того, в определённо лучших произведениях этого периода, «Трубе Гуль-муллы» и «Синих оковах», события осени 1917 года упомянуты мимоходом.
Хотя современные темы доминируют, поздний период единством не отличается; поэмы о Разине и вовсе стоят особняком. Первая из них проникнута откровенным чувством идентичности автора со знаменитым русским бунтарём, вторая знаменует столь же откровенный возврат к событиям далёкого прошлого (а ведь разворот к современности начался ещё в Харькове). Но если вынести эти две поэмы за скобки, в остальных повествуется о том, что Хлебников видел или пережил сам. Сновидчество его ранних поэм уступает место правдивому отчёту о событиях, коим свидетелем он стал; Хлебников теперь может повторить известные слова Гёте: „Was ich nicht lebte ‹...› habe ich nicht gedichtet und ausgesprochen”.2 Тому порукой реалистические подробности «Трубы Гуль-муллы», разговорные ритмы диалогов «Ночного обыска», перифразы «Синих оков». Хлебников, можно сказать, нашёл себя: он избавился от “литературщины”. Подражание или разрушение традиции теперь вне поля его пристрастий, поэтому сдвиги количественно уменьшаются или даже исчезают; неправильным словам и грамматике, нестандартным ударениям и архаизмам больше нет места, даже „сопряжение далековатых понятий” перестаёт быть его любимым занятием.
Тому порукой реалистические подробности «Трубы Гуль-муллы», разговорные ритмы диалогов «Ночного обыска», перифразы «Синих оков». Хлебников, можно сказать, нашёл себя: он избавился от “литературщины”. Подражание или разрушение традиции теперь вне поля его пристрастий, поэтому сдвиги количественно уменьшаются или даже исчезают; неправильным словам и грамматике, нестандартным ударениям и архаизмам больше нет места, даже „сопряжение далековатых понятий” перестаёт быть его любимым занятием.
Из перечисленного следует, что Хлебников отказался от своей примитивистской техники. Несмотря на „руссоистские” вкрапления (надо ещё доказать, что они таковы), персидская поэма определённо не написана по рецептам первой молодости. Место примитивизма занял трагический взгляд на жизнь; особенно заметен он в мотивах предчувствия и принятия смерти, в теме непримиримого конфликта двух противоборствующих сторон.
Возможно, такую перемену можно объяснить тем, что Хлебников до революции отнюдь не чурался “групповщины”, а ко времени создания «Разина» стал писателем-одиночкой. Петербургские знакомства и участие в «Гилее» вынуждали его соответствовать своему литературному положению и обязанностям. В харьковский период он ещё оставался центром притяжения футуристов; после отъезда в Ростов-на-Дону и вплоть до возвращения в Москву незадолго до смерти контакты его в писательской среде либо кратковременны, либо случайны.
Хлебников принадлежал к тем творческим личностям, которые с лёгкостью осваиваются в новой обстановке и новом литературном окружении. Таким был Пушкин. Он учился у самых разных поэтов (Жуковского, Батюшкова) и писал свои стихотворные послания к Жуковскому, Языкову, Денису Давыдову в стиле каждого из них. Хлебников учился у Вячеслава Иванова и Михаила Кузмина. Многочисленные отголоски классиков и современных поэтов не оставляют сомнений в его способности к ассимиляции. В некоторых произведениях он даже говорит голосом друга; например, воспроизводит речевые обороты Маяковского в «Войне в мышеловке». Ещё ярче выражено это его свойство в личных письмах.3
На излёте жизни близ Хлебникова не было ни друзей, ни врагов, которые могли бы теоретизировать на предмет его творчества, порицать или провозглашать гением. Иной “профессиональной деятельности”, кроме сочинения надписей к плакатам в отделах пропаганды (КавРОСТА, АзкавРОСТА), не наблюдается. Были только он сам, его Гроссбух и окружающий мир. Поэтому он и глядел на всё своими глазами, и рука стала гораздо увереннее. На смену живописной миниатюре приходит сочный мазок. Поскольку поддерживать свою репутацию более не требовалось, можно было меньше экспериментировать.4
В собственно поэмах теперь больше единства, чем в их темах, столь же беспорядочных и разнообразных, как и окружающая автора действительность. Он отказывается от привычного четырёхстопного, с перебоями, ямба в пользу различных видов верлибра. Роль Хлебникова в развитии свободного стиха обойдена вниманием или, в лучшем случае, недооценивается. Огромный объём (девять произведений крупного формата) и разнообразие типов свободного стиха (по крайней мере, четыре) дают ему в этом отношении преимущество перед Кузминым, хотя тот обычно первенствует в антологиях русского верлибра. Первая попытка Хлебникова писать свободным стихом (1909) — не только подражание Кузмину, но Кузмину и адресована.5 Другим источником влияния был, вероятно, Уолт Уитмен, которого многие считают необходимым упомянуть в связи с ранним произведением Хлебникова «Зверинец». К тому времени Хлебников наверняка был знаком с переводами Уитмена Корнеем Чуковским (1907),6
Другим источником влияния был, вероятно, Уолт Уитмен, которого многие считают необходимым упомянуть в связи с ранним произведением Хлебникова «Зверинец». К тому времени Хлебников наверняка был знаком с переводами Уитмена Корнеем Чуковским (1907),6 иначе непонятно, каким образом его привлёк пантеизм американского поэта. В 1921 году, во время создания своих поздних поэм, Хлебников
иначе непонятно, каким образом его привлёк пантеизм американского поэта. В 1921 году, во время создания своих поздних поэм, Хлебников
очень любил слушать Уитмана по-английски, хотя и не вполне понимал английский язык...
— Да, — говорит он, — Уитман был космическим психоприёмником!
Хлебников назвал поэта медиумом эпохи, который как радиоприёмник принимает и отображает идеи, чувства, волевые волны человечества.
— Другого подобного ему — нет. Пушкин, Сервантес, Данте, Руставели слишком человечны, пожалуй,
только человечны. Но и они — Эльбрусы, сравнительно с другими...
7
Таким образом, верлибр Хлебникова в его поздних поэмах мог быть выстроен прямо по образцу Уитмена. Хотя некоторые критики признают достижения Хлебникова в свободном стихе,
8
они всякий раз делают это небрежно. Некоторые даже сгоряча назвали его верлибр „акцентным стихом”
9
— вероятно, потому, что были введены в заблуждение использованием рифмы, редко применяемой в свободном стихе.
Хлебниковская рифмовка, кстати, весьма оригинальна: в поздних поэмах она сведена к минимуму, но всё же имеет место; более того, можно встретить почти все опробованные ранее виды рифмы. Экономное использование поэтом созвучий в верлибре — доказательство его поэтического чутья, ибо русский верлибр, ещё не укоренившийся тогда, нуждался в рифме для обособления строки. Это ещё одно доказательство хлебниковского чувства традиции.
2
«Разин» был вчерне набросан в июне-июле 1920 года,
10
ещё во время “харьковского сидения”. В конце 1921 года Хлебников поэму переработал. Один черновик был опубликован в CП: I; во втором, из собрания Кручёных, отсутствует заключительная часть. Каждая строка — а их в поэме четыреста восемь — одинаково читается слева направо и справа налево; примеры подобной изобретательности в мировой поэзии вряд ли найдутся. Мнения критиков «Разина» диаметрально противоположны. Некоторые назвали поэму „зеркалом звука”: её „следует петь” и слышать „в каждой букве громкую и грозную ноту”. Они хвалили автора за то, что он превратил палиндром из „детской игры и школьной забавы” в „игру великанов”, „серьёзное дело”, „нечто большое и настоящее”.
11
Другие находили «Разина» „интересным только психиатру, но не писателю” или настаивали на том, что поэма „вне области художественного творчества”.
12
Палиндром был излюбленным развлечением в кельях монастырей, при дворах коронованных особ, в салонах и студенческих аудиториях.13 Он особенно привлекал некоторых барочных поэтов; в XVIII веке баловался им Державин. Однако использование палиндрома в «Разине» — единственная в новейшее время полномасштабная попытка использования его как орудия поэзии. Несмотря на уникальное положение среди поэм Хлебникова, «Разин» — не чудо-юдо, каким кажется при первом знакомстве, а по ряду причин естественная и законная часть его творчества. Во-первых, в России палиндром из игры ума превратился к тому времени в фольклорный жанр, правда, второстепенный и мало востребованный фольклористами. В русском языке довольно много слов являются естественными палиндромами (казак, кабак, тут). Во-вторых, чтение задом наперёд весьма интересовало именно футуристов.14
Он особенно привлекал некоторых барочных поэтов; в XVIII веке баловался им Державин. Однако использование палиндрома в «Разине» — единственная в новейшее время полномасштабная попытка использования его как орудия поэзии. Несмотря на уникальное положение среди поэм Хлебникова, «Разин» — не чудо-юдо, каким кажется при первом знакомстве, а по ряду причин естественная и законная часть его творчества. Во-первых, в России палиндром из игры ума превратился к тому времени в фольклорный жанр, правда, второстепенный и мало востребованный фольклористами. В русском языке довольно много слов являются естественными палиндромами (казак, кабак, тут). Во-вторых, чтение задом наперёд весьма интересовало именно футуристов.14 Давид Бурлюк охотно теоретизировал на сей предмет, назвав палиндром „обратным потоком звука”,15
Давид Бурлюк охотно теоретизировал на сей предмет, назвав палиндром „обратным потоком звука”,15 и написал экспериментальное стихотворение, структура которого довольно похожа на палиндром. Пристрастие Кручёных к палиндрому тоже понятно: „отец русской зауми” считал его „сплошной рифмой”,16
и написал экспериментальное стихотворение, структура которого довольно похожа на палиндром. Пристрастие Кручёных к палиндрому тоже понятно: „отец русской зауми” считал его „сплошной рифмой”,16 видя в таковой „максимум звуковой насыщенности”. В-третьих, палиндром (перевертень, как называл его Хлебников) не случайность именно в поэзии Хлебникова. Его стихотворение «Кони, топот, инок...» из «Садка судей II» было не менее популярно, чем «Заклятие смехом» и «Бобэоби»; сюжет “задом наперёд” он опробовал в «Мирсконца» (1912). Хлебников видел в палиндроме нечто большее, чем словесную эквилибристику. В «Свояси» он признаётся:
видя в таковой „максимум звуковой насыщенности”. В-третьих, палиндром (перевертень, как называл его Хлебников) не случайность именно в поэзии Хлебникова. Его стихотворение «Кони, топот, инок...» из «Садка судей II» было не менее популярно, чем «Заклятие смехом» и «Бобэоби»; сюжет “задом наперёд” он опробовал в «Мирсконца» (1912). Хлебников видел в палиндроме нечто большее, чем словесную эквилибристику. В «Свояси» он признаётся:
Я в чистом неразумии писал «Перевертень» и, только пережив на себе его строки: „Чин зван мечем навзничь” (война) и ощутив, как они стали позднее пустотой — „Пал, а норов худ и дух ворона лап”, — понял их как отражённые лучи будущего, брошенные подсознательным “Я” на разумное небо. Ремни, вырезанные из тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно.17
Вторая редакция «Разина» имеет подзаголовок: Заклятье двойным течением речи, двояковыпуклая речь. В поэме Хлебников сопрягает две судьбы, Степана Разина и свою. Разин, „единственная поэтическая фигура русского прошлого”, как назвал его Пушкин,18 всегда имел для Хлебникова особое очарование: волжско-каспийское происхождение и позднейшие футуристические идеи русского бунта в литературе сильнейшим образом влекли его к образу мятежного атамана (особо отметим роман друга Хлебникова В. Каменского «Стенька Разин»). В послереволюционном творчестве Хлебникова Разин ассоциируется с революцией и её стихийной силой; в «Ладомире» он помещён в пантеон будущего. После Харькова интерес Хлебникова к Разину только усилился; кроме поэм «Разин» (1920) и «Уструг Разина» (1921) известен прозаический отрывок «Разин» (1922). В то же время Разин приобрёл особое, личное значение для Хлебникова, видевшего в этом бунтаре человека сродни себе, более того — тождественного, хотя и поведенчески прямо противоположного.19
всегда имел для Хлебникова особое очарование: волжско-каспийское происхождение и позднейшие футуристические идеи русского бунта в литературе сильнейшим образом влекли его к образу мятежного атамана (особо отметим роман друга Хлебникова В. Каменского «Стенька Разин»). В послереволюционном творчестве Хлебникова Разин ассоциируется с революцией и её стихийной силой; в «Ладомире» он помещён в пантеон будущего. После Харькова интерес Хлебникова к Разину только усилился; кроме поэм «Разин» (1920) и «Уструг Разина» (1921) известен прозаический отрывок «Разин» (1922). В то же время Разин приобрёл особое, личное значение для Хлебникова, видевшего в этом бунтаре человека сродни себе, более того — тождественного, хотя и поведенчески прямо противоположного.19 Концепция была ещё более усложнена заумными теориями Хлебникова о математических основах истории с привлечением имени Лобачевского. В девизной строке поэмы Хлебников называет себя Разиным со знаменем Лобачевского. В ней же видим трагичный аспект связи Хлебникова с Разиным (во головах свеча, боль); предполагается, что конец Разина каким-то образом связан для Хлебникова с его неприкаянностью в Харькове и кризисом, который он пережил тогда.20
Концепция была ещё более усложнена заумными теориями Хлебникова о математических основах истории с привлечением имени Лобачевского. В девизной строке поэмы Хлебников называет себя Разиным со знаменем Лобачевского. В ней же видим трагичный аспект связи Хлебникова с Разиным (во головах свеча, боль); предполагается, что конец Разина каким-то образом связан для Хлебникова с его неприкаянностью в Харькове и кризисом, который он пережил тогда.20 Увлечённостью Разиным можно объяснить образы пыток и крови в его следующей по очереди поэме «Труба Гуль-муллы».
Увлечённостью Разиным можно объяснить образы пыток и крови в его следующей по очереди поэме «Труба Гуль-муллы».
«Разин» представляет собой серию картин: казацкие челны на реке, бой с правительственными войсками и победа, делёж добычи, похороны убитых товарищей и эротический танец. Вещий сон оборачивается пытками Разина в плену. Поэма заканчивается одной из начальных строк: Мы, низари, летели Разиным. Хотя палиндромная структура в сильнейшей степени препятствует самовыражению автора, некоторые части поэмы, особенно картины битвы и пляски, полны энергии. Они настолько поэтически живописны, что читатель может и не заметить, что все строки — перевертни. Консонантизм поэмы показательно груб.21
Как и следовало ожидать, палиндром Хлебникова отнюдь не гладок и однороден. Строки различаются по длине: от фольклорно расцвеченных Не сосуд жемчугом летел могуч между сосен (35 букв) и усиленно аллитерированных Или во плаче пчел, плеч печаль повили? до однобуквенных, состоящих из предлога К или союза И. Хотя самая длинная, уже упомянутая строка зачина разбита надвое, это цельный палиндром из 67 букв:
Я Разин со знаменем Лобачевского логов.
Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря.
Вполне естественно, что этот палиндром — вероятно, самый длинный из когда-либо написанных
22
— несовершенен. Он сочетает фонетический и орфографический подход, игнорирует палатализацию, а в одном месте просто неудачен. Часть строки неясна по смыслу (
мене ман); это, вероятно, означает “влечение к переменам”.
В «Разине» есть и другие неточные палиндромы, где Хлебников употребляет похожие звуки вместо одинаковых, пренебрегает орфографией или грамматической согласованностью.
Ива. Пук купавы
Ворожба обжоров.
В некоторых строках используются разные гласные:
Иде беляна ныня лебеди,
хотя возможна опечатка. Иногда две согласные считаются одной и наоборот:
Вол лав — валов
Жёнам ман нож
Холоп переполох.
Буквы в нескольких строках не учитываются:
Шарашь
У крови воркуй.
Некоторые строки следует читать в обратном порядке фонетически, а не орфографически:
А ничего лечу, человечина.
В поэме присутствуют слоговые палиндромы (Хи-ха, ха-хи). Наконец, строка Охала, ахала, ухала вовсе не палиндром, а ряд омонимов с вариацией начальной гласной. Большинство палиндромов состоят из одной строки, но в некоторых предложение разбито надвое или даже натрое, причём каждая из строк является палиндромом:
Лепет и тепел
Ветел, летев,
Топот.
Палиндромная структура предопределяет в какой-то мере синтаксическую бедность поэмы. Таким образом, большинство смысловых блоков являются восклицательными, безличными или состоящими из одного слова именными предложениями (Олени. Синело). С другой стороны, тот же фактор обуславливает богатство словарного запаса: находим несколько неологизмов (низари, прач от пря); свободно употребляются диалектные слова (ныня, иде, мабыдь, инде); изредка встречаются редкие местные слова (кодол, охохони). Использование лексических и грамматических архаизмов (черес, нежи жён) означает, что в поэме налицо едва ли не все уже знакомые нам виды хлебниковской лексикологии. Есть даже genitivus Ossianicus: нож чум (т.е. “нож, убийственный, как чума”). Таким образом, Хлебников — несмотря на искусственность палиндромной формы — сохранил многие типичные черты своего поэтического стиля. Общее впечатление нового языка, никогда ранее не слышанного, в «Разине» сильнее, чем в любом другом его произведении.
Любопытно, что и в этой поэме слышны отголоски других авторов. Див заимствован из «Слова о полку Игореве»; приведённая выше с трока Охала, ахала, ухала — фрагмент «Войны и мира» Маяковского (1916) в обратном порядке:
Ухало.
Ахало
Охало.
23
Таким образом, даже отголоски в «Разине» палиндромны.
Музыкальные тенденции, выявленные в послереволюционной поэзии Хлебникова, получают здесь дальнейшее развитие. Некоторые слова или краткие словосочетания неоднократно повторяются, причём каждый раз в новой тональности; это напоминает лейтмотив. Примеры таких повторов: течет (четырежды) | летел (тринадцать раз) | гор рог (пять раз) | так, кат (трижды). Ещё одна примечательная особенность состоит в том, что названия глав поэмы сближают её с так называемой „программной музыкой”. Сходство усиливается несоответствием однозначных названий “приглушённой семантике” текста и вследствие неологизмов. Таким образом, чтение поэмы является превосходной тренировкой фантазии. Сами названия («Путь», «Бой», «Делёж добычи», «Тризна», «Пляска», «Сон», «Пытка») читаются как план музыкальной сюиты.
Палиндром по необходимости аметричен. Чтобы выглядеть как стих, он должен использовать строку как основную единицу; свободный стих тоже опирается в большинстве своём на строку. Таким образом, «Разин» волей-неволей оказывается мостом к верлибрам поздних поэм Хлебникова, но анализировать ритмические узоры палиндромов бесполезно, ибо таковые случайны.
«Разин» — единственный верлибр, в котором Хлебников не использует рифму. В общепринятом смысле таковая в палиндроме невозможна; в более широком смысле в ней нет никакой нужды, ибо, по меткому выражению Кручёных, вся поэма — „сплошная рифма”.
3
Хлебников начал «Трубу Гуль-муллы» в июле 1921 года, ещё находясь в Персии, а закончил в Пятигорске месяца через два. Этот поэтический дневник службы в Красной армии — одна из самых оригинальных и наиболее удачных его поэм. Едва ли в русской поэзии найдутся ей соперницы по непосредственности поэтического видения.
Оба извода поэмы остались в черновиках. Первый, из Гроссбуха, был опубликован в СП: I. Николай Степанов позже получил доступ ко второму, более законченному варианту и напечатал его в ИС. Но и в “беловом” виде поэма кажется неотделанной; по этому поводу издатель сетует, что из-за многочисленных исправлений, дополнений и вариантов дать выверенный текст невозможно.24 И всё же своим построением и образностью “беловик” предпочтительнее гроссбуховского извода. Некоторые неясные подробности — бык чугунный на посохе или символический лебедь — здесь удобопонятны, к тому же Хлебников опустил кое-какие вкрапления зауми и все пассажи о Председателе Земного Шара — в пользу более целостного восприятия, надо полагать. Два варианта — по всей видимости, заготовки к основному корпусу поэмы — были напечатаны в местной кавказской газете как отдельные поэмы («Очана-мочана» и «Иранский дуб»).
И всё же своим построением и образностью “беловик” предпочтительнее гроссбуховского извода. Некоторые неясные подробности — бык чугунный на посохе или символический лебедь — здесь удобопонятны, к тому же Хлебников опустил кое-какие вкрапления зауми и все пассажи о Председателе Земного Шара — в пользу более целостного восприятия, надо полагать. Два варианта — по всей видимости, заготовки к основному корпусу поэмы — были напечатаны в местной кавказской газете как отдельные поэмы («Очана-мочана» и «Иранский дуб»).
Гуль-мулла, “священник цветов”, — одно из поименований персидского дервиша. “Гуль”, вернее, “гол” означает цветок вообще и розу в частности. Это объясняет, почему в дальнейшем недотрога неженка-роза становится знаменем русского пророка. За необычный внешний облик25 персы прозвали Хлебникова „русским дервишем”, чем он очень гордился.
персы прозвали Хлебникова „русским дервишем”, чем он очень гордился.
Повествование стремительно разворачивается на двух уровнях, символическом и реалистическом. Громогласный и богато инструментованный зачин описывает спускающегося в долину горного пророка. Образ внезапно раздваивается на дикого священника цветов и белого лебедя со сломанными крыльями и окровавленным мозгом. Далее следует достоверные подробности прибытия Хлебникова на пароходе «Курск» в персидский порт Энзели. Струя символизма и в дальнейшем подпитывает поток реальных событий, но зарисовки с натуры постепенно берут верх, и в итоге доминируют. Поэма, в сильнейшей степени эмоциональная, напоминает ликующую песнь. Всё упоминаемое увидено словно впервые. Краски ярки, образы сильны: Пулей пытливых взглядов проулков / Тысячи раз я пророгожен.
Эмоциональный тон и пространственный каркас (поэма начинается прибытием из Баку и заканчивается убытием туда же) придают единство девятнадцати главам «Трубы Гуль-муллы», несмотря на разницу их фактур. Одни представляют собой живописные полотна (горы Персии), другие напоминают миниатюры (персидский национальный герб). Есть элементы сатиры (визит к хану) и высшей иронии (поэт и собаки, поедающие дохлую рыбу на берегу моря), но в тоне повествования сквозит исполнение мечты всей жизни — путешествие по сказочной стране:
За охоту за прошлым
Судьбы ласкают меня.
Реальная история военной экспедиции почти не отражена; о событиях 25 июля — разоружении воинами Саад-Эд-Доуле штаба красных — не упомянуто ни словом. Исторический фон, сообщаемый комментатором,26 ничего к поэме не добавляет. Р. Абих свидетельствует, что при поспешном отступлении во избежание неприятельской атаки Хлебников, заглядевшись на белокрылую ворону, отстал от своих; вернулся он (с чехлом от пишущей машинки на голове) в самый последний момент, когда войска были готовы к отплытию. Это сообщение вполне соответствует хлебниковской поэтической трактовке действительности.
ничего к поэме не добавляет. Р. Абих свидетельствует, что при поспешном отступлении во избежание неприятельской атаки Хлебников, заглядевшись на белокрылую ворону, отстал от своих; вернулся он (с чехлом от пишущей машинки на голове) в самый последний момент, когда войска были готовы к отплытию. Это сообщение вполне соответствует хлебниковской поэтической трактовке действительности.
Поэма лирична, но лиризм не прост и не предзадан. Во-первых, налицо именно ликующая песнь: продолжительная мелодия и вечное поэтическое άξιόω (др.-греч.: расцениваемое как достойное, положенное, заслуживающее внимания. — Прим. перев.) или cano (лат.: петь, играть, звучать, раздаваться, сочинять, творить, воспевать, славить, возвещать, прорицать, разглашать. — Прим. перев.). Таковые вполне соответствуют редкому в творчестве Хлебникова изображению самого себя действующим лицом как в реальности, так и на символическом уровне (Гуль-мулла, белый лебедь). Исполнен лиризма и местный колорит, причём не только “азиатчиной” сюжета, но буйством красок и образов. Наконец, за счёт смешения с элементами высокого стиля бытовая подробность восходит в обобщение. Хлебников и в этой поздней поэме верен своей привычке смешивать времена, имена и народы, однако на сей раз контрастные компоненты сливаются воедино (прежде их разнородность была обнажена едва ли не постоянно). Доподлинные «Курск» и книга Кропоткина27 сопутствуют трагической картине окровавленного лебедя, подводя к пассажу о горных богах в темпе скерцо. Однако подобные переходы едва заметны. То же самое касается и чередования главок: все они различаются предметом повествования и трактовкой его. Тем не менее, приём смешивания налицо, и таковой приводит к косвенному „высокому образному напряжению”,28
сопутствуют трагической картине окровавленного лебедя, подводя к пассажу о горных богах в темпе скерцо. Однако подобные переходы едва заметны. То же самое касается и чередования главок: все они различаются предметом повествования и трактовкой его. Тем не менее, приём смешивания налицо, и таковой приводит к косвенному „высокому образному напряжению”,28 присущему поэме. Таким образом, лирика «Трубы Гуль-муллы» особого рода: т.н. лирического настроения, а равно и экспрессивного искажения действительности нет. Хотя очертания и цвета соответствуют действительности, они гораздо интенсивнее, чем на самом деле. Это воистину “реалистическая лирика”.
присущему поэме. Таким образом, лирика «Трубы Гуль-муллы» особого рода: т.н. лирического настроения, а равно и экспрессивного искажения действительности нет. Хотя очертания и цвета соответствуют действительности, они гораздо интенсивнее, чем на самом деле. Это воистину “реалистическая лирика”.
Тема поэмы — первая и последняя встреча Хлебникова с зарубежной Азией. Азиатская ориентация всегда преобладала в его творчестве. Он размышлял об Азии в «Детях Выдры», тосковал по ней в «Хаджи-Тархане», мечтал в «Есире». Но это были косвенные подходы; здесь Хлебников впервые видит наяву „голубое чудо Персии”,29 и для для него это не только „реальность, данная в ощущениях”, но и воплощение давней мечты. Этим опытом объясняются реалистические и поэтические элементы «Трубы Гуль-муллы», неподдельный экстаз поэта. Поэма полна чистого удовольствия, не подпорченного разочарованием. (Ту же радость находим в творчестве многих европейских поэтов, впервые посетивших Италию.) Вспоминаются толстовские «Казаки» с их рефреном „а горы... а горы...” в третьей главе.30
и для для него это не только „реальность, данная в ощущениях”, но и воплощение давней мечты. Этим опытом объясняются реалистические и поэтические элементы «Трубы Гуль-муллы», неподдельный экстаз поэта. Поэма полна чистого удовольствия, не подпорченного разочарованием. (Ту же радость находим в творчестве многих европейских поэтов, впервые посетивших Италию.) Вспоминаются толстовские «Казаки» с их рефреном „а горы... а горы...” в третьей главе.30 И всё же, по замечанию Тынянова,
И всё же, по замечанию Тынянова,
«Труба Гуль-Муллы» не даёт Востока под взглядом любителя-европейца: ни снисходительности, ни излишнего уважения. Вплотную и вровень.
31
В личном плане Персия показана неким убежищем. Образ окровавленного лебедя явно автобиографичен, хотя никаких пояснений этому не даётся. Обмолвка после опалы намекает на какие-то бедствия в жизни Хлебникова.32 Отрывок из Гроссбуха (СП: III, 127), отчасти напоминающий предисловие Гёте к «Западно-восточному дивану», подтверждают эту догадку:
Отрывок из Гроссбуха (СП: III, 127), отчасти напоминающий предисловие Гёте к «Западно-восточному дивану», подтверждают эту догадку:
Ноги, усталые в Харькове,
Покрытые ранами Баку,
Высмеянные уличными детьми и девицами,
Вымыть в зелёных водах Ирана.
Хлебников готовился к поездке в Персию. Уезжая из Баку, он писал, что
занялся изучением Мирза Баба, персидского пророка.
33
Известно, что его интерес к Персии совпадает с подступами к «Медлуму и Лейли» (1911), русскому варианту знаменитой поэмы Низами Гянджеви. К тому же времени относятся многочисленные короткие стихотворения с персидским фоном.
Хлебниковский примитивизм претерпевает в поздний период изменения. Некоторые критики называют новую фазу „руссоизмом”.34 Тенденция „назад, к природе” заметна даже в письмах. Так, он писал своей сестре:
Тенденция „назад, к природе” заметна даже в письмах. Так, он писал своей сестре:
Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после полтора часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться и надеть оболочку человека — эту темницу, где человек заперт от солнца и ветра и моря.35
В поэме Хлебников переживает подлинное единение с природой и страной. Повсеместно его приветствуют как „своего” (наш). Персия — Страна, где все люди Адамы (адам означает “человек” и по-азербайджански, и на иврите). Природа изображена антропоморфно: облака — белые очи богов, у гор тёмные ноздри. Кажется, что в этом раю сходятся любые противоположности. Хлебников восторженно пишет о матросах «Курска», которые славят волю и безбожие, хотя несколькими строками выше не менее приподнятым тоном сказано:
В пещерах гор
Нет никого?
Живут боги?
Я читал в какой-то сказке,
Что в пещерах живут боги
И как синенькие глазки,
Мотыльки им кроют ноги.
Вполне естественно, что при восторженном восприятии вещи и люди растут на глазах, принимая эпические размеры: моряки — великаны краснокожие, ночь, которую поэт готовится провести под дубом на перекрёстке дорог — живая былина Онеги.
В «Трубе Гуль-муллы» есть религиозный подтекст. В письме к родителям Хлебников писал: Меня здесь за длинные волосы окрестили дервишем;36 в другом послании говорится: Персам я сказал, что я русский пророк.37
в другом послании говорится: Персам я сказал, что я русский пророк.37 Хан, в гостях у которого находится поэт, называет Льва Толстого русским дервишем и помещает в одну компанию с Заратустрой. Хлебников видит себя там же не потому, что проповедует собственное религиозное учение: он провозвестник грядущего, ибо После походившей на Нерчинские рудники зимы в Баку ‹...› нашёл великий закон времени.38
Хан, в гостях у которого находится поэт, называет Льва Толстого русским дервишем и помещает в одну компанию с Заратустрой. Хлебников видит себя там же не потому, что проповедует собственное религиозное учение: он провозвестник грядущего, ибо После походившей на Нерчинские рудники зимы в Баку ‹...› нашёл великий закон времени.38 Религиозные образы поэмы, как ни странно, заимствованы у русского православия. Хлебников сравнивает крону дерева с колокольней (ветвей благовест), а башню из синих камней уподобляет врачующей раны Богоматери. Профессор В. Никитин, писавший о Хлебникове, находит сходство между персидскими богоискателями и русскими странниками, полагая Хлебникова именно таковым.39
Религиозные образы поэмы, как ни странно, заимствованы у русского православия. Хлебников сравнивает крону дерева с колокольней (ветвей благовест), а башню из синих камней уподобляет врачующей раны Богоматери. Профессор В. Никитин, писавший о Хлебникове, находит сходство между персидскими богоискателями и русскими странниками, полагая Хлебникова именно таковым.39
Начиная с «Трубы Гуль-муллы», верлибр у Хлебникова преобладает — при естественном сочетании различных метров, как и прежде. Но в ранних поэмах такое сочетание приводило к сдвигам: контрастные метры обнаруживали свою противоположность и сталкивались друг с другом внутри метрического каркаса, идеально замкнутого четырёхстопного ямба. В «Трубе Гуль-муллы» ритмический узор меняется почти в каждой строке, и само понятие метра теряет смысл, поскольку былому всевластию тетраметра пришёл конец. Есть два или три метрических кластера: хорейный в пассаже о горных богах, в главе 3 таковой выдерживается на протяжении четырёх строк, а в главе 14 преобладает ямб. На остальном же пространстве поэмы метр постоянно меняется, строки свободно следуют ритму предложений. Но есть некий дактилический ритм, который в сочетании с хореем, когда тот налицо, создает впечатление русского гекзаметра и, таким образом, придаёт поэме эпичность. Первая глава — наглядный тому пример. Другим объединяющим элементом является более или менее постоянное число ударений в строке, обычно три-четыре. Такое наблюдаем в акцентном стихе Маяковского и в большинстве дольников ХХ века. Иногда у Хлебникова налицо сходство с библейскими ритмами, особенно с ритмами «Песни Песней»: А в глазах его огонь солнечный (ср.: Стрелы ея стрелы огненныя в русском переводе Библии.)
Рифма используется свободно; она появляется и исчезает без каких-либо на то причин, никакому её виду предпочтение не оказывается: Каспием, час поём | плечи, плети | лжива, нажива | соткано, Кропоткина | хлеба, неба | назад, глаза. Звуковые метафоры количественно скупы:
Рыжие прыжками кошек
Прокажённые жёны.
В «Трубе Гуль-муллы» отчётливость изображения создаётся не звуковыми средствами, а привычным нагнетанием цвета исключительно за счёт повторения. Выше показано, где и как часто Хлебников использовал этот примитивистский приём. Золотой всегда был его любимым цветом,40 но в «Трубе Гуль-муллы» видим апофеоз этого пристрастия: лица персов лоснятся золота маслом; золотые чернила пролиты весной на луга и сады; овчина шубы торчит листвой золотою; у Гуль-муллы грудь золотого загара, золотая, как жёлудь; с колокольни весны раздаётся золотой набат. Золото в сочетании с синим (кудри роскоши синей, море, небо, синенькие бабочки, каменоломня синевы) создаёт едва ли не тот самый эффект „золота в лазури”, о котором писал Белый. Сюда же добавлена белизна облаков, сияют горные вершины,41
но в «Трубе Гуль-муллы» видим апофеоз этого пристрастия: лица персов лоснятся золота маслом; золотые чернила пролиты весной на луга и сады; овчина шубы торчит листвой золотою; у Гуль-муллы грудь золотого загара, золотая, как жёлудь; с колокольни весны раздаётся золотой набат. Золото в сочетании с синим (кудри роскоши синей, море, небо, синенькие бабочки, каменоломня синевы) создаёт едва ли не тот самый эффект „золота в лазури”, о котором писал Белый. Сюда же добавлена белизна облаков, сияют горные вершины,41 лес то малиновый, то зелёный, на смену золоту весны идёт алое лета.
лес то малиновый, то зелёный, на смену золоту весны идёт алое лета.
Образность Хлебникова в «Трубе Гуль-муллы» тоже претерпевает изменения. В ранних поэмах он сосредоточен на отдельных тропах. Среди наиболее характерных тенденций такие: (1) остранение образа-клише: Его созвучья — Калка слуха из черновика «Вилы и Лешего» (ср. терзать слух) | Давно у всех душа сова из этой же поэмы (ср. душа уснула); (2) предпочтение более прямых типов тропов, таких как номинативная конструкция, вместо творительно-падежной,42 которое видно в начальных строках «Уструга Разина»:
которое видно в начальных строках «Уструга Разина»:
Где море бьётся диким неуком,
Ломая разума дела,
Оно — морские удила
(ср.
Мы были угасших страхов пепелище в «Змее поезда»); (3) “реалистичные” сравнения:
Блестя, как рыбки из корзинки, /
По щёкам падали слезинки и
Как самовар, блестит затылок из «Вилы и Лешего»; (4) расширенные и “реализованные” метафоры, проанализированные в главах о «Журавле» и «Ладомире»; и (5) катахрестическая образность, осложнённая литературными или историческими аллюзиями. Ярким примером последнего является листовка Хлебникова против Маринетти с
кружевами холопства на баранах гостеприимства,
43
намекающая на известный пассаж в гоголевских «Мёртвых душах» (ср. также катахрестическое
Созвездий книга ‹...›
где жизни нить из «Настоящего»).
Образность «Трубы Гуль-муллы» более традиционна, хотя и со знакомой тенденцией к бытовым подробностям:
Золотые чернила
Пролиты в скатерти луга
Весною неловкой
Дети пекут улыбки больших глаз
В жаровнях тёмных ресниц
Вином запечатанным
С белой головкой над чёрным стеклом
Жёны чёрные шли.
Корни дерева названы счетоводной книгой столетий, а грудь персидских воинов покрыта роскошью будущих выстрелов. Море носит ожерелье из мёртвых сомов, и поэт ест на скатерти берега. Башня похожа на Богоматерь и катахрестически перевязывает раны. Особенно типичны именно для этой поэмы и для всего позднего периода следующие приёмы:
1) Постоянное переплетение образов, выражающих счастливое опьянение поэта новой страной или его поглощённость образами насилия:
ветер пыток |
пальцы кровавые лета |
Я исхлёстан камнями.
2) Чередование глав, насыщенных сложной образностью, с главами, где события описаны как они есть, без прикрас.
3) Сосредоточенность не на отдельных образах, а на их течении, на движении от одной ассоциации к другой. Лучший пример тому — в главе 6:
пастух очей →
пастух людских пыток →
пастух божьих очей. В главе 9, наоборот, изысканная отделка в движении образов от
жаровен чёрных ресниц к
белым прутьям женских покрывал. Тот же порхающий перелёт наблюдаем в «Ночном обыске», где звуки фортепиано сначала уподобляется
скулению щенка, затем усиливаются до
пушек грохота; и, наконец, уподобляются
хохоту русалки; далее
русалке с туманными могучими глазами уподоблен
Бог. Но и на этом гомерическая цепь сравнений не заканчивается:
Бог уподобляется
девушке, и старый матрос хочет подарить ей
духи и назначить
День свиданья. Это примеры “реализации” тропа.
4) Возобновление перифраза после заметного небрежения им в харьковский период.
44
Хлебников часто использовал перифраз в ранний период своего творчества. В «Виле и Лешем»: На ней от воздуха одежда (она нагая) | дикий посох (хворостина) | светское стекло (монокль) | Младенец с пышною косой (Вила); в «Хаджи-Тархане»: Столбы с челом цветочным Рима (колонны) | гнев полей (крестьянские восстания) | севера ось (стрелка компаса) | в небе брошенные письма (звёзды) | Уже не реют кумачи / Над синей влагою гусей (восстания уже в прошлом); в «Сельской дружбе»: оттуда где платок (от женских глаз) | кто был лишь грёз священник (второй персонаж) | Копыто позже путь топтало (потом поехал туда). Глава 6 «Трубы Гуль-муллы» изобилует перифразами типа Пастух очей стоит поодаль (гора) и Белые очи богов по небу плыли (облака).
Важный элемент «Трубы Гуль-муллы» — энтузиазм Хлебникова в отношении персидских слов.45 Они появляются в коротких предложениях (Саул адам, например) и как вкрапления в русскую речь (чох пророков тебе). Порой Хлебников соотносит их с теорией зауми (Всё начинается на ша: “шах”, “шай”, “шира”). Важная стилистическая роль отводится и неуклюжему употреблению персами русских слов (тобарич, лёви, зидарастуй, русски не знаем и др.)
Они появляются в коротких предложениях (Саул адам, например) и как вкрапления в русскую речь (чох пророков тебе). Порой Хлебников соотносит их с теорией зауми (Всё начинается на ша: “шах”, “шай”, “шира”). Важная стилистическая роль отводится и неуклюжему употреблению персами русских слов (тобарич, лёви, зидарастуй, русски не знаем и др.)
4
Следующие три поэмы, «Ночь перед Советами», «Прачка» и «Настоящее», — попытки Хлебникова написать непосредственно о революции 1917 года. Степанов объединяет их в „единую трилогию, проникнутую гневом народного мятежа и ненависти к дворянско-буржуазному строю”.
46
Но в этом же ключе и «Ночной обыск»: поэма посвящена октябрьскому вооружённому восстанию, главная тема — возмездие. Причём создавалась она одновременно с „трилогией”: все четыре рукописи датированы 1 ноября 1921 г., на основании чего некоторые критики считают их единым блоком.
47
Однако против такого подхода есть возражения. Первые три поэмы действительно следует рассматривать в совокупности: все они, по сути, незаконченные наброски, два из которых, «Прачка» и «Настоящее», почти неразличимы, это две версии одного и того же проекта. «Ночной обыск», напротив, — законченная поэма, один из шедевров Хлебникова. Поэмы „трилогии” неудачны или, в лучшем случае, любопытны как попытки приблизиться к раскрытию темы революции. Возможно, Хлебников решил их написать по совету друзей, которые очень хотели наставить поэта “на путь истинный”; этим можно объяснить пропагандистскую грубость „трилогии”. Некоторые её пассажи прямо-таки вымучены автором; в «Ночном обыске» он же раскрывает единую для всех четырёх поэм тему предельно раскованно, в безошибочно узнаваемой манере.
Для Хлебникова революция была „разрушением старых порядков, бунтом бедноты, возмездием, возвращением Разина и Пугачёва”.48 Из перечисленного наиболее важным представляется мотив возмездия, занимающий Хлебникова по крайней мере со времён «Гибели Атлантиды». Критик,49
Из перечисленного наиболее важным представляется мотив возмездия, занимающий Хлебникова по крайней мере со времён «Гибели Атлантиды». Критик,49 сравнивая с ней „былинный эпос” поздних поэм, находил их громадным шагом вперёд. На самом деле принципиальной разницы нет. Опробованная тема налицо; изменился только стиль и, возможно, уровень поэтического мастерства. Жрец покаран за убийство Рабыни — и Великий князь, вкупе со знатью и богачами, полной мерой платит за свои прошлые грехи. Отдельные образы в революционных поэмах — древней мести кличи | птица мести далёких полей («Ночь перед Советами»), Обугленное бревно / Божественного гнева («Настоящее») — вполне вписались бы в «Гибель Атлантиды». Несмотря на революционную тематику, осанна советской критики этим произведениям не была всеобщей. Раздавались обвинения в том, что Хлебников не понял роль коммунистической партии и социалистический характер Октябрьской революции, что он грешит „идеологической расплывчатостью своей революционной тематики”.50
сравнивая с ней „былинный эпос” поздних поэм, находил их громадным шагом вперёд. На самом деле принципиальной разницы нет. Опробованная тема налицо; изменился только стиль и, возможно, уровень поэтического мастерства. Жрец покаран за убийство Рабыни — и Великий князь, вкупе со знатью и богачами, полной мерой платит за свои прошлые грехи. Отдельные образы в революционных поэмах — древней мести кличи | птица мести далёких полей («Ночь перед Советами»), Обугленное бревно / Божественного гнева («Настоящее») — вполне вписались бы в «Гибель Атлантиды». Несмотря на революционную тематику, осанна советской критики этим произведениям не была всеобщей. Раздавались обвинения в том, что Хлебников не понял роль коммунистической партии и социалистический характер Октябрьской революции, что он грешит „идеологической расплывчатостью своей революционной тематики”.50
«Ночь перед Советами»51 длинна и многословна. Поэма состоит из трёх частей. Первая представляет собой разговор нервной дворянки со старой служанкой, изнуряющей свою хозяйку мрачными пророчествами (а вас завтра повесят).52
длинна и многословна. Поэма состоит из трёх частей. Первая представляет собой разговор нервной дворянки со старой служанкой, изнуряющей свою хозяйку мрачными пророчествами (а вас завтра повесят).52 Во второй части читаем жизнеописание дворянки. Она выпускница Смольного института, танцевала на придворных балах, была сестрой милосердия во время русско-турецкой войны. По мере развития сюжета выясняется, что женщина эта не только обладает благородством и отзывчивостью, но и склонна к решительным поступкам. В прошлом её политические симпатии склонялись влево не на словах: она принадлежала к революционной организации «Народная воля». После замужества ей пришлось отказаться от политической деятельности, уйти корнями в семью, но Хлебников ренегаткой свою мать (жизнеописание дворянки во многом совпадает с биографией Е.Н. Хлебниковой) не считает и старается выставить в лучшем свете. Тем не менее, она в ответе за отцов за грехи. В третьей части поэмы о таковых узнаём из рассказа другой старой служанки. Бабке рассказчицы, крепостной рабыне, помещик приказал выкормить щенка грудью, за что та получила прозвище Собакевна. Её сына (отца рассказчицы) запороли до чахотки за то, что он подросшего пса удавил.53
Во второй части читаем жизнеописание дворянки. Она выпускница Смольного института, танцевала на придворных балах, была сестрой милосердия во время русско-турецкой войны. По мере развития сюжета выясняется, что женщина эта не только обладает благородством и отзывчивостью, но и склонна к решительным поступкам. В прошлом её политические симпатии склонялись влево не на словах: она принадлежала к революционной организации «Народная воля». После замужества ей пришлось отказаться от политической деятельности, уйти корнями в семью, но Хлебников ренегаткой свою мать (жизнеописание дворянки во многом совпадает с биографией Е.Н. Хлебниковой) не считает и старается выставить в лучшем свете. Тем не менее, она в ответе за отцов за грехи. В третьей части поэмы о таковых узнаём из рассказа другой старой служанки. Бабке рассказчицы, крепостной рабыне, помещик приказал выкормить щенка грудью, за что та получила прозвище Собакевна. Её сына (отца рассказчицы) запороли до чахотки за то, что он подросшего пса удавил.53
Вся эта история кажется надуманной. Например, расправа над псом следует за невыносимо длинными сценами кормления щенка грудью à la Grand Guignol. В итоге имеем неправдоподобно быстрое возмужание сына Собакевны, который чуть ли не в одну ночь из младенца превратился в молодца и даже умер, всё-таки успев родить рассказчицу. Поэма имеет черты мелодрамы и огрехи вследствие недостаточной отделки. Например, строка о плече, прекрасно нагом странновата в устах служанки, речь которой стилизована диалектизмами: слухай, побалакай, подорит, в зенках, норовитый, малóе, ейную, суседи. Вряд ли достоин Хлебникова и самоочевидный посыл, изложенный в грубой форме:
Так-то в то время холопских детей
С нечистою тварью ровняли.
Критики по-разному приняли «Ночь перед Советами». А.М. Рипеллино нашёл поэму „сухой, плоской и лишённой воображения”,54 у советской критики (очевидно, из-за этого самого посыла) она вызвала безудержный энтузиазм. Николай Асеев счёл «Ночь перед Советами» одной из двух-трёх поэм Хлебникова, наиболее приемлемых для читателей-новичков.55
у советской критики (очевидно, из-за этого самого посыла) она вызвала безудержный энтузиазм. Николай Асеев счёл «Ночь перед Советами» одной из двух-трёх поэм Хлебникова, наиболее приемлемых для читателей-новичков.55 Д.П. Мирский назвал поэму „самой яркой и сильной вещью о страшном наследии крепостничества во всей литературе XX века”.56
Д.П. Мирский назвал поэму „самой яркой и сильной вещью о страшном наследии крепостничества во всей литературе XX века”.56 Л. Тимофеев усомнился в оригинальности сюжета, назвав его не более чем „вольным изложением” рассказа В. Короленко «В облачный день».57
Л. Тимофеев усомнился в оригинальности сюжета, назвав его не более чем „вольным изложением” рассказа В. Короленко «В облачный день».57 Да, рассказ старого кучера у Короленко имеет много общего с тем, что поведала Барыне её прислуга, но конкретного сходства нигде нет. К тому же в рассказе Короленко “эпизод преткновения” занимает куда более скромное место. Таким образом, “оригинальность” Хлебникова пересмотру не подлежит, и выдающимся его достижением в этой поэме Мирский находит обличение „бездны непонимания, которая отделяла народолюбие народнической интеллигенции от реальной народной революции”.58
Да, рассказ старого кучера у Короленко имеет много общего с тем, что поведала Барыне её прислуга, но конкретного сходства нигде нет. К тому же в рассказе Короленко “эпизод преткновения” занимает куда более скромное место. Таким образом, “оригинальность” Хлебникова пересмотру не подлежит, и выдающимся его достижением в этой поэме Мирский находит обличение „бездны непонимания, которая отделяла народолюбие народнической интеллигенции от реальной народной революции”.58
При поиске источников «Ночи перед Советами» первым вспоминается Некрасов,59 влияние которого чувствуется не столько в картинах крепостного права, сколько в отголосках охотничьих сцен. Достаточно сравнить
влияние которого чувствуется не столько в картинах крепостного права, сколько в отголосках охотничьих сцен. Достаточно сравнить
Барыня милая! воют в рога,
Скачут и ищут зайца-врага
Скачут поодаль холопы любимые,
Поле белёхонько, только кусточки
с пассажами «Псовой охоты» Некрасова.
Собственный стиль Хлебникова очевиден в тавтологических выражениях (некоторые могут быть следствием поспешности, разумеется):
дети ‹...› безвольные как дитя
С навесом суровых нависших бровей
оба висят как повешенные;
в изображениях:
Дитя — мотылёк,
Грудь матери — ветка;
в перифразах волос (ср. «Поэт», «Труба Гуль-муллы») с золотыми эпитетами: Чьё золото медовое волнуется, темнеет; в окказиональных сложных рифмах: хитрая, вытру я | книг нет, прыгнет | чорта ли, портили; в отдельных примерах усечённой, согласной или омографической рифмы: закаянный, какая | красной, опасно как | зловещее, нищая | слёз, слез. Часто рифма создаёт впечатление раёшника — стиха, которым Хлебников блеснул в «Прачке».
С другой стороны, игра Хлебникова суффиксами в этой поэме нова и отличается (скорее, ничуть не напоминает) от его ранних экспериментов с неологизмами:
Здесь собачища
С ртищем
Зайчище ловить, в зубищах давить
Красненьким скотиком
Мальчик кудрявенький.
Ритмически, в сравнении с «Трубой Гуль-муллы», «Ночь перед Советами» была для Хлебникова шагом назад. Поэма начинается хореем, который вскоре тонет в беспорядочной смеси метров, переходящей местами в чистейшей воды прозу. Даже число ударений в строке не имеет закономерности. Отмеченная критиком60 „разговорная интонация” вместе со стилизацией “под народ” накладывает особый отпечаток и на верлибр поэмы. Налицо уклон в классический гекзаметр (в начале гл. 2, а также в гл. 3), заметный в «Трубе Гуль-муллы».
„разговорная интонация” вместе со стилизацией “под народ” накладывает особый отпечаток и на верлибр поэмы. Налицо уклон в классический гекзаметр (в начале гл. 2, а также в гл. 3), заметный в «Трубе Гуль-муллы».
Архитектонику «Ночи перед Советами» легко критиковать, но в «Прачке» нет ничего даже близкого к архитектонике. Это произведение, каким Степанов напечатал его в СП и ИС, — хаос фрагментов. По словам издателя, Хлебников отказался от «Прачки» после того, как на материале этой поэмы построил другую — «Настоящее».61 Тем не менее, «Прачка» — любопытнейшая поэма.
Тем не менее, «Прачка» — любопытнейшая поэма.
Набросок предварительного плана её сохранился. Перечислены следующие главы: «Столица», «Горячее поле», «Речь», «Великий князь», «Прачка», «Разин», «Кол неба», ясно показывающие, что в итоге стало «Настоящим» («Речь», «Великий князь»), а что должно было войти в «Прачку». Первоначальный план даже более уравновешен, чем окончательный вариант, ибо Великий князь противопоставлен Прачке, символу движущих сил революции. Включение Разина в план вполне соответствует подоплёке большинства поэм этого периода, хотя в итоге читатель ощутил скорее дуновение пугачёвского бунта. Автор, возможно, планировал включить в «Прачку» те заготовки, которые он в дальнейшем использовал в «Уструге Разина». Если так, то это не более чем предварительные соображения Хлебникова, ибо «Уструг Разина» и стилистически, и ритмически «Прачке» предельно чужд. Если же «Прачка» задумана как сверхповесть (заглавие заключительной главы «Кол неба» недвусмысленно указывает на задумку отразить в поэме свои теории времени62 ), то включение сюда же «Уструга Разина» представляется логичным.
), то включение сюда же «Уструга Разина» представляется логичным.
Разрозненные листы рукописи доказывают, что это промежуточный этап между «Прачкой» и «Настоящим». Степанов огульно свёл эти тексты в “окончательный” вариант «Прачки». На самом деле было ошибкой помещать поэму в перечень более или менее законченных произведений, как это сделано в СП: III и в ИС.
Однако три основные тематические линии — Прачка, Горячее поле и Столица — вполне ясны, хотя их последовательность структурно не выстроена, они возникают и прерываются без всякого порядка. Тема Прачки (единственный отчётливый персонаж поэмы) — одна из важнейших, её монологи о свободе ножом задают тон всему и вся. Гораздо богаче в деталях тема Горячего поля, дополняющая тему Прачки. В некоторых черновиках поэма даже озаглавлена «Горячее поле». Так называлась городская свалка на окраине Петербурга, где среди куч перепревающего с выделением тепла навоза гужевого тягла столицы находили приют нищие и мелкие уголовники. Для Хлебникова подлинная сила революции — обитатели Горячего Поля, общественный переворот совершается ими и для них. С официальной советской точки зрения это была крайне уязвимая идеологическая позиция: автор, казалось, не видел в революции ничего, кроме восстания люмпенов (дыры, сшитые в зипуне), построивших городок ‹...› в кучах дымящихся калов. Для изображения революции Хлебников явно нуждался в противоположностях самых непримиримых, призывая низшие социальные слои занять роскошные дворцы, подвалами лица пугая. Невозможно отделаться от мысли, что вопрос вооружённого восстания решается им не на политическом или моральном, а на эстетическом уровне: чем разительнее контраст враждующих сторон, тем лучше. Из всех представителей социальных низов Хлебников более всего благоволит проституткам — ночному потоку шлюх, богородиц и потаскушек. Называя этих женщин Смольным преступного мира и великосветским миром острога, он одобряет вклад девчоночек неважных в дело революции посредством заражения знати венерическими болезнями:
Вы женщины, что растворяли щедро
Свои больные, в язвах недра
Подросткам гнилых городов
И крали у них жизнь на длинный ряд годов,
Чьё имя подло и преступно.
Служа свободе неподкупно,
Вы ветки знати отрубали
И остовы богатства оголяли,
Как будто рёбра мёртвого кита,
Толпой приморских чаек.
Вы, племя убийц посылавшие в кровь,
В чужие земли, в чужое государство
Сынков богатеев,
Когда вы меняли на деньги любовь
‹...›
Вы, обрубавшие ветки у барства,
Наденьте шубы и шелка с толчка,
И белоснежное бельё,
И бросьте одежды — пропахшее потом
И семенем мужчин
Гнильё.
Описание Горячего поля временами откровенно бодлеровское, ибо упор делается на грязь и разложение, как в отрывке о драке с собаками за падаль:
Так вы рычали в общей свалке,
У стаи уличных собак,
Худых и грязных,
Оспаривая
Конины дохлой брюхо тёплое,
На воздух шумно подымая
Седую стаю галок и ворон.
Хлебников на все лады славит конский навоз, который, согревая босяков, становится их спасителем:
Землянки тёплого навоза,
Бегите на лапах мороза
Нашли свой царский дворец
В конском дымящемся кале
А в снегу и в навозе
Рассеяла Русь лики,
И вы, детские лица, —
В норе из помёта скорбные суслики
Трескучий мороз.
Лишь дымится навоз,
Он для бедности Спас
Надели шубы с плеча коней.
Горел, дымился навоз горячий.
И город стерёг их зубами оскала,
Граждан города из конского кала
Спим в столетнем конском кале
Навозных пещер кроты
Мы ночные цари на обозе
Дворцовых нечистот.
Третья тема поэмы — Столица. Здесь Хлебников следует освящённой веками русской литературной традиции описания Петербурга, которая простирается от пушкинского «Медного всадника» до романов Мережковского, Белого и Пильняка. Есть очень поэтичное описание зимнего Петербурга (гл. 22), где Стояли над Невою замки / В оградах, колючих как окунь. Заканчивается оно так:
И сумрак, как седой камчатский бобр
Одел красавицу Неву.
Но в другом месте тот же Петербург подан в обёртке модернистского урбанизма: город спит тысячей белою зайцев, чьи кончики ушей — чернеющие дымоходы на крышах (гл. 15). Чаще всего Столица показана полной противоположностью Городу, чьи стены из сена, / Прошедшего конский живот (гл. 14); последний объявляется навозной столицей. Контраст этот загадочным образом переплетается с традиционным противопоставлением Москвы и Петербурга, где Москва ассоциируется с подлинной Россией, а Петербург — с Петром I в треухе немецком. Антигерманский настрой, очевидный в «Хаджи-Тархане», налицо и здесь: в “русской” ипостаси Петра оказывается убитый им сын Алексей, а петербургское Горячее Поле вдруг превращается в московское Девичье Поле:
Это Москвы рука
Мстила невским царям
Пива немецкого хлынула пена
К выскочке финских болот:
Это ринулось Поле Девичье
Отомстить за царевича
Великому царю в треуголке,
В заморском треухе и с палкой.
Это Ходынка
Над трупом невских царей
Воет зловеще в волынку.
Отплясать за царевича
Пляску злобы и надсмешки.
Тема Столицы имеет гротескно-сатирическую грань в описании карточной игры на зелёном поле (т.е. на зелёном сукне карточного стола), где потомок Рюрика или Гедимина шутя пускает на ветер сотни тысяч, не замечая, что
Дыша навозом, скаля гнилой череп
И с чёрною косой
Гнилых волос остатка,
За ним стояло,
Руку ему на плечо положив, —
Горячее поле.
— Друг, о Горячем поле ты забыл?
Ты ничего туда не бросил? —
Насмешливо шепчут уста,
Смеётся безмясый оскал
И лижет ухо тухлым языком нищета.
Темы имперского Петербурга (Столица) и Горячего поля сталкиваются в теме восстания, которое символизируется или ножом, или ножами:
Жарко ждут ножи,
Они зеркало воли.
В какой-то момент (гл. 23) Хлебников облекает тему восстания в образы, навевающие неодолимый ужас: чернеет дико дерево садов и листья трепещут и опадают не от дуновения ветерка, а от топота громад — приближающейся толпы. Как и в «Ладомире», картины социальной несправедливости при старом порядке включают антирелигиозную тему, развитую в грубой манере, типичной для атеистической пропаганды того времени. Хлебниковский Бог — неотъемлемая часть самодержавия, „воинствующее безбожие” здесь такого накала, что Бог низложен в рантье (стрижёт купоны в гл. 18). Ему нет дела до людских страданий:
Капусту и лук жри до изжоги!
А над нами где-то боги
Витают небесные.
По этой причине автор спроваживает Бога в отставку, и заменяет его подлинным Спасом бедняков — конским калом (гл. 4, 8). В Бога целятся (гл. 16), божищем оказывается русский купчина, аляповатые изображения которого на трактирных вывесках мерещатся поэту образáми. Он опускается до зауми самого низкого пошиба:
Недаром, приделай “атый” —
Из “бога” выйдет “богатый”.
В один гроб закопать их лопатой!
Контраст между Петербургом и Москвой настойчиво повторяется противопоставлением (Друг в друга целятся / Стволами ненависти) города из камня Городу, чьи стены из сена, / Прошедшего конский живот (т.е. Горячему полю). Первый образ — привычный Хлебникову метафорический перифраз; камень-кружевняк петербургских дворцов переосмыслен как умершее море:
В том городе русло свободной волны
Затянуто в доски умершего моря.
Держали кровли тяжкими руками
Трупы умершего моря.
Более того, Хлебников остраняет умершее море, приписывая ему обезьянью переимчивость:
Здесь море после смерти
Училось у людей:
Носило бороду и людям подражало,
И овощи нёс на голове
Бородатый труп моря.
Несколько иначе перифразы используются в богоборческих пассажах. Священники названы тучными людьми с Богом на брюхе. Гомерическим нарастанием образов трудно не восхититься. Так, описание города бедняков, построенного из перифрастического сена, Прошедшего конский живот, развивается в отдельную главу о круговороте незабудки в природе (гл. 24) с неожиданной концовкой:
‹...› Пришел косарь с косой, перо павлина в шляпе,
Мешок для сена пуст,
Скосил лужайку он,
Сложил в мешок и в город снёс,
На царскую конюшню.
Конь, волнуя чёрной гривой и блестящим оком,
Всю ночь жевал травы мешок.
Только ночку незабудка переночевала
В училище его живота,
А утром на возу перекочевала
В Горячее поле, как стебель навоза,
Греть детей босяка,
И много сестёр увидала
В стенах пещеры, в снегу.
Товарищи: труд, незабудка и конь —
И братва зажжёт огонь.
Ту же тенденцию можно наблюдать и в уже знакомой нам хлебниковской реализованной метафоре. Как только навоз заменяет Бога, ему, подобно иконостасу, придаются тяжкие оклады серебра; словно храм, его круглыми стенами окружат; ему будут служить тучные люди с Богом на брюхе и молиться благочестивые старухи.
Ритм «Прачки» не имеет доминирующего узора и, следовательно, единства. Три ритмических комплекса сопровождают три основные темы: Прачку, Горячее поле и Столицу. Прачка изъясняется раёшником, то есть рифмованной прозой русских коробейников. Раёшный стих здесь весьма изменчив. Одни пассажи — обычного русского карнавального типа (гл. 6),63 другие — ораторские (гл. 11); третьи написаны т.н. прозаическим раёшником (гл. 7). Таковой отличается неравной длиной строк; он часто переходит в свободный стих (в конце гл. 9) с отказом от рифмы и попыток уравнять строки. Ритм некоторых пассажей словно взят из басен Демьяна Бедного (гл. 13).
другие — ораторские (гл. 11); третьи написаны т.н. прозаическим раёшником (гл. 7). Таковой отличается неравной длиной строк; он часто переходит в свободный стих (в конце гл. 9) с отказом от рифмы и попыток уравнять строки. Ритм некоторых пассажей словно взят из басен Демьяна Бедного (гл. 13).
В раёшнике упор делается на рифму, которая, тем не менее, небрежна; Хлебников отбрасывает и снова принимается за него без явного плана, в манере, типичной для его поздних поэм. Как обычно, преобладают составные рифмы: Керенский, верен с кем | туловища, дула вещи | зная сказ, наискось | заразы вой, рассказывай | Русь лики, суслики | по стану, пустынна; и внутренняя рифма приобретает всё большее значение:
Тулупы мы. Земляные кроты: родились глупыми.
В вечер осенний ворочаемся в сене
Не будет боле
Боли и голи.
Ритмы Горячего поля большей частью заимствованы из городского фольклора, обычно это дворовая песня, частушка или плясовая:
Барин голый
Попляши, попляши
Ах вы губы, мои губки,
Да ночные покупки.
Заметно влияние «Двенадцати» Александра Блока (гл. 6, 12). Как и в поэме Блока, вставные песни славят революционную анархию и опьянение свободой (гл. 25).
Метрическая основа темы Петербурга классична. В гл. 9 доминирует пятистопный ямб; в гл. 14 — четырёхстопный. Образность (столица уподобляется модной красавице) и строй речи гармонируют с метрическим рисунком:
В том черепе надменном тлел
Костёр венчанных предков.
Дабы подчеркнуть “параллельность миров”, Хлебников иногда (гл. 12) использует в пассажах Горячего поля традиционный элемент. Его воззвание к проституткам, например, начато исключительно высоким слогом (глава 5) с преобладанием риторики, но вскоре скатывается в раёшник. С другой стороны, и раёшные призывы Прачки полны риторики. Таким образом, круг замыкается.
Хотя таковых немного, в «Прачке» находим примеры внутреннего склонения:
Пули
Пели,
Пали в Горячие поля.
Тем же отмечен и финал поэмы (в духе Марины Цветаевой, если угодно):
Что варишь,
Товарищ?
Из оха и уха
Уху.
Добавь сюда:
— Эх!
— Ух!
— Ох!
Декламационный привкус ощутим на протяжении всей поэмы: она явно предназначена для чтения вслух:
Весь город в снегу.
Полночи час.
Трескучий мороз.
Лишь дымится навоз,
Он для бедности Спас.
Но в одном из тёмных уголков этой объективной поэмы неожиданно возникает загадочный субъект:
Если не пропляшу
Кровавый шут я,
Старый безбожник,
Пляску портновских ножниц, —
Моя шутка ‹будет› петля.
Поэма «Настоящее», вышедшая отдельным изданием трудами сестры Хлебникова в 1926 году, — наиболее совершенная и удачная вещь трилогии. Она же и самая значительная, ибо Хлебников делает попытку подытожить здесь всё, чего он достиг прежде, и в то же время вводит новшества, получившие более полное развитие уже в советской поэзии. Тема остается прежней — революция как противоборство отжившего с нарождающимся и как возмездие, — но автор всем этим распоряжается более взвешенно, чем в «Прачке», и со вкусом.
Старый режим символизируется Великим князем, единственной индивидуальной фигурой в поэме, но его “классовое прошлое” не показано. Поэма не грешит обычной для советской поэзии тех лет тягой к разоблачению эксплуататорских пороков капитализма и феодализма или карикатурным — упрощённым или преувеличенным — осуждением Церкви в стиле Бедного или коммунистической пропаганды типа «Окон РОСТА». Великий князь предстает фигурой трагической, несколько наивной, но несомненно благородной в своём стоическом принятии возмездия. Предвестники такого подхода очевидны в более ранних работах Хлебникова. В «Ладомире», например, свергнутым самодержцам приданы инфантильные характеристики, но над ними не издеваются. Их страдания, когда они „с улыбкой побеждали свой гнев”, исполнены достоинства, и сочувствие Хлебникова к таковым очевидно:
И дочерь думы-невидимки,
Слеза последняя течёт.
Хлебниковский Великий князь64 человеколюбив, он благоволит народу. Этим он похож на либеральную барыню из «Ночи перед Советами», и точно так же народу нет дела до его демократических чувств. Он представлял себе Россию сельской идиллией, а теперь, осознав ошибку, покорен судьбе:
человеколюбив, он благоволит народу. Этим он похож на либеральную барыню из «Ночи перед Советами», и точно так же народу нет дела до его демократических чувств. Он представлял себе Россию сельской идиллией, а теперь, осознав ошибку, покорен судьбе:
Народ нас создал, возвеличил,
Что ж, приходи казнить, народ!
Принятие неизбежного конца уподобляется Гефсиманскому саду (или цикуте Сократа?):
Что ждёт меня, какая чаша?
Её к устам моим несу.
В его воображении грядущая ссылка в Сибирь обернётся каторжными работами декабристов (ещё одна грань возмездия):
Глухой острог, затерянный в лесу,
Среди сугробов рудники.
Хотя время вынуждает даже царей охолопиться, в финале поэмы Великий князь, наблюдая за восстанием, видит красные окна дворцов, символизирующие одновременно закат (т.е. упадок свой лично) и пламя революции, с внутренней гордостью отмечает: И всё же стёкла голубы. Хлебников даже влагает в уста Великого князя свои собственные мечты о предвидении будущего:
Ах, если б снять с небесной полки
Созвездий книгу,
Где всё уж сочтено ‹...›
Тема Столицы из «Прачки», за вычетом социальных нападок, продолжается в «Настоящем» как чистый пейзаж и даже начинает поэму (Над белым сумраком Невы). Слог, образность и ритм пассажей о Великом князе следуют классической схеме: вновь, как в поэмах раннего и харьковского периодов, господствует четырёхстопный ямб; Хлебников им начинает и заканчивает поэму. Слог конвенциально поэтичен и высок:
О роковой напев судьбы
Часов времён прибою внемля.
Улавливаем отголоски Пушкина:
Толпа безумных дураков
И звон задумчивых оков.
Даже отставленный за ненадобностью сдвиг налицо. Хлебников возрождает здесь и другие приёмы, которыми давно не пользовался, например, неправильное слово: воспетый катом (вместо ославленный катом) и напялив ножницы. Есть примеры крайних инверсий: ‹...› показать людей очей корыту. Видим победное возвращение тавтологии:
У подоконника окна
Соломенная чёлка
Соломы чёрной и гнилой,
Её соломенный хохол
Нежнее снежной паутины
И снежных бабочек полна ‹...›
И снежный камень
Чу! чую ‹...›
Чтобы бич бы свистел
В «Настоящем» всеохватное некогда смешение заметнее, чем в каких-либо других произведениях этого периода. Например, приведённые выше поэтические отрывки перемежаются диалектизмами кмотр и галах; в невесёлую думу Великого князя врывается параша (тюремная уборная; Великий князь понимает её как плевательницу); обрывая монолог, он смотрит на часы (единственная сценическая ремарка в поэме).
Так как классический четырёхстопный ямб до конца не выдержан, местами поэма напоминает басню Крылова:
Стоял облокотясь
Великий князь,
есть и перемена стопы:
Их отрицали и не любили.
Вторая часть поэмы, где противоположная сторона конфликта представлена в виде последовательности, числом одиннадцать, коротких отрывков, носит в основном декламационный характер. Это хоровая партия, в корне отличная от монолога Великого князя. Большинство пассажей вторят Горячему полю из «Прачки». Две небольшие главы (Мы писатели ножом и Кто? Люди) взяты из «Прачки» целиком, хотя изменения довольно существенны. Одна глава отведена Прачке, героине одноименной поэмы, и вновь это смесь раёшника и риторики. Атеистические высказывания тоже поданы в “прачечной” форме (бог богатых | на вилы имя Бога | получаешь отставку | где чинят бога?), налицо и Горячее поле (Граждане города / В конском дымящемся кале), и мотив «Иридиона» (У кого нет ножа, у того есть мышьяк), и призывы к мести (Самый страшный грех — пощада), и мотив ножа. Разве что взамен предполагаемого некогда Разина упомянут Пугачёв (будут руки его пугачёвые / В крови!).
В речах Прачки особенно явственны отголоски «Двенадцати» Блока: Я бельё твоё всполосну, всполосну | святой разбой. Но есть и эхо Мусоргского: Тьма господня, / Тьма тьмущая, что не вызывает удивления: вторая часть поэмы, с её хорами, разнообразием народно-песенных ритмов и панорамой бунта, чреватого анархией, жестокостью и насилием, весьма напоминает сцену в Кромах из «Бориса Годунова». Да и больная совесть Великого князя из первой части поэмы в некоторой степени соответствует „мальчикам кровавым в глазах” царя Бориса. “Оперность” Хлебникова в «Настоящем» вопиюще очевидна: неужели сошедшая с ума сестра милосердия что-то поёт из «Князя Игоря» случайно?
В высшей степени любопытна звуковая сторона второй части поэмы. Необычайное богатство интонаций (особенно в гл. 8) и декламационных форм потрясает. Примеры озабоченности Хлебникова звуком очевидны уже в гл. 1, сама структура которой, с урезанным и тотчас допетым словом, как в
На о
На òбух
Господ
Моло
Молòтобоец,
явно восходит к старинной русской солдатской песне (ср. Во ку — во кузнице). Повышенное внимание к звуку Хлебников доводит едва ли не до абстрактной игры слов; в этом его можно считать предтечей позднейших направлений советской поэзии. Ранние фонетические эксперименты Ильи Сельвинского с воспроизведением устного произношения, особенно употребление им знаков ударения, берут своё начало не только в стихах Андрея Белого, но и в «Настоящем». Другое подтверждение влияния Хлебникова на советскую поэзию — песня приближающихся революционных масс в 7-й главе «Хорошо!» Владимира Маяковского. (1927). Голоса с улицы в гл. 2 второй части «Настоящего» похожи на буги-вуги настойчивым basso ostinato припева и глагольной вариацией в рамках одного синтаксического рисунка. Однако наибольший интерес представляет прерывание этого рисунка для вставки двух строк, взятых из другой песни (Сына родила! ‹...› В воду бросила!). В гл. 4 те же “буги-вуги” смешиваются с “урезанно-допетым” по образцу гл. 1 (Раскà, / Раскаты грома, / Горя, / Горят хоромы), что тоже используется в современной музыке.
5
В «Ночном обыске» (черновое название «Переворот Советов»), которому в Гроссбухе присвоена та же дата, что и трём предыдущим поэмам, Хлебников безоглядно самобытен. К рекомендациям доброжелателей он здесь явно не прислушивался, хотя тема прежняя: вооружённое восстание как возмездие. Мнение о «Ночном обыске» советской критики единым не назовёшь. Поначалу поэма приветствовалось: Асеев предложил читателю-новичку начинать с «Ночного обыска» (см. примеч. 55); Юрий Тынянов дал ей высокую оценку; в 1939 г. поэму ещё называли „революционным произведением, которое нам пригодится”.
65
Но в высшей степени неортодоксальное изложение событий революции долго безнаказанным оставаться не могло,
66
и Степанов остерёгся включить «Ночной обыск» в сборники 1936, 1940 и 1960 гг. В 1948 г. Б. Яковлев назвал поэму „антисоветской и антибольшевистской”.
67
Действие поэмы происходит в большом городе, скорее всего, Петрограде, вскоре после захвата власти красными. В тёмное время суток (горит свеча на столе) отряд матросов производит обыск в квартире, где проживает подозреваемая в связях с Белым движением семья, и обнаруживает молодого златоволосого офицера белых Владимира. Тот стреляет в старослужащего матроса (седой морской волк | Старшой | наш дядя), но промахивается; его задерживают, приказывают раздеться донага и ставят к стенке на глазах у матери. Владимир мужественно встречает свой конец. Поиски продолжаются, на чердаке ловят и убивают пулемётчика; престарелую мать Владимира и поседевшую в четверть часа молодую женщину, жену или сестру его, оставляют в живых. Матросы приказывают накрыть на стол; во время попойки кто-то разбивает зеркало кулаком, затем выбрасывают из окна пианино (или рояль, не сообщается). Над женщинами издевательски подшучивают. Старшой не может забыть отменную выдержку Владимира перед расстрелом, и трижды описывает, как всё было, в одних и тех же выражениях. Всматриваясь в пронзающие его душу глаза иконописного Христа, он то выражает желание быть убитым выстрелом из красного угла, то хочет победить Бога звонким смехом, как Владимир победил его. Братва сильно пьянеет. Старшой находит, что Христос похож на девушку; девушка ему нравится, он воображает себя ухажёром, готов назначить свидание. Пора возвращаться на судно, однако наш дядя назюзился до такой степени, что пускается в бесконечные рассуждения о Боге и смерти. Дело доходит до того, что пьяному философу мерещится: в красном углу крикнули „Пожар!” По времени это совпадает с тем, что мать Владимира подожгла дом и заперла дверь железную изнутри. Старшой с удовлетворением (А я доволен и спокоен) встречает смерть, кидая Спасителю именно то слово, каким Владимир перед смертью одарил его самого: дурак. Остальные морские волки в недоумении: Стреляться? / Задыхаться? Ни тому, ни другому хозяйка дома не препятствует: Как хотите!
Поэма — поздний шедевр Хлебникова и вершина его трагического искусства. Даже краткий пересказ наводит на мысль, что такое не укладывается ни в какие рамки: ладно бы только белые выставлены героями — религиозная тема, доминирующая в поэме, раскрыта самым необычным, если не сказать диким, образом. Хлебников, который некогда сочинял идиллии на языческой подкладке, нападал в установленном порядке на Церковь и породнил в «Поэте» Богоматерь и Русалку (Вы сёстры. В этом нет сомнений), не ограничивается повестушкой, где красный учится мужеству у белого и применяет эти навыки в ницшеанской схватке с Богом, исход которой отнюдь не предрешён. Чудовищное возбуждение потрясённого стойкостью врага Старшого не снимает ни попытка выговориться, ни алкоголь, ни богохульство, ни даже пуля, выпущенная в красный угол, и цигарка, прикуренная от лампады, — он сдаётся лишь на обаяние женоподобного Бога с иконы. Оказывается, Иисус вытатуирован и на груди матроса:
Вон Бог в углу.
И на груди другой —
В терну колючем,
Прикованный к доске, он сделан,
Вытравлен
Порохом синим на коже.
Обычай морей.
И всё же Старшому удаётся оставить за собой последнее слово, и он стоически погибает, но его героизм имеет сомнительную ценность хотя бы потому, что это лишь подражание подвигу его врага. Хлебников воистину трагичен и справедлив одновременно: он не становится ни на чью сторону, а просто показывает, как метафизические символы вырастают из реального случая, как ахинея пьяного матроса превращается в мистическое видение обоюдной гибели белых и красных в пламени анархии. Неожиданный для автора строго выверенных утопий эсхатологический финал, не так ли.
Вполне уместна подача трагедии в драматической форме, однако Хлебников только дважды уточняет, кому принадлежат реплики:
Голос: Мама, а мама!
Старуха (показываясь): Как хотите!
В последней строке — единственная (как и в «Настоящем») сценическая ремарка. За исключением таковой, поэма состоит из прямой речи, которую зачастую нелегко соотнести с надлежащим персонажем. Помимо главных героев (Старуха, Старшой и Владимир) есть матрос помоложе (годок); молодая женщина с седыми волосами и эпизодическая Маруся, девочка с кошкой. Остальные действующие лица — просто толпа. Изредка встречаются описания от третьего лица, но из диалога не выбиваются и они:
Трясётся голова,
Едва жива.
Весьма ограничена внятная повествовательность:
Вошёл и руки на плечо
Столпились. Струнный говор.
Диалог в произведении на современном материале подразумевает естественную речь сторон, и Хлебников этого добивается: разговорный русский язык под нужды метрики в поэме отнюдь не подгоняется. Это „предельно сухой и жёсткий реалистический язык”.68 Есть, однако, многозначительные стилистические отклонения. Моряцкий сленг воспроизведён с фонографической точностью (годок | шамать | ашать), а вот речевые обороты Старшого — едва ли не с первых его слов — никоим образом не соответствуют матросу как социальному типу. Чужеродные обороты речи, накапливаясь во время пьяных излияний нашего дяди о смерти и Боге, подозрение превращают в уверенность: реализмом здесь и не пахнет:
Есть, однако, многозначительные стилистические отклонения. Моряцкий сленг воспроизведён с фонографической точностью (годок | шамать | ашать), а вот речевые обороты Старшого — едва ли не с первых его слов — никоим образом не соответствуют матросу как социальному типу. Чужеродные обороты речи, накапливаясь во время пьяных излияний нашего дяди о смерти и Боге, подозрение превращают в уверенность: реализмом здесь и не пахнет:
И седые люди садятся
На иголку ружья
Склянка красных чернил это зеркало
Я в жизнь его ворвался и убил
Как тёмное морское божество.
А вот примеры окончательного разрыва с “правдой жизни”: глаза предрассветной синевы | озёра синей думы Христа в устах седого морского волка и его же ящик, где воет цуцик | чёрная дощечка / За белою звучит / И следует, как ночь / За днём упорно — образчики всенепременного, по Хлебникову, избегания греко-латинизмов (рояль, пианино, фортепьяно, клавиатура в данном случае).
«Ночной обыск» полон отголосками других произведений Хлебникова — даже тех, которые тогда ещё не были написаны. Тема моря, появившаяся впервые в неопубликованной поэме «Сердца прозрачней чем сосуд» (1912), продолжена «Хаджи-Тарханом» и «Ночью в окопе» — да практически всеми поэмами позднего периода. Разин и Пугачёв тоже не избегли упоминания в «Ночном обыске». Пьяные матросы поют известную песню о Разине, а Пугачёв появляется в отрывке
Море разливанное,
Море — ноздри рваные,
Да разбойничье,
Беспокойничье.
Аж грозой кумачовое
Море беспокойничье,
Море Пугачёва.
Строки Мы не цари — / Сидеть и грезить — эхо «Настоящего», а Старуха, ведьма хитрая словно взята из «Ночи перед Советами». Проницательные глаза Христа напоминают глаза казни из «Труба Гуль-муллы». Мотив пианино, знакомый по «Прачке» (тот ящик, где струны), с неизбежностью появится в последней поэме Хлебникова «Синие оковы». В предпоследней же, «Переворот во Владивостоке», двустишие
Моя играй-играя
С тобою мало-мало
будет вторить «Ночному обыску»:
Моя-твоя потухла
Погасла мало-мало.
Пассаж Аракой Бога угощу находим в последней опубликованной работе Хлебникова «Зангези». Наконец, “лингвистические” шутки Cтаршого — эхо собственных теорий Хлебникова:
Владимир! ‹...›
Согнутый на полу
Владеет миром
Слушай, там в дверях дощечка:
«Прошу стучать».
Браток поставил “к” — вышло:
«Прошу скучать».
Прочные связи с «Двенадцатью» Блока ясно видны в сюжете и строках
Куда, пострел?
Постой! Оружье, руки вверх
Трах-та-тах
Убийцы святые.
Последняя строка повторена дважды. Критик заметил, что „Поэма «Ночной обыск», несомненно, ничем не хуже удачных вещей В. Хлебникова, она была бы даже в высшей степени значительной, не имей предшественницей «Двенадцать» Блока”.
69
С этим вряд ли можно согласиться, ибо влияние Блока не исключает совершенно иного этоса хлебниковской поэмы.
Мусоргский слышен у Хлебникова и в теме самосожжения (ср. «Хованщина»). Строки
Нынче море разгулялось,
Больше расходилось,
Море разозлилось
можно принять за эхо сцены в Кромах из «Бориса Годунова»:
Расходилась, разгулялась
Удаль молодецкая.
Музыкальность Хлебникова проявляется здесь на более глубоком уровне развития темы и мотива. Море звучит в этой поэме громче, чем где бы то ни было. Метонимически это слово соответствует моряку (Ты нас, море, не морочь); символически означает революцию (море Пугачёва); метафорически — свободу, анархию и дикий разгул (Чтоб шумело море, море разливанное | Сделаем здесь море). Метафора моря способна порождать другие метафоры (Мы, море, принесли ей снег). Ещё лучшим примером музыкального развития является использование Хлебниковым одного и того же высказывания в разных тональностях. Например, фраза „Даёшь в лоб, что ли?”, содержащая слово из моряцкого сленга даёшь, впервые появляется косвенно, в сцене грабежа:
Даёшь?
Давай сколько влезет.
Затем, уже в определённой форме, иронически звучит из уст белого офицера перед смертью. После этого Старшой повторяет эту фразу трижды, цитируя офицера и вспоминая его смерть. Некоторое время спустя фраза вновь используется им, уже в смысле „вызываю огонь на себя” по отношению к Богу. Наконец, в финале поэмы, безропотно принимая свою судьбу, он опять её повторяет.
Верлибр «Ночного обыска» — значительное достижение Хлебникова. Поэт здесь уже не в поиске, он пользуется свободным стихом уверенной рукой мастера. Поэма начинается короткими чёткими фразами и staccato разговоров, прерываемых возгласами, шумами, песнями и частушками. Н. Харджиев сказал, что Хлебников реформировал русский стих, разрушив так называемую мелодичность и введя „поэтический ритм живого устного слова”.70 Утверждение это справедливо лишь отчасти, поскольку одновременно Хлебников развивал “мелодичный” верлибр. В «Ночном обыске» отрывистые фразы правдоподобных сцен довольно быстро уступают место мистическим длиннотам пьяной ахинеи Старшого, где “живой речи” нет и в помине, а сложный ритм производит впечатление высокого слога. Этот плавный поэтический верлибр уже был успешно опробован в «Трубе Гуль-муллы», тогда как короткие разговорные строки берут начало в раёшном стихе «Прачки».
Утверждение это справедливо лишь отчасти, поскольку одновременно Хлебников развивал “мелодичный” верлибр. В «Ночном обыске» отрывистые фразы правдоподобных сцен довольно быстро уступают место мистическим длиннотам пьяной ахинеи Старшого, где “живой речи” нет и в помине, а сложный ритм производит впечатление высокого слога. Этот плавный поэтический верлибр уже был успешно опробован в «Трубе Гуль-муллы», тогда как короткие разговорные строки берут начало в раёшном стихе «Прачки».
Хлебников пытался приспособить «Ночной обыск» к своей теории времени, даже планировал использовать его как составную часть сверхповести «Зангези». К счастью, от этого замысла поэт отказался, оставив лишь математический эпиграф 36 + 36, воспроизведённый в СП: I. Если считать его заумью, что такое тогда истолкование таковой художником Митуричем:
Это формула времени, которая осуществлена в этой поэме. Время от одной смерти до другой, считая единицами —
ударами сердца — 18 минут (3
6 +3
6 = 1458 ударов, делённое на минуты — в минуту 81 удар — 18 минут), чтение поэмы приблизительно занимает это время.
71
6
«Невольничий берег»,
72
скучноватая пропагандистская мелодрама, написанная без внутреннего убеждения, — наименее эффектное произведение Хлебникова. Это пацифистская поэма о призывниках Первой мировой, которых отбирают на службу как рабов на рыночных торгах, и они возвращаются домой
безглазыми, безустыми. Вызывает недоумение то, что солдат отправляют за море
на палубах строгих пароходов; это и противоречит историческим фактам, и опровергается самим Хлебниковым в строках
В окопы Польши, /
В горы Галиции, но этому при желании найдётся объяснение: Хлебников перенёс признаки тропа (рынок африканских рабов) на предмет сравнения.
Хотя о поэме мало что можно сказать, история её обнародования довольно любопытна. Публикатор, Алексей Кручёных, в 1931 году датировал поэму 1916 годом. Степанов, не имея достаточно времени, чтобы проверить правильность этого, включил “гроссбуховский” извод поэмы в СП: III (год издания тот же, 1931-й), после чего «Невольничий берег» стал фаворитом критиков, подходивших к Хлебникову с точки зрения его политического роста. Общепризнанно, что антимилитаристская позиция Хлебникова позволила объявить его попутчиком коммунистов.73 Это мнение не противоречит идеям, высказанным Хлебниковым в «Войне в мышеловке» (1919) и в «Ладомире» (1920). Позже Степанов напечатал поэму в ИС: 163–169, 487 с прежней датировкой:
Это мнение не противоречит идеям, высказанным Хлебниковым в «Войне в мышеловке» (1919) и в «Ладомире» (1920). Позже Степанов напечатал поэму в ИС: 163–169, 487 с прежней датировкой:
Невольничий берег — впервые напечатано в «Литературной газете» №18 от 4 апреля 1931 г. Автограф поэмы находится у Ф. Богородского и написан по старой орфографии. А.Е. Кручёных на этом основании относит её ко времени империалистической войны, т.е. к 1915–1916 гг.; отрывок из этой поэмы был Хлебниковым записан, видимо, по памяти, в его гроссбухе 1919–1921 гг., напечатан в собр. произв., т. III, стр. 230.
«Большая Советская Энциклопедия» (1957) не ставит датировку под сомнение: поэма написана „в годы войны”.
74
А ведь ещё в 1940 г. наука нанесла сокрушительный удар по этой выдаче желаемого за действительное. Харджиев нашёл беловой автограф поэмы и воспроизвёл его в
НП, обвинив Степанова в том, что тот напечатал отрывок, не оговорив этого (полный текст не сохранился), и умудрился перепутать листы рукописи. Но суть даже не в этом: «Невольничий берег» не мог быть написан раньше осени 1917 г., поскольку в беловике налицо штурм Зимнего дворца:
75
Дикие, гордые, вы,
Хлынув из горла Невы
В рубахах морской синевы,
На Зимний дворец ‹...›
Это над морем
«Аврора»
Подняла: „Наш”. ‹...›
Браток, шараш! ‹...›
Заводы ревут: на помощь.
Малой?
Керенского сломишь?
Харджиев датировал произведение 1921 годом, синхронизировав его с четырьмя революционными поэмами. Это опровергало установившееся уже мнение о влиянии Хлебникова на Маяковского. Напротив, «Война и мир» Маяковского (1916) стала для Хлебникова в его поэме образцом. Идеологическая непогрешимость её и раньше подвергалась сомнению, но теперь «Невольничий берег» стал ещё и анахронизмом.
Эпизод с Зимним дворцом нельзя считать достоверным подтверждением даты. Например, отрывок из «Ладомира» (1920), где Ленин произносит речь с балкона дворца Кшесинской, известен по «Сердцам прозрачней чем сосуд» (1912). Тем не менее, Харджиев прав, хотя есть аргументы гораздо весомее тех, которые он приводит. Во-первых, Богородский, однополчанин Хлебникова по персидскому походу, не мог получить от поэта в 1921 году рукопись 1915–1916 гг. Хлебников не имел малейшей возможности сохранить её, даже если бы в годы войны и революции какое-то время имел при себе. Во-вторых, говорок революционных матросов (братва) появляется только в послереволюционной поэзии Хлебникова. В-третьих, поэма изобилует типичными советскими пропагандистскими штампами, которые Хлебников мог усвоить только благодаря своей работе в советском агитпропе. Примеры тому: рука мировой наживы | палец мирового рубля | Кому на самокатах / Кататься дадено.
Фразы типа
Вот тебе и раз!
Ехал за море
С глазами, были глаза, а вернулся назад без глаз
также отдают риторикой советской политграмоты и могут быть отслежены, вплоть до лекций Политпросвета советским войскам в Персии. Кроме того, воззвания типа Матери России, седые матери имеют много общего с ораторским тоном «Прачки». Атеистические мотивы, такие как Спас, не останавливающий соломорезку войны, тоже позднего происхождения. Причем трактовка их в поэме музыкальна, что тоже характерно для позднего периода: тема вышитого на хоругвях лика Спаса повторяется трижды, всякий раз со сменой тональности на манер „циклической формы”.
Свободному стиху, которым написана поэма, Хлебников вполне предался только после “харьковского сидения”. Особенности верлибра позволяют поместить «Невольничий берег» где-то между «Ночью перед Советами» и «Прачкой». Здесь наблюдается та же окказиональная рифмовка с тенденцией к составной рифме: баево, глаза его | хама рог, за море | вывоз куй, вывеской | выломать, выла мать | травы скачки, выскочки. Но в «Невольничьем береге» нет той силы, что в «Ночном обыске»; свободный стих здесь утомительно прозаичен.
Есть один отголосок «Трубы Гуль-муллы», также напоминающий «Ночной обыск»:
Ветер плачевный
Топит снега стада
На молодые года.
Наконец, видим образчики неуместного использования зауми с коннотациями, не вполне соответствующими серьёзному контексту: И вдруг Же завизжало | Хрюкает Же и бежит как рысак. Этот тип зауми встречается только в поэмах, написанных Хлебниковым после революции.
7
Хотя окончательная редакция «Уструга Разина» датирована 19 января 1922 г., фактически поэма написана между 2 и 11 ноября 1921 г., то есть принадлежит к революционным поэмам. Ноябрь 1921 года был для Хлебникова одним из самых продуктивных. Поэма впервые напечатана посмертно в журнале «ЛЕФ», №1 со множеством изъятий, но даже текст из СП и ИС вызывает некоторые сомнения. Например, начало пассажа Нам глаза её тошны следует перенести к началу, где казаки упрекают своего предводителя.
Среди поздних поэм «Уструг Разина» занимает место, подобное «Ладомиру» харьковского периода, ибо, установив новый стиль, Хлебников вдруг возвращается к изжитым, казалось бы, подходам и приёмам. Взяв трагическую ноту в произведениях на современные темы, он срывается в примитивистскую обрисовку минувшего. Динамизм поэм о революции сменяется статикой портрета и аляповатой стилизацией. «Уструг Разина» в некотором смысле классичен по смысловой компактности, резко контрастируя этим с романтическими выплесками, кружением и ветвлением темы в поэмах вроде «Ночного обыска». Свободные рапсодические строки уступают место заезженному поколениями предшественников стиху. «Уструг Разина», если он действительно написан одновременно с поздними поэмами, выдвигает на передний план скорее проблему психологии творчества, нежели вопросы версификации.
И всё же «Уструг Разина» — безусловно, произведение позднего периода: выражения вроде Нас застенок ждёт и дыба идиллическими не назовёшь. Сдвиги не пародийны и кажутся более интегрированными в фактуру, чем в более ранних произведениях. И, несмотря на историческую подоплёку, поэма прорывается в XX век:
И Разина глухое „слышу”
Подымется со дна холмов,
Как знамя красное взойдёт на крышу
И поведёт войска умов,
и — ещё разительнее — в
Чтоб река не голодала бы
И у Волги у голодной
Слюни голода текут,
где голод 1921 года проецируется на XVII век. Есть и движение вширь: заканчивается поэма пассажем о казаках
Запорожской Сечи. «Уструг Разина» как бы завершает период, начатый разинской поэмой,
76
и развивает тему восстания бедноты из предыдущих поэм.
После «Ладомира» «Уструг Разина», пожалуй, самое любимое советской критикой произведение: в перечни лучших произведений Хлебникова оно входит неизменно. На самом деле ничто в поэме не оправдывает такого к ней отношения, кроме очевидного факта: это первая поэма Хлебникова с разинской тематикой, где нет ни формального эксперимента, ни идеологической эзотерики. Тем не менее, пессимистичный финал (Нас застенок ждёт и дыба, / Кровь прольётся на вершок) те же критики вряд ли отнесут к её достоинствам.
Среди источников поэмы называют баллады А.К. Толстого и исторические песни о Разине.77 В действительности эти песни имеют весьма отдалённое или самое общее отношение к поэме Хлебникова. Первоисточник лежит, что называется, на поверхности: «Уструг Разина» сюжетно близок любимой песне русских застолий «Из-за острова на стрежень». Каркас поэмы точно соответствует трем основным моментам песни: Выплывают расписные | Позади их слышен ропот | Волга ‹...› красавицу прими. Четырёхстопный хорей песни доминирует и здесь.78
В действительности эти песни имеют весьма отдалённое или самое общее отношение к поэме Хлебникова. Первоисточник лежит, что называется, на поверхности: «Уструг Разина» сюжетно близок любимой песне русских застолий «Из-за острова на стрежень». Каркас поэмы точно соответствует трем основным моментам песни: Выплывают расписные | Позади их слышен ропот | Волга ‹...› красавицу прими. Четырёхстопный хорей песни доминирует и здесь.78
Как обычно, слышны отголоски произведений других авторов: от пушкинского Во душе его / Поёт вещий Олег до старинного воинского Иступить свои мечи. Налицо эхо произведений самого Хлебникова: пассаж о баба-плице (ср. «Синие оковы») или горло королей (ср. «Ладомир»). Но самые крепкие связи — с «Хаджи-Тарханом». В обеих поэмах властвуют Волга, Разин и море; обе начинаются громогласной морской увертюрой. Тематическая близость особенно очевидна в черновиках «Уструга Разина»,79 среди которых длинный пассаж о мусульманах, одной из главных тем «Хаджи-Тархана». Некоторые строки в черновиках словно взяты непосредственно из «Хаджи-Тархана»: Будто конский скок в пустыне.
среди которых длинный пассаж о мусульманах, одной из главных тем «Хаджи-Тархана». Некоторые строки в черновиках словно взяты непосредственно из «Хаджи-Тархана»: Будто конский скок в пустыне.
Можно сказать, «Уструг Разина» занимает в поздний хлебниковский период место, подобное «Лесной тоске» времён Харькова: и здесь, и там особое внимание уделено звуковой стороне. Аллитеративные эффекты варьируются от традиционных:
Умеет рукоять столетий
Скользить ночами точно тать
через усиленно анафорическое:
От отечества оттоле
Отманил нас отаман
к внутреннему склонению или парономастии:
узду людей езды
пучина для почина
Он кулак калек
ножами наживы
невидим и неведом
Время жертвы и жратвы.
В этом помогает внутренняя рифма:
И плахи медленные взмахи,
иногда щедро сочетая аллитерацию и другие консонантные эффекты:
Ей ворчится как волчице
Волны Волги точно волки.
В этом контексте заслуживает внимания особый приём, нацеленный на новый примитивистский эффект: использование рифмованных дефисных слов. Начальный согласный заменяется губно-носовым согласным, последнее слово дефисной пары становится бессмысленным повторением первого слова.
80
Такие слова часто встречаются в детских считалках и фольклоре (ср.
фигли-мигли, шуры-муры, гоголь-моголь, калина-малина). Таких примеров в поэме пять:
богу-могу |
девы-мевы |
руки-муки |
косы-мосы |
очи-мочи.
Наконец, в этой поэме Хлебникова последовательно применяется рифма. Она имеет все обычные характеристики. Богатая рифмовка явно доминирует, присутствует ожидаемый процент сложных рифм, но также хорошо представлена условная рифма, рифма без обязательного совпадения опорного согласного. Наблюдается (трижды) заметный упадок толстовской рифмы: досуга, кольчуги | рыбу, дыба | речью, Сечи.
Звуковое богатство идёт рука об руку с богатством словарного запаса, что придаёт поэме красочность. Однако и здесь Хлебников классичен в своих средствах. Просторечие хорошо интегрировано, а такие слова и фразы, как куксить | дребедень | Москве кажет — во! не звучат явным диссонансом. Показательно, что в «Уструге Разина» налицо единственный — весьма умеренный — неологизм (выдум). Употребление редких слов необычайно уместно, впечатление такое, будто Хлебников прошёл школу акмеизма: Ляля буйного донца.
А вот образность куда менее ортодоксальна. Здесь Хлебников свободен в использовании катахрестических структур:
‹...› рукой седых могил
Ковать столетья для удил.
Поэт вводит расширенные сравнения с отсутствующим объектом сравнения (Так девушка времён Мамая ‹...›). Уже в зачине поэмы он использует два разных типа метафоры моря, производя не только изменение грамматической конструкции, но и семантический сдвиг от коня (неук) к части упряжи (удила). В остальном Хлебников проявляет своё обычное пристрастие к метонимии (На голове его овца), что здесь вполне в духе русского языка (ср. лиса на плечах). В последнем примере и в Был заперт порох в рог коровы (следовало бы в коровий рог) акцент делается на существительных, а не на прилагательных, что делает существительные обособленными и “живыми”. С художественной точки зрения это оживление животных более эффективно, чем ранние реализации Хлебникова в «Маркизе Дезес», потому что оно более вербально. Другие метафоры несут безошибочно узнаваемый хлебниковский отпечаток:
Столица одичавших волн
Пастухи ночей весёлых.
Метрически «Уструг Разина» построен на четырёхстопном хорее, хотя обманчиво начинается и заканчивается ямбом. Налицо 96 хореических, 59 ямбических и 8 амфибрахических строк. Асеев отмечал особую ритмическую свободу и необычные свойства хорея в этой поэме, предсказав, что его „ни один учёный не может проанализировать”.81 На самом деле в хорее Хлебникова здесь видим знакомые типы сдвигов, присущие ямбу его ранних поэм, но с меньшей частотой. Хорей «Уструга Разина» кажется необычным лишь потому, что ямбические пассажи совершенно лишены ритмических сдвигов. Хлебников использует переносное ударение, которое более соответствует не ямбу, а именно хорею, что можно увидеть во многих народных песнях; наверное, поэтому Асеев и счёл это не подлежащим анализу. Образчики: Горит пояса насечка | Москве кажет — во | И на самом носу судна / На парчовой лежит койке. Только один раз Хлебников использует замену стопы: Силу бурь удесятеря. Любопытно, что ближе к финалу поэмы Хлебников использует смену метра для “живописания звуком”; переходом от хорея к амфибрахию он показывает постепенное успокоение Волги:
На самом деле в хорее Хлебникова здесь видим знакомые типы сдвигов, присущие ямбу его ранних поэм, но с меньшей частотой. Хорей «Уструга Разина» кажется необычным лишь потому, что ямбические пассажи совершенно лишены ритмических сдвигов. Хлебников использует переносное ударение, которое более соответствует не ямбу, а именно хорею, что можно увидеть во многих народных песнях; наверное, поэтому Асеев и счёл это не подлежащим анализу. Образчики: Горит пояса насечка | Москве кажет — во | И на самом носу судна / На парчовой лежит койке. Только один раз Хлебников использует замену стопы: Силу бурь удесятеря. Любопытно, что ближе к финалу поэмы Хлебников использует смену метра для “живописания звуком”; переходом от хорея к амфибрахию он показывает постепенное успокоение Волги:
И морю утихнуть легко,
И ветру свирепствовать лень,
тогда как в своих ранних работах он предпочитал внутреннюю метрическую звукопись: Молвил Белун, взгляд глаз вперяя долгий | Тот залепетал ему о праве мести («Внучка Малуши»; Но он молчит и вдруг бежит: какие странные скачки! / Я медленно достаю очки («Журавль»); О власть, хохочи или не хохочи | Был страшен подымающйся с земли пугок («Война-смерть»); И будто судорогой безбожия («Поэт»); И в землю бьют как колокола («Ладомир»).
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
ИС:
Велемир Хлебников. Избранные стихотворения / ред., биограф. очерк и примеч. Н. Степанова.
М.: Советский писатель. 1936.
Особо важные цитаты из указанных и некоторых других источников приведены в более развёрнутом, нежели у В.Ф. Маркова, виде.
 1
1 Например, Ю. Тынянов писал (
СП: I, 28): «Ладомир», «Уструг Разина», «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск» — едва ли не самые важные наши советские поэмы о революции. Этому вторит Н. Степанов, выделяя стихи о войне и революции как „самую важную” часть творчества Хлебникова (
СП: I, 44). А. Дымшиц писал об „идеологическом кризисе, пережитом Хлебниковым в годы войны и революции, который повернул его к демократии и демократическому искусству и сделал его автором «Ночи перед Советами», «Уструга Разина», «Ладомира» и т.д.” (Владимир Маяковский // Звезда, № 5–6 (1940). С. 160).
 2 Johann Peter Eckermann
2 Johann Peter Eckermann. Gespräche mil Goethe.
Leipzig. 1925. P. 583 (разговор 14 марта 1830).
 3
3 См. его письма В. Каменскому летом 1910 г. и В. Иванову в 1912 г. (
СП: V, 290, 296).
 4
4 «Разин» кажется экспериментальным, только если сосредоточить внимание исключительно на его палиндромной фактуре, и, вопреки мнению некоторых критиков (
И. Поступальский. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 240), две поздние поэмы не являются экспериментами, а скорее открывают новый период, ритмически всецело соответствуя всему творчеству Хлебникова после “харьковского сидения”.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 5 В. Хлебников
5 В. Хлебников. Вам. Часы I.
СПб. 1922. С. 3–7.
 6 Чуковский К
6 Чуковский К. Уот Уитмен. 6-е изд.
М.-Петроград. 1923. С. 161–162.
 7 Козлов Д
7 Козлов Д. Новое о Велимире Хлебникове // Красная Новь, №8 (1927). С. 179.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 8 Александров В
8 Александров В. О поэме Н. Асеева и профессиональном разговоре // Литературный критик, №7 (1939). С. 91: „[Есть] ‹...› превосходные образцы свободного стиха в его поздних произведениях”.
 9 И. Поступальский
9 И. Поступальский. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 240.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 10
10 Это «Разин» I, в отличие от прозаического произведения «Разин» II (1922), известного также как «Две Троицы». Поэма датирована 2 июля 1920 года, но в других примечаниях дата указана как 15 июня – 11 июля 1920 года.
 11 А. Крученых
11 А. Крученых. 15 лет русского футуризма, 1912–1927 гг.
М. 1928. С. 18.
 12 Константин Федин
12 Константин Федин. Язык литературы // Литературная учёба, №3–4 (1933). С. 112;
Л.И. Тимофеев. Теория литературы,
М. 1948. С. 236.
 13
13 См.:
J. Newton Friend. Words, Trick sand Traditions.
New York. 1957. Pp. 30–46.
 14
14 Правда, В. Брюсов практиковал палиндром в своих «Опытах», но здесь это было сознательное подражание позднеримской поэзии.
 15
15 См.: Отец российского пролетарского футуризма Давид Бурлюк. Энтелехизм. Теория, критика, стихи, картины (1909–1930).
Нью-Йорк: издание Марии Никифоровны Бурлюк. 1931. С. 6.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 16 А. Крученых
16 А. Крученых. 15 лет русского футуризма, 1912–1927 гг.
М. 1928. С. 18.
 17 СП
17 СП: II, 8–9.
 18
18 Сочинения и письма Александра Пушкина. Изд. П.О. Морозова.
СПб. 1896. VIII, 75.
 19
19 Ср. в «Трубе Гуль-муллы»:
Я Разин напротив,
Я Разин навыворот ‹...›
Он грабил и жёг, а я слова божок ‹...›
Разин деву
В воде утопил.
Что сделаю я? Наоборот? Спасу? 20
20 Ср.: А. Ремизов отождествляет себя с Аввакумом и русскими книжниками XVI века в «Пляшущем демоне» (1949).
 21
21 Ср. Кручёных, указ. соч., с. 18: „Слева направо и справа налево гремит громадный бунт Разина”.
 22
22 Вот одни из самых длинных английских палиндромов: No, it is opposed, art sees trade’s opposition | Dog as a devil deified, deified lived as a god (Friend, op. cit., p. 46). Недавний палиндром Джеймса Тербера в его «Фонарях и копьях» ещё длиннее, хотя менее совершенен: Piel’s lager on red rum did murder no regal sleep (Time, April 28, 1961, p. 100).
 23
23 И в другой поэме Хлебникова этого периода, «Прачка»:
Охала, ухала, ахала (
СП: III, 257).
 24
24 „«
Труба Гуль-Муллы» — впервые напечатано в coбp. произв., т. I, стр. 233–244. Здесь печатается (как и в собр. произв.) по автографу. Написано, вероятнее всего, во время пребывания Хлебникова в Персии и непосредственно вслед за этим в Баку, т.е. в июле–сентябре 1921 года (в гроссбухе записан ряд первоначальных вариантов среди стихов этого периода, а в журн. «Искусство» №2–3, Баку, октябрь 1921 г. напечатано два варианта-отрывка: «Очана-мочана» и «Дуб Персии» (стр. 18–19). Текст «Трубы Гуль-Муллы» записан в отдельной тетради и представляет собой черновую редакцию поэмы, подвергавшуюся Хлебниковым не менее чем троекратной правке. В результате этих правок отдельные части первоначального текста зачёркнуты, а остальное обслоилось целым рядом вариантов, написанных над строками и сбоку на полях, а иногда и под строкой первоначального текста. Во многих случаях мы имеем дело с рядом незачёркнутых эквивалентных вариантов, которые, по-видимому, не должны были входить в окончательный текст. В некоторых случаях Хлебников начинал на полях дополнения и новые варианты, которые он также не доводил до конца и оставлял недописанными. 1–2 и 5–6 главы, частично зачёркнутые Хлебниковым в тетради, сохранились в переписанном набело виде в рукописи начала 1922 г. На этом основании черновая редакция этих глав (1–2 и 5–6) заменена беловым текстом, найденным лишь после выхода I тома собр. произв. и публикуемым здесь впервые. Учитывая незавершённость поправок Хлебникова, редакция принуждена в ряде случаев ограничиться конъектурным чтением, отдавая предпочтение наиболее законченному первоначальному тексту и включая в него лишь несомненные исправления и дополнения. По сравнению с текстом, данным в I томе собр. произв., сделаны текстологические изменения, в основном сводящиеся к устранению дополнительно приписанных Хлебниковым вариантов” (
ИС: 491–492).
 25
25 Он носил бороду и очень длинные волосы, его единственная одежда была сшита самым простым способом из двух мешков из-под муки, и он был бос.
 26
26 См.:
ИС: 57–59. Комментарий очевидца, разъясняющий некоторые детали поэмы, дал участник похода Р. Абих (
СП: I, 319–323). Текстовые совпадения с поэмой видим в письмах Хлебникова (
СП: V, 319–320).
 27
27 Книга П. Кропоткина символизирует стремление Хлебникова к всеобщему освобождению, но в то же время является конкретной книгой, которую Хлебников читал в пути (см.
СП: V, 320).
 28 John Drinkwater
28 John Drinkwater. The Lyric.
London. 1915. P. 19.
 29 СП
29 СП: V, 319.
 30
30 Ср.: в «Трубе Гуль-муллы»:
Горы, белые горы.
 31 СП
31 СП: I, 29.
 32
32 В 1920 г. это голод в Харькове, унижения от Есенина и Мариенгофа (см.:
А. Мариенгоф. Роман без вранья.
Л. 1929. С. 79–82), безуспешные попытки читать лекции по теории числовых закономерностей событий истории (
СП: V, 316) и конфликт с местными поэтами на пролеткультовской конференции в Армавире.
 33
33 CП: V, 320. Хлебников искажает имя Али Мухаммада Баба, вождя религиозного движения в Персии середины XIX века (см.:
Claud Field. Persian Literature.
London. 1912. Pp. 340–348). Другое упоминание Баба Хлебниковым см.:
НП: 180.
 34 ИС
34 ИС: 67.
 35 СП
35 СП: V, 320.
 36 СП
36 СП: V, 322.
 37 СП
37 СП: V, 321.
 38 НП
38 НП: 385.
 39 В.П. Никитин
39 В.П. Никитин. Русский дервиш (на фарси) // Ягма, месяц Мехр, 1334 (1955).
Тегеран. С. 15.
 40
40 Золотистый цвет волос героини «Царской невесты» — существенное отличие от исходного текста Навроцкого. В «Гибели Атлантиды» рабыня сначала появляется с чёрными волосами, но позже Хлебников перекрашивает их в свой любимый цвет — золотой. В «Шамане и Венере» обычное в фольклоре
кровь с молоком становится
золотом и мелом.
 41
41 Есть примеры тавтологии, столь характерной для Хлебникова:
белое бельё |
Каменоломня синевы /
Чей камень полон синевы.
 42
42 Русские метафоры можно условно разделить на творительно-падежные и номинативно-падежные. Первый тип — переходная форма от сравнения к метафоре (
она змеёй к нему подкралась); вторая — метафора в чистом виде (
она змея).
 43 СП
43 СП: V, 250.
 44
44 Вспомним, что перифраз был излюбленным приёмом поэтов XVIII века, особенно Ломоносова. См.:
Соколов А.Н. Очерки по истории русской культуры XVIII и первой половины XIX века.
М. 1955. С. 123.
 45
45 Многие слова турецкие, хотя Хлебников не знал, что в персидском Азербайджане говорят по-турецки.
 46 ИС
46 ИС: 64.
 47
47 Например:
Бродский-Краснов М., Друзин В. Краткий очерк русской литературы 19-го и 20-го века.
Саратов. 1931. С. 74.
 48 A.M. Ripellino
48 A.M. Ripellino. Chlèbnikov e il futurismo russo // Convivium, no. 5 (1949). P. 681.
 49 И. Поступальский
49 И. Поступальский. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 240.
 50
50 „‹...› при всей своей искренности вера Хлебникова в революцию и коммунизм была именно верой, далёкой от понимания подлинной сущности революции” (
ИС: 64);
Тимофеев Л.И. Книги о Маяковском // Новый мир, №1 (1941). С. 210.
 51
51 В рукописи есть любопытная и характерная описка:
Ночь перед Рождеством.
 52
52 В финале поэмы тема возмездия звучит более отчетливо, когда эта фраза повторяется, а затем следует
за отцов за грехи.
 53
53 Главы 4 и 5 явно из «Прачки» и не имеют ничего общего с «Ночью перед Советами». Из издания 1960 года Степанов их удалил.
 54 A.M. Ripellino
54 A.M. Ripellino. Chlèbnikov e il futurismo russo // Convivium, no. 5 (1949). P. 681.
 55
55 „Две большие вещи: «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск» являются произведениями, в которых виден Хлебников в полный рост. С них, по-моему, и нужно начинать знакомство с Хлебниковым неискушённому читателю. Ими да, пожалуй, ещё «Разиным» и собранием отдельных мелких стихотворений и должен быть ограничен однотомник, какой бы вошёл в обиход библиотек и был бы издан для того, чтобы люди полюбили и узнали Хлебникова ‹...›” (
Николай Асеев. Велемир // Литературный критик, №1 (1936). С. 189).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 56
56 „В реалистическом тоне выдержаны и две из его основных революционных поэм — «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск». Первая из них, так неожиданно и так убедительно перекликающаяся с Некрасовым, не только самая яркая и сильная вещь о страшном наследии крепостничества во всей литературе XX века, но и подлинно глубокое художественное изображение той бездны непонимания, которая отделяла народолюбие народнической интеллигенции от реальной народной революции”. (
Д. Мирский. Велимир Хлебников // Литературная газета, 15 ноября 1935.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 57 Тимофеев Л
57 Тимофеев Л. Книги о Маяковском // Новый мир, №1 (1941). С. 210.
 58 Д. Мирский
58 Д. Мирский. Велемир Хлебников // Литературная газета, 15 ноября 1935.
 59
59 Ср. там же: „‹...› так неожиданно и так убедительно перекликающаяся с Некрасовым”. Ср.:
В. Друзин. Обзор // Звезда, №9 (1928). С. 137.
 60
60 Друзин, цит. соч., с. 137.
 61
61 „
Прачка — впервые напечатано в собр. произв., т. III, стр. 232–260. Написано в октябре – начале ноября 1921 г., судя по дате —1 ноября 1921 г. на обороте рукописи. Эта поэма Хлебниковым не была отделана и закончена, возможно, потому, что послужила материалом, из которого выросла поэма «Настоящее», писавшаяся одновременно с нею. По-видимому, Хлебников вначале предполагал ряд поэм о революции объединить в одну эпопею. Частями её (впрочем, совершенно самостоятельными) и должны были стать «Прачка» и «Настоящее». В рукописях Хлебникова остался набросок плана, “костяка” этой эпопеи: «Столица», «Горячее поле», «Речь», «Великий князь», «Прачка», «Разин», «Кол неба».
Хотя отдельные фрагменты «Прачки» повторяются в «Настоящем», тем не менее поэма представляет собой совершенно самостоятельное произведение. Первоначальная редакция написана на листочках с оторванными краями, многие слова и строки не дописаны или стёрлись, сбоку и над текстом многочисленные вставки, ряд фрагментов и главок зачёркнут. Ввиду этого чтение текста дано предположительным, каким оно было, несомненно, и для самого Хлебникова, обычно лишь в окончательной редакции отбиравшего варианты, сокращая и отделывая свои вещи.
Кроме этой первоначальной черновой редакции «Прачки» имеются ещё разрозненные листы из тетради под названием «Замок А» (датировано 7.ХІ.21–11.ХІ.21), представляющие промежуточный текст между «Прачкой» и «Настоящим». Одни главки из этого текста дублируют соответствующие главки в «Прачке», другие вошли в «Настоящее». Ввиду чернового характера автографа «Прачки» и пробелов в тексте, редакция сочла целесообразным недостающие и наименее отделанные главки «Прачки» дать по более законченному, перебелённому тексту разрозненной рукописи «Замка А». По этой рукописи даны следующие главки: 4, 16, 19, 20, 22.
В рукописи поэма озаглавлена «Прачка», но в черновых записях Хлебникова постоянно повторяется заглавие «Горячее поле». Горячее поле — городская свалка в дореволюционном Петербурге, находившаяся на окраине города. Свозившиеся туда мусор и навоз перегнивали, благодаря чему это поле было “горячим” и дымившимся. В этом тёплом мусоре и навозе ютилась городская беднота” (
ИС: 495–496).
 62
62 Ср. «Кол из будущего», где объединены утопические фрагменты Хлебникова (
СП: IV, 286).
 63
63 Строки здесь короткие и, как правило, приблизительно равной длины. В этом отношении «Прачка» занимает промежуточное место между «Ночью перед Советами» с её длинными строками и «Ночным обыском» с преобладанием коротких, отрывистых, разговорных строк.
 64
64 Может возникнуть закономерный вопрос: почему старый порядок у Хлебникова олицетворяет
Великий князь, а не царь? Возможное объяснение состоит в том, что прототипом был великий князь Константин, популярный поэт, публиковавший свои стихи под псевдонимом К.Р. Его творческое наследие включает и русскую пейзажную поэзию, и стихотворную пьесу о последних днях Иисуса (ср. гефсиманский образ в «Настоящем»). С другой стороны, строка о
ведре на коромысле может быть связана со стихотворением «Источник за вишнёвым садом» другого поэта-аристократа, Алексея Константиновича Толстого.
 65 Н. Асеев
65 Н. Асеев. На чорта нам стихи? // Октябрь, №1 (1927). С. 189;
СП: I, 28;
Тарасенков А. Путь Маяковского к реализации // Знамя, №4 (1939). С. 193.
 66
66 Р. Иванов-Разумник отказывался понимать, почему советская цензура допустила публикацию поэмы:
„Прежде всего скинем со счетов один из трёх отделов литературы — поэзия, художественная проза, критика — скинем со счетов последнюю, ибо нет критики там, где нет возможности личного мнения. ‹...› Критика в советской литературе превратилась в сплошное лакейство, в постоянное „чего изволите?” и тем самым перестала существовать — её свободно можно скинуть со счетов литературы.
Поэзию — со счетов не скинешь; в ней за последнюю четверть века появились такие произведения, которые прочно войдут в историю русской литературы, — но все они были произведениями людей отнюдь не “революционного поколения”.
Начиная с изумительной поэмы «Ночной обыск» Хлебникова (изумительно и то, как могла пропустить её цензура в пятитомном собрании сочинений этого поэта), продолжая исключительным по мастерству «Первым свиданием» Андрея Белого ‹...› — всё это было продолжением и завершением “золотого века” русской поэзии, начало которого совпало с началом ХХ-го века. Прошумел Маяковский, но и он в эпоху революции не пошёл дальше сильного «Облака в штанах» и остроумной, но мелкой «Мистерии-буфф», написанной ещё до периода “советской литературы”. Почти совсем замолчал незадолго перед смертью ставший членом ВКП(б) Валерий Брюсов; наоборот, много писал, сидя в своем Коктебеле, Максимилиан Волошин; шёл своим путём не-орденоносный Борис Пастернак, и даже орденоносный Николай Тихонов продолжал поэтические традиции расстрелянного Гумилёва. Совершенно умолкла по причинам цензурным Анна Ахматова, а по причинам дипломатического свойства — такой большой поэт, как Балтрушайтис (ставший послом в Москве новоявленной Литовской республики).
Но ведь всё это имена, известные ещё задолго до “советской литературы”; они-то и дали ей те произведения, которые так или иначе (главой, абзацем, названием) войдут в историю русской литературы” (Писательские судьбы.
Нью-Йорк. 1951. С. 51).
 67 Б. Яковлев
67 Б. Яковлев. Поэт для эстетов // Новый мир, №5 (1948). С. 215.
 68 Д. Мирский
68 Д. Мирский. Велимир Хлебников // Литературная газета, 15 ноября 1935.
 69 И. Поступальский
69 И. Поступальский. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 240.
 70 Н. Харджиев
70 Н. Харджиев Велемир Хлебников // Литературная газета, 27 окт. 1945.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 71 СП
71 СП: I, 325.
 72
72 Харджиев в
НП дал поэме название «Берег невольников», не сообщая о причинах этого.
 73 А. Волков
73 А. Волков. Поэзия русского империализма.
М. 1935. С. 206;
О. Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918 гг.
М. 1938. С. 297.
 74
74 БСЭ. Том. XLVI.
М. 1957. С. 204.
 75
75 „Неправильно также относить поэму «Невольничий берег», написанную под непосредственным воздействием «Войны и мира» Маяковского, к дореволюционному периоду. Текст поэмы написан по новой орфографии, которая установилась у Хлебникова с 1919 г. Отрывок с первоначальными вариантами ряда строк записан Хлебниковым в Гросбухе, заполненном в 1921 г. (Собр. произв., т. III). Автограф поэмы «Берег невольников» — беловик, написанный карандашом с немногочисленными поправками чернилами того же цвета, что и тексты вещей конца 1921 г. («Шествие осеней Пятигорска» и др.). На обложке “пятигорской” тетради Хлебникова, хранящейся у В. Каменского, записано:
Нижний Новгород. Тихоновская ул. д. 22, Фёдору Богородскому. 1. Ладомир. 2. Азы из узы. 3. Разин. 4. Невольни‹чий›
берег. 5. Статья. 6. Отрывок. 7. Стихи. Поэмы «Ладомир». «Азы из узы» и «Разин» в конце 1921 г. были вновь переработаны Хлебниковым. Очевидно, в начале 1922 г. все эти вещи Хлебников передал художнику Ф. Богородскому, предполагавшему их издать. ‹...›
Только правильное хронологическое расположение материала, основанное на документальных данных и стилистическом анализе, может восстановить реальную перспективу изменения поэтического метода Хлебникова от ранних “словотворческих”, “славянских” и “мифологических” вещей до монументальных революционных поэм 1920–1922 гг. ‹...›
Берег невольников (стр. 56). Написана в ноябре 1921 г. Печатается по беловому автографу. Немногочисленные поправки внесены Хлебниковым вероятно в начале 1922 г. Отрывок из первоначальной редакции поэмы, напечатанный в Собр. произв. (т. III), написан в тетради среди вещей, относящихся к ноябрю–декабрю 1921 г. Текст поэмы полностью не сохранился: листы 1–5, 7–10, пагинированные Хлебниковым, и последний лист, от которого угол с пагинацией оторван. Место утраченных кусков в тексте отмечено пунктиром.
Сохранились также отрывки на чернового текста: строки 186–284, с многочисленными разночтениями. Привожу отрывки из черновика, отсутствующие в беловом тексте поэмы:
Дворец в струях дыма мылся
И ружейных выстрелов
Мелькает полотенце.
В латах девичьей пехоты
От страшной охоты
Керенский скрылся.
Эй, малой, где же
Ружиица?
Очи безбожья божница.
Зимний сдавлен дровами: вся площадь в поленцах.
Невский ликует, точно младенец.
Лучше по‹д›ставить свой лоб
Тем, кто бросал иам „холоп”,
Кто послал нас в окоп.
Нева сегодня кипяток,
Клокочет, рвётся и плещет.
А вдалеке ночной свисток,
Таинственный и вещий.
Господи помилуй, господи помилуй.
Свободушка! милая, милая, милая!
Хочешь небу этому
Я с железною вилою
Весь повернусь? Не бывать!
Никому не сорвать
С этой ночи бус.
Светят советами.
Ночное забрало,
Блести в синеве.
Руке наглеца
Не сорвать звёздный шишак
С лица.
Советская власть в руки правду забрала.Середина предпоследней строки осталась незаполненной. Далее следуют две строки, зачёркнутые Хлебниковым:
Вместо божбы
Сосновые гробыи часть недоработанной стихотворной фразы” (
НП:8–9, 392–393).
 76
76 Две предсмертные поэмы Хлебникова обладают исключительной новизной, фактически начиная новый период его творчества.
 77 И. Поступальский
77 И. Поступальский. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 240; Степанов,
ИС: 77.
 78
78 Может быть, поэтому Д.П. Мирский ощутил в поэме „чистую и непосредственную “песенность” (Вёрсты, № 3 (1928). С. 146).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 79 СП
79 СП: I, 323–324.
 80
80 См.:
Якобсон Р. Новейшая русская поэзия.
Прага. 1921. С 55–56.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 81 Н. Асеев
81 Н. Асеев. На чорта нам стихи? // Октябрь, №1 (1927). С. 150.
Воспроизведено по:
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
University of Califonnia publications in modern philology. Volume LXII.
Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 125–153; 225–228.
Перевод В. Молотилова
Благодарим проф. Х. Барана, проф. Р. Вроона и В.Я. Мордерер за содействие web-изданию.
Окончание 

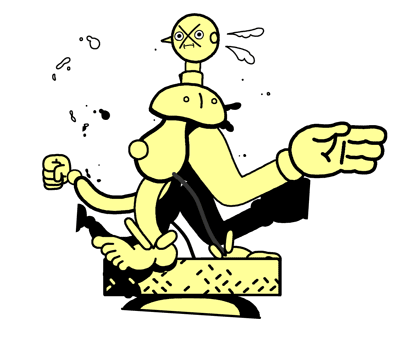


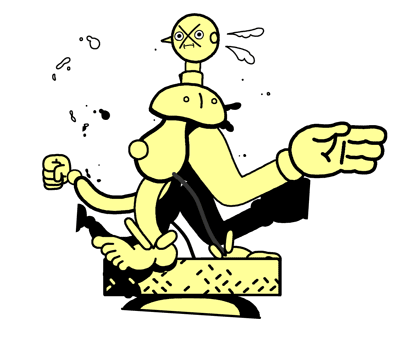


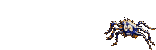

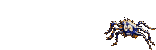

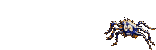

 есять поэм, написанных после пребывания в Харькове, показывают, что „езде в незнаемое” Хлебников предопределил новый курс. За исключением «Уструга Разина», все они обладают небывалыми прежде достоинствами и недостатками. Трудно сказать, что у них общего, кроме изъянов. Тематический спектр (возмездие, война, революция, Разин, Восток) соответствует разнообразию слога, но ни одна из затронутых тем для поэта не нова; две поэмы о Разине настолько различны по замыслу и фактуре, что кажутся взаимоисключающими. Кроме того, качественно поэмы весьма неравноценны: к этому времени относятся и лучшие творения Хлебникова, и худшие. Вариации тем, слога и качества могут отражать или до некоторой степени быть следствием перемещений поэта в пространстве. «Труба Гуль-муллы», например, начата в Персии, а закончена в Баку. Период революционных поэм длился с июля по сентябрь 1921 года, т.е. Хлебников работал над ними в Баку, Железноводске и Пятигорске; «Синие оковы» написаны в Москве.
есять поэм, написанных после пребывания в Харькове, показывают, что „езде в незнаемое” Хлебников предопределил новый курс. За исключением «Уструга Разина», все они обладают небывалыми прежде достоинствами и недостатками. Трудно сказать, что у них общего, кроме изъянов. Тематический спектр (возмездие, война, революция, Разин, Восток) соответствует разнообразию слога, но ни одна из затронутых тем для поэта не нова; две поэмы о Разине настолько различны по замыслу и фактуре, что кажутся взаимоисключающими. Кроме того, качественно поэмы весьма неравноценны: к этому времени относятся и лучшие творения Хлебникова, и худшие. Вариации тем, слога и качества могут отражать или до некоторой степени быть следствием перемещений поэта в пространстве. «Труба Гуль-муллы», например, начата в Персии, а закончена в Баку. Период революционных поэм длился с июля по сентябрь 1921 года, т.е. Хлебников работал над ними в Баку, Железноводске и Пятигорске; «Синие оковы» написаны в Москве.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()