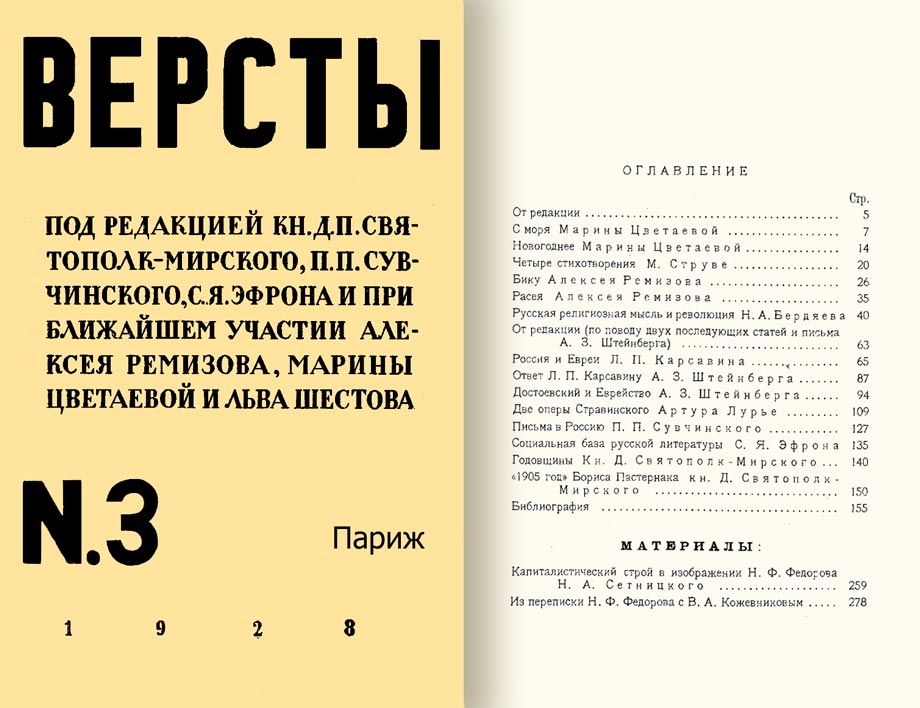
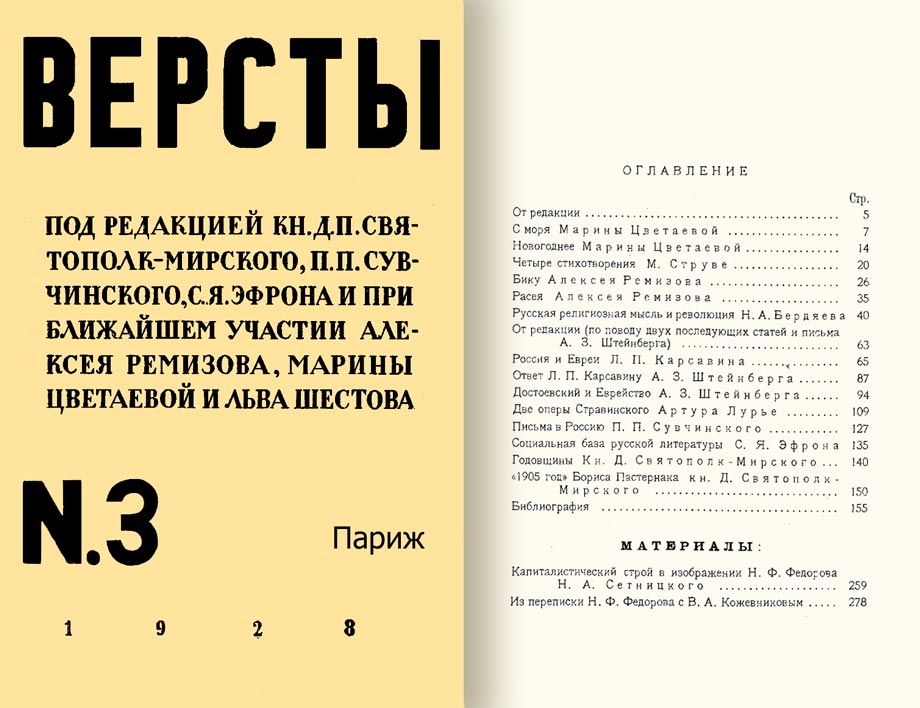
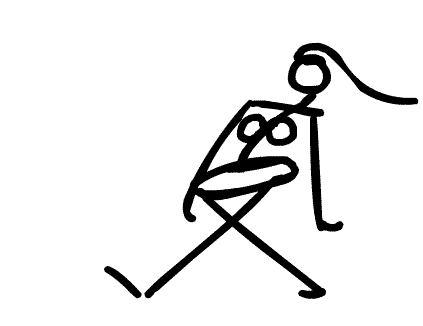 ля широкой публики Хлебников ещё не стал классиком. Для официальной, университетской науки, если бы она пребывала в традициях 19-го века, он никогда не мог бы стать классиком. Но филологическая наука на наших глазах так переродилась, что мы присутствуем в России при парадоксальном явлении: филологи стали передовыми двигателями художественного вкуса, — дело небывалое со времени, по крайне мере, Возрождения. Как раз молодые филологи, будущие профессора словесности и академики, — главные проводники приятия Хлебникова.
ля широкой публики Хлебников ещё не стал классиком. Для официальной, университетской науки, если бы она пребывала в традициях 19-го века, он никогда не мог бы стать классиком. Но филологическая наука на наших глазах так переродилась, что мы присутствуем в России при парадоксальном явлении: филологи стали передовыми двигателями художественного вкуса, — дело небывалое со времени, по крайне мере, Возрождения. Как раз молодые филологи, будущие профессора словесности и академики, — главные проводники приятия Хлебникова.Лучшие молодые филологи — Роман Якобсон (автор выдающегося исследования «О чешском стихе», где вопросы стихосложения получили постановку, можно сказать, отменяющую всё прежде сделанное в этой области), Г. Винокур (автор «Культуры языка», книги, впервые конкретно ставящей вопросы “политики языка” — дисциплины, только мечтавшейся покойному Н.В. Недоброво), санскритолог Б. Ларин — написали больше ценного о Хлебникове, чем все литературные критики вместе взятые. При этом если Якобсон1![]()
![]()
Конечно, эти вычисления были бесплодны и бессмысленны, и что в конечном счёте Хлебников был неудачник, спорить не приходиться. Зёрна его гениальности, и в жизни и в стихах, приходится искать в хаотических грудах безнадёжного на первый взгляд шлака. Интереснейшая мемуарная литература о нём (особенно интересны воспоминания Д. Петровского, ЛЕФ, 1923, №1) даёт гораздо больше представления о его совершенно явной дефективности, чем о светлых линиях гениальности, прорезающих этот тёмный спектр. Однако все близко знавшие его эти линии видели, и остались верны этой гениальности.
И не вся его поэзия — та бесплодная лаборатория, которую изучал Якобсон. Винокур прав, находя качества “классической” поэзии в таких стихах:
«Уструг Разина», кстати, напоминает нам, как близок был Хлебников Волге и степи. Он страстно любил лошадей (говорил о них: единственное приученное человеком животное, имя которого не стало ругательством), в воде он был как рыба, или как те же любимые им каспийские тюлени. И кажется правильным, что его город был Астрахань, узел России, Турана и Ирана, самый голый и онтологический из русских городов, караван-сарай, окружённый стихиями — пустыней и водой. Астрахань — один из ключей к Xлебникову, и Астрахани посвящён его замечательный посмертный рассказ «Есир» (Русский Современник, 1924, №4), другой незаменимый ключ к Хлебникову. В нём отмеченная Винокуром „классичность” особенно ясна и неожиданна.
Как и проза Пастернака, проза Хлебникова строго прозаична, совершенно свободна от украшений, несколько корява, и странно старомодна. В ней есть что-то от Пушкинской эпохи, но тема конкретно-реалистическая: мечта об Индии, без романтизма и с удивительным чувством исторических и пространственных далей. Как у Пастернака — „вдруг становится видно во все концы света”, но пути, ведущие в них, не „воздушные” — а странно-короткие материальные пути. «Есир» одно из самых удивительных и неожиданных созданий новой русской прозы.
| Персональная страница Д.П. Святополк-Мирского на www.ka2.ru | ||
| карта сайта | 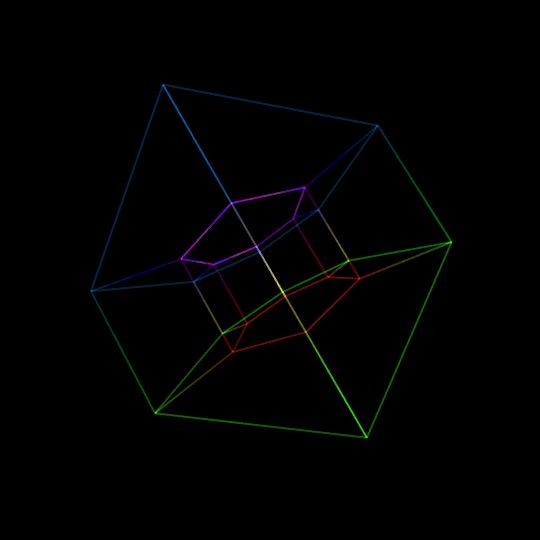 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||