

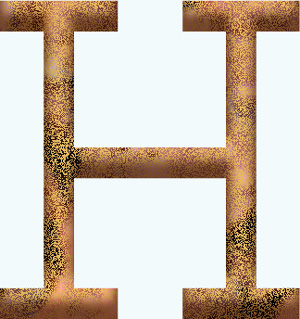 аше время — критическое для лирики, об этом говорено не раз. Произошла смена эстетических норм настолько ощутительная, что необходимо и некоторое обновление теории лирики. От “камерной” индивидуальной лирики мы пришли к стихам для большого зала, к “театральной” лирике, и к стихотворным сборникам для Универсальной Библиотеки, со стихами „острыми и нужными, как зубочистки” (слова Маяковского). Вырос и теоретический интерес к декламации, когда стали прочным обычаем публичные чтения напечатанных и ненапечатанных стихов; возникли студии хорового чтения, “театр чтеца”.
аше время — критическое для лирики, об этом говорено не раз. Произошла смена эстетических норм настолько ощутительная, что необходимо и некоторое обновление теории лирики. От “камерной” индивидуальной лирики мы пришли к стихам для большого зала, к “театральной” лирике, и к стихотворным сборникам для Универсальной Библиотеки, со стихами „острыми и нужными, как зубочистки” (слова Маяковского). Вырос и теоретический интерес к декламации, когда стали прочным обычаем публичные чтения напечатанных и ненапечатанных стихов; возникли студии хорового чтения, “театр чтеца”.Определение лирики делается обычно как отграничение от ближайших литературных видов. В античной литературе лирику размежёвывают с эпосом, в новейших литературах — главным образом с художественной прозой. Едва ли и нужны определения другого порядка, не в односторонности их слабая сторона. В большинстве случаев они обосновываются на признаках не собственно литературных, потому оказываются негодными.
С психологической точки зрения принято говорить о наибольшей субъективности лирики, причём это относят и к творческому процессу, и к восприятию лирической пьесы. Например, автор известной немецкой поэтики Рудольф Леман говорит:
Следует сопоставить с этим сходное утверждение Овсяннико-Куликовского относительно восприятия художественного произведения вообще:
Уже это сопоставление двух мнений предостерегает от того, чтобы считать “субъективность” специфическим признаком лирики.3![]()
Совершенно исключительные индивидуальные переживания не находят себе выражения средствами языка, который выразителен только в границах коллективного опыта. Поэзии нельзя приписывать свойств “непосредственного внушения”. К чему бы ни стремился поэт, его речевые сигналы либо непонятны, либо комбинируют условно-привычные ассоциации. Так, Ганс Ларсон в очень ценной работе «Логика поэзии» пишет:
Читательские переживания могут быть как угодно своеобразны и исключительны, но это не относится к эстетической значимости лирики (или любого произведения искусства вообще). Произвольность понимания поэзии существует только как возможность непонимания её. Для читательской аудитории поэта нормативно существует только та значимость поэзии, какая предуказана её фактуре, иначе говоря — обусловлена обязательными (в данной литературной среде) функциональными свойствами лирической речи. (Об этом см. дальше). Авторитетное — и для меня сейчас убедительное — учение утверждает, что сущность эстетического предмета (разумеется, и в лирике) в незаинтересованности, отрешённости от прагматической связи эмпирических явлений (и от личного, своего).5![]()
Если, наконец, под относительной субъективностью лирики подразумевают преимущественно приуроченность лирической темы к жизни личности, то и в этом случае признак не может быть сочтён за отличительный, постоянный, выделяющий лирическую поэзию. Личная тема так часто имеет место в романе, повести и драме, особенно в известные эпохи, у некоторых литературных групп, что именно в поэтике литературных течений надо искать её обусловленность. Гномическая и афористическая лирика, господствующие, например, в индийской поэзии и занимающие заметное место в персидской, — или возрастающая по значению в новых европейских литературах философская и научная лирика, меньше всего могут быть охарактеризованы как “субъективные”. Пусть читатель попробует применить выписанные выше положения Лемана, Овсянико-Куликовского и др. хотя бы к следующим, за себя говорящим примерам:
Здесь есть “субъективность” только как ощущение воздействия индивидуальной художественной воли, нераздельное в нашем восприятии с ощущением поэтического мастерства. Общения с авторской индивидуальностью — помимо этого — нет, именно потому, что в социальной проэкции литературы нет воздействия реальной личности поэта, а лишь абстрактной авторской индивидуальности — „литературной личности” (выражение Ю. Тынянова).
Спорным представляется также и утверждение, что отличием лирики является неопределённость “содержания” и примат в ней чувства. (Атака против “содержания” в литературе вообще нимало не ослабила позиции традиционной поэтики в этом вопросе, а отчасти была ей на пользу). Об этом, например, тот же Р. Леман:
Здесь указаны два признака, для Лемана они, по-видимому, обусловливают друг друга. Но можно и обособлять их. Например, Б. Томашевский следует в этом отношении за традиционным учением:
Доказательства исключительного эмоционального характера лирики в том смысле, как об этом говорят названные авторы, — не известны; научной проверкой этого “самонаблюдаемого” явления никто не занимался, — его не только можно, его должно оспаривать.
Наличие эмоциональных элементов при восприятии лирики несомненно, но природа этих эмоций, как отличительно лирических, иная, чем даже в случаях воздействия других литературных видов (и других искусств), тем более различимая с эмоциями бытового порядка. Следовательно, не годится употреблять в поэтике термин общей психологии, имеющий в виду по большей части переживания внелитературные.
Но, главное, своеобразные эмоциональные элементы лирики не имеют в ней доминирующего значения. Драма — в театральном выражении — несравненно более мощный эмоциональный возбудитель, чем лирика, и в ней это эмоциональное заражение составляет существенный и необходимый элемент нужного эффекта, чего никак нельзя сказать о лирике.8![]()
С другой стороны, знатоки поэзии много раз указывали на интеллектуальную по преимуществу работу („раздумье”) как на сущность процесса восприятия стихов.9![]()
Неотъемлемые эмоции восприятия лирики — не те, какие могут индуцироваться, т.е. могут возникнуть как аналогичные к её тематике, — не воспоминания любви, грусти и т.д., а возбуждаемые ею переживания в области эстетики языка (любованье речевым искусством) и эмоции интеллектуальные. Ганс Ларсон говорит об этом так:
Едва ли можно присвоить этому стихотворению патетическую интонацию. Наоборот, здесь, как очень часто в лирике, стилистические усилия поэта направлены к тому, чтобы обойтись без “повышенной эмоциональности”. Игра поэтической речи поглощает внимание читателя и подводит к смысловому комплексу — незаурядному, трудному новой простотой. В исключительной лаконичности этого стихотворения — тема двух движений: от земли и от звёздного неба к земле; она осложнена ещё двумя антитезами (безмолвие вечера и звучанье заката, горенье ночи над тёмной землёй). Лучше всего уясняет литературную действенность стихотворения сопоставление его с другими, аналогичными и более ясными, т.е. более старыми, общепризнанными. Близкая лирическая тема осуществлена — в другом стиле — Вяч. Ивановым и А. Белым.
Отличие стихотворения Хлебникова — напряжённые неологизмы, постепенно убывающие. Немь (ср. ночь, соответствующее ему ниже) — лексический подъём, — ударное, чёткое, лёгкое слово, действеннее всех своих синонимов. Лукает луком — такое сочетание вернуло областному слову ‘лукает’ (с обычным значением ‘бросает’) его этимологическое значение, — и здесь снова лексический подъём по сравнению со ‘стреляет’. Закричальности — отвлечённое слово в форме множественного числа, — подобное словоупотребление вошло в обычай русской лирической речи через Бальмонта и В. Брюсова, но у Хлебникова это новое отвлечённое слово, образованное будто бы так, как ‘запредельность’ и подобные, однако не от прилагательного, а от глагола, и притом разговорного, что сообщает ему своеобразную конкретность и интимность, сравнимые разве только с эффектом речи ребёнка.
Звуковой строй стихотворения, футуристически изысканный, приковывает к себе внимание. Этому должна содействовать и особая типографская расстановка слов (она была выше точно воспроизведена). Симметрия ударных гласных первого и третьего, второго и четвертого стихов —
Такая ощутимость самовитых слов больше всего враждует с впечатлимостью чувств поэта (потому что знаковые звенья речи слабее, как стимулы эмоций, чем соответственные семантемы). И это подтверждает высказанное раньше положение о подчинённости и необязательности эмоционального заражения лирической пьесы, которое отступает перед чисто речевой заинтересованностью и чисто интеллектуальным эффектом.12![]()
Вернёмся к учению о „разомкнутости и бесконтурности” лирики (Auflösung und Verwischung der äusseren Umrisse, P. Леман). Только в частных случаях истории мировой лирики можно приписывать ей эти признаки, и едва ли они могут быть введены в поэтику — как её постоянные свойства. В большинстве случаев, такого рода характеристика поэтов или поэтических стилей исходит от противной стороны или просто со стороны.13![]()
Но надо решительно отграничить от этого взгляда все разновидности учения о многозначности поэзии (напр. А. Потебни). К нему примыкает и принцип утаения (arcana) символистов и учение индусских поэтов о “внушении” (dhvani).
Как ритмическое членение есть очевидная и общепризнанная основа знаковой стороны лирики, так кратность, осложненность — существенный признак её семантической стороны. Двусмысленность и многосмысленность, нетерпимые и избегаемые в практической разговорной речи, эстетически утилизуются, выискиваются поэтами. “Метафора” именно как двоезначимость (одновременное представление двух значений) необходима в лирической речи. Но это только простейшее, легче всего наблюдаемое явление поэтической семантики. Лирика в большинстве случаев даёт не просто двойные, а многорядные (кратные) смысловые эффекты; эти ряды значений не равно отчётливы и не одинаково постоянны.14![]()
![]()
Многозначимость не может быть объявлена первозданным и всеобщим свойством лирики, но в пределах нашего исторического опыта (особенно если не переступать границы между литературной лирикой и народной песней) — эта её семантическая характеристика наблюдается всё отчётливей по мере роста художественно-языковой культуры. Для современной стадии её, в частности для новой русской лирики, может быть принято, как догмат поэтического лаконизма, положение Ганса Ларсона:
Как же предуказаны пути разгадки многозначимой лирической речи?
Более всего — традиционной условностью словоупотребления и, вообще, поэтического стиля; затем — контекстом (обязательной знаменательностью данной совокупности речевых элементов, взаимодействием слов); наконец — в несколько меньшей мере — ожиданием новизны, устремлением мысли к тем возможным способам представления, какие противостоят привычному, известному; иначе говоря, третий момент действует неразлучно с первым, мы разделяем их лишь в теории. Без новизны — и знаковой, и семантической — нет и ощущения поэтической действенности речи. В этой связи имеют интерес и ценность показания Вадима Шершеневича («Зелёная улица», с. 28 и 34):
Однако недостаточно отрицательного определения новизны, как ещё не сказанного; мы квалифицируем “новизну”, как поэтическое достижение, только при положительных признаках оценки: новое в знаках должно быть эстетико-речевым стимулом, новое в семантике — освобождает от привычных представлений (сознаваемых в данный момент несостоятельными) или ведёт к творческому завершению опыта, иначе говоря, к эстетической интуиции.
Этот последний момент смыслового развёртывания обсуждался и освещался много раз, и я не буду на нём останавливаться. Вопрос о важном значении полного текста для понимания лирической пьесы (как и вообще литературного произведения) довольно подробно рассмотрен мною в первой главе этой работы,17![]()
Остаётся наименее обследованным первый момент — апперцепирующее действие традиционной условности поэтического стиля в нашем восприятии лирики. Пусть читатель припомнит данное выше стихотворение Хлебникова, чтобы на нём присмотреться к действию этого семантического фактора.
Сделав раньше сопоставление этого стихотворения с аналогичными из Вяч. Иванова А. Белого, я и хотел вызвать в сознании читателя ту ближайшую традиционную среду поэтического стиля, от которой Хлебников “отталкивается” и от которой зависит — так же, как красное знамя от знамени трёхцветного и красных флагов прежних революций (первое почти ничего бы не значило, не будь у нас перед ним второго и т.д.). Но этот традиционный поэтический опыт — присущий нам, читателям — настолько же неощутим, как давно привычен; он невыделим из состава ощущения свежести или банальности поэтического произведения. Обнаружить его с совершенно бесспорной наглядностью трудно. Можно только сказать, что мы едва ли что-нибудь поняли бы в первой части четверостишия Хлебникова и могли бы самым неожиданным и неверным способом толковать вторую часть и всё в целом, если бы не было повелительной необходимости предуказанного традицией понимания его. Попробую это показать. Допустим, надо истолковать анонимный, недатированный, заведомо не современный стихотворный фрагмент:
Это могло бы быть обрывком религиозно-обрядового гимна огнепоклонников, где ночь — учредительница жертвоприношения огню. Это могли бы быть стихи из мистической лирики созерцателей-исихастов об озарении экстатическим откровением в тиши и мраке ночи. Такими же стихами — в подцензурной метафоричности — можно было бы призывать к революции против Ночи-Реакции, и т.д., и т.д. Но этого ничего нет в данном случае, возможные истолкования ограничены и предопределены, прежде всего, тем, что известно начало стихотворения, дата и автор, и тем, что есть ряд стихотворений, написанных, хотя бы со времён Тютчева, с той же лирической темой ночи; читая Хлебникова, мы смутно припоминаем их.18![]()
Ритмико-синтаксический параллелизм этой части с последними двумя стихами (цитированными выше) заставляет нас видеть соответствие слова немь слову ночь — и, раз они этим обособленно сопоставлены в нашем восприятии, то — по тенденции обратного семантического соединения в стихотворении — немь осмысляется применительно к ночь как природное, стихийное и конкретное понятие. Здесь-то и сказывается действие „ожидания новизны”, — мы образуем представление немь как новое, и притом, в данных условиях контекста, оно становится семантическим ядром стихотворения, на нём сосредоточивается смысловой эффект всех выразительных элементов его. Я указал выше, что в этом стихотворении ощутимо убывание неологизмов — и знакового, и семантического порядка. Эстетическая целесообразность такого убыванья в том, что мы вынуждены в понимании стихотворения идти с конца к началу, — и это характерно для футуристов. У них преобладает регрессивный, обратный семантический ход, тогда как у символистов, например, чаще встречаем смысловое нарастание, обогащение концовки смысловым эхом передних стихов. При обратном ходе, как в данном случае у Хлебникова, семантической доминантой только и может оказаться зачин, неясное сперва немь.
Если бы я на этом и кончил критическое рассмотрение положения о „бесконтурности и разомкнутости” как приметах лирики, то внимательный читатель вправе был бы спросить: а где же показано, что специфическим свойством лирической речи является многорядность (кратность) смысла?
Оставляя обстоятельное выяснение этого вопроса до специальной работы, я сейчас обращу внимание читателя на те фазы разгадки, через которые проходило восприятие стихотворения Хлебникова (с большей или меньшей постепенностью и заметностью то же происходит и всегда при чтении стихов). Если бы мы могли раздельно зафиксировать (как в кинофильме) всю вереницу впечатлений смыслового обогащения в нашем сознании этих стихов, мы убедились бы наглядно в существовании смысловых рядов. Но кроме этого есть ряды сосуществующих разных знаменательностей данного текста. Их не обязательно много, но, по крайней мере, две: один смысловой ряд можно назвать прямым, реальным (он может быть сложным и не общепонятным), другой ряд — производным, потенциальным. Он-то и составляет предмет исканий и разъяснений критики, комментария современников. Этот второй смысловой ряд раскрывается изучением всей совокупности литературного наследия автора и отчасти изучением связи его с литературной средой и традицией. Фердинанд Брюнетьер так определяет значение этого смыслового фона лирики, говоря о символистах:
Заняться обнаружением этой скрытой значимости стихотворения Хлебникова здесь невозможно.
Едва ли то, что было сказано о давлении традиции на семантику стихотворения по поводу примера из Хлебникова, может быть сочтено за достаточное. Перейдём для выяснения этого семантического фактора к другому матерьялу.
Гораздо сильней ощущаем мы условную преемственную систему поэтического стиля, когда читаем памятники литератур очень далёких от нас по времени и культуре. Тогда происходит, я бы сказал, аналитическое и неполное восприятие, которое можно использовать как научный эксперимент: нам дано произведение в его индивидуальных художественных свойствах, если читаем в подлиннике, или, если в переводе — попытка адекватного или аналогического воздействия соответственными в нашем литературном языке средствами, чтобы воспроизвести преимущественно эти индивидуальные качества памятника, — но почти не дана как раз традиция. Получается восприятие поэтической пьесы в изоляции от почвы и среды, — за вычетом именно условно-привычных стилевых эффектов. При этом происходит искажение “заданного” воздействия ещё и в смысле апперцепции этого памятника на фоне традиций своей (читателю) литературы. Отсюда повышенное ощущение новизны, усиленный, но вместе с тем и случайный, не предуказанный эстетический результат. Возьмём несколько памятников персидской лирической литературы:
1) Из Абу-Сеида Хорасанского (967–1049 по Р.X.)
2) Из Омар-Хейяма (ок. 1040–1123)
3) Из Хафиза (1300–1389)
Читатель не востоковед будет в недоумении относительно некоторых из этих цитат, другие поймёт произвольно, — совсем несообразно с назначением этих литературных произведений. Но даже небольшой историко-литературный комментарий (такой дан проф. Крымским в предисловии к этому сборнику переводов) служит к тому, чтобы мы приблизились хотя бы к исторически корректному пониманию их.
Если читатель теперь вернётся к вышеприведенным образцам персидской лирики, надеюсь, этот эксперимент даст ему ощутить удельный вес знакомства с традиционной условностью поэтического стиля для понимания лирической пьесы. Так как это попутный иллюстративный экскурс, то нет надобности останавливаться здесь на полном выяснении вопроса о значении этих образцов персидской лирики когда-то (в своё время) и теперь (для нас) и вопроса о соотношении этих двух значений. Конечно, и после чтения комментария проф. Крымского мы далеки ещё от исторического понимания персидской лирики, а тем более от того восприятия её, какое было у современников. Ничем не возместим недостаток звуковых эффектов (звукопись, мелодика стиха и т.д.) персидской поэзии, — они потеряны даже для иранистов, так как фонический облик персидской речи (насколько он известен) лишён для них своего эстетического заражения; семантическое развёртывание этих речевых знаков в поэтической функции — тоже неповторимо теперь при самом надёжном и богатом комментарии. Но для моей цели — сделать ощутимым огромное значение традиционной атмосферы при понимании поэзии — этого достаточно; отсутствие её в данном случае было очевидно, и коренное изменение результатов восприятия пьесы от введения хотя бы одного из неизвестных читателям традиционного семантического ряда — точно так же легко можно было наблюдать.
Не меньше, чем незнание традиции, искажает наше восприятие древних литературных памятников (лирических в особенности) и недостаточная чуткость к своевременной новизне стиля их;22![]()
Предположительное объяснение этой „застылости”, данное Леманом, тем менее убедительно, чем более универсальное значение хочет оно иметь. Исторические основания для него отсутствуют. Как чисто теоретическая возможность, это было бы правдоподобно только в том случае, если бы имело аналогии в явлениях современной литературной жизни, нам хорошо известной. Но раз мы не знаем теперь литературной жизни без взаимодействия творческого начала и традиционной стихии, то нет оснований разделять эти два постоянные слагаемые искусства в прошлом, будь оно и очень отдалённо, а потому “темно”. В этом объяснении Лемана сказалось лишь разочарование исследователя, обманутого в своих эстетических ожиданиях относительно “юной” первобытной поэзии. С другой стороны, в таких суждениях о древнейших памятниках литературы объективируются погрешности восприятия их учёным. Непогрешимое понимание их и невозможно: к ним потерян ключ, оттого что мы никогда не достигнем полного, “живого” ощущения языка, на котором они написаны, а потому и не можем почувствовать их поэтического своеобразия. Смысл и выразительные средства их нам доступны только отчасти, именно в их трафаретной части, а индивидуальная окраска исчезает в перспективе веков. В силу этого сомнительна и объективная верность, например, той характеристики, какую дал акад. Веселовский лирике средневековья:
Творческая индивидуальность в лирике проявляется во множестве ускользающих деталей, имеющих силу лишь в живой связи поэта с его социальной средой, — в сложной и невоскресимой для историка атмосфере былой культуры. И эта индивидуальность, обусловливающая значение поэта для современников, также бесследно пропадает для потомства вскоре после смерти поэта, как пропадает, например, индивидуальность сценического артиста. Трафарет, безотменный канон художественной продукции только и долговечен, он по преимуществу и доступен историку древней литературы.25![]()
Едва ли европейская лирика XIX века через триста-пятьсот лет будет казаться исследователю менее монотонной, “застылой”, чем нам теперь старо-провансальская.
Как в лингвистике нельзя плодотворно изучать одну только физически-знаковую сторону без психической (“смысловой”) — и наоборот, потому что тáм только язык, где неразлучны знаки и мысль, — так и в поэтике: исключительный интерес к звуковым средствам лирики, например, или к одной только поэтической семантике (безотносительно к звуковому составу её) не приведут к построению теории её, а останутся лишь анализаторскими опытами. Важнее и сообразнее с целями поэтики разработка вопросов о взаимодействии звуковых и смысловых элементов в лирике или, вернее, об их едином, общем действии.
Тем не менее, исследования чаще велись именно односторонне, так как это гораздо легче.
В первых разделах этой статьи речь шла преимущественно о поэтической семантике отчасти по этой же причине, но и потому ещё, что эта сторона недавнее время меньше всего была предметом научного обсуждения. Теперь уже всем ясно, что без самостоятельного семантического анализа невозможно будет исследовать и соотносительное двоякое воздействие поэтической речи. Один из вопросов этого порядка (ритмическое членение и семантика) поставлен и удачно разработан был Ю. Тыняновым в книжке «Проблема стихотворного языка», 1924, но остались совершенно незатронутыми ещё многие вопросы не меньшей важности для теории лирики.
Как рабочая гипотеза (или условное априорное построение) могло служить до поры до времени определение языка лирики, вроде данного Б. Томашевским:
Немузыкальные звуковые элементы здесь не принимаются в расчёт, так как они налицо во всех разновидностях речи и не существенны для лирики. Музыкальные звуковые элементы стиха, т.е. организованные, воздействующие как эстетический стимул (как “задание”), имеют в поэзии подчинённое значение. Это ясно из сопоставления с музыкой. Можно сослаться на авторитетного исследователя этого вопроса Л. Сабанеева:
Заметность звучания поэтической речи, повышенный интерес к звуковым элементам её — обусловлены больше всего тем, что при восприятии поэзии отсутствуют многие другие знаменательные условия речевого общения, кроме речи самой (“пантомима”, бытовая ситуация и всякого рода подготовленность понимания слышимой речи). В связи с этим самовитое слово в лирике имеет кроме интеллектуально-сообщательной функции ещё и внушательную (суггестивную), — эмотивную и волевую. Простор смыслового осложнения (семантическая кратность) — чтобы „словам было тесно, а мыслям просторно” — в гораздо большей степени характеризует и отличает лирическую речь, чем стиховность и другие фонетические признаки. Именно это свойство может служить приметой едва ли не всякой лирики в мировой литературе, тогда как рифма, звукопись (“инструментовка”), стиховность — не во всех литературах и не всегда присущи лирике, да и тогда, когда они налицо, не во всех случаях отличают они лирику от других жанров.
У нас всегда лирику противоставляют прозе, ближайшему аналогичному и равно значительному литературному виду, поэтому естественным кажется принимать как раз стиховность за выделительный её признак. Но есть литературы, где соотношение жанров иное. Так, например, в древнеиндийской классической литературе ‘лирика’28![]()
Раз возможно такое соотношение литературных жанров, при котором стихотворная форма не является признаком лирики, то необходимо искать других её примет, более всеобщих.
С таким же условным успехом можно определить её (и любой жанр) по наиболее постоянным тематическим элементам (как и по признаку стиховой формы). Подобную работу над матерьялом французской литературы проделали, например, Гюйо и Брюнетьер. Наличие известного довольно узкого круга тематики выступает нагляднее в жанрах литератур далёких от нас по времени и культуре. Вот, например, характеристика тематической ограниченности арабской поэзии у одного из её исследователей:
Не менее поразительна инерция тематики в древнеиндийской поэзии. Можно иллюстрировать это хотя бы свидетельством Дандина, одного из выдающихся старших индусских теоретиков поэзии. Определяя своеобразный поэтический жанр, так называемый ‘саргабанда’ (вроде лиро-эпической поэмы), он перечисляет весь круг его канонизованных тем:
Этот канон (как всякий, вероятно) возник из анализа шедевров поэзии, которые для индусского (несколько более, чем для европейского) учёного — стали фетишем. Таким образом, более или менее случайный выбор тематики крупным поэтом, ограниченность его тематической изобретательности, — в поздней индусской поэтике стал как бы эстетически мотивированным и обязательным. Эта “случайность” состава канонизованного тематического инвентаря ощущается нами резко в тех случаях, когда канонизованная в другой литературе тема абсолютно беспримерна, чужда нашему аналогичному жанру.
Так, очень авторитетные индусские теоретики поэзии (Маммата и Руйяка) цитируют в качестве высокого образца поэзии (Kavyam) лирико-сатирическую поэму Дамодарагупты (конец VIII в. по Р.Х.) «Наставления сводни», написанную со всеми изысканными приёмами лирической формы, — она вызвала целый ряд подражаний в позднейшей индийской литературе. И тем не менее, выдающийся немецкий индианист Георг Бюлер назвал её „древним образцом индийской порнографии”. По-видимому, держась тематического русла европейской поэзии, он мог видеть в ней только явление внелитературное.
Итак, можно найти характеристику лирики и в её речевых, знаковых свойствах (здесь имеются в виду ритм, рифма, звукопись, мелодика), и в постоянных тематических элементах. Знаково-речевые элементы лирики всецело обусловлены (в своей функциональной противопоставленности и качественном сродстве) свойствами внепоэтического языка данной культуры. Это самый очевидный и неисчерпаемый пример громадной зависимости искусства от традиционной стихии. Но языки разнятся звуковым строем, поэтому знаково-речевые (как и семантические) системы поэтической речи в разноязычных литературах существенно различны. Следовательно, в них самих по себе, как в частных изменчивых фактах, нельзя выявить основополагающих признаков лирики в мировой литературе, т.е. ‘лирики’ как понятия в системе сравнительной поэтики. Но можно — и следует — искать их в соотношении знаковых и тематических рядов. С другой стороны, и ограниченность круга тематики следует признать проявлением того же закона тяготения к традиции. При этом определение лирики с позиций тематики окажется для каждой литературы отличным от других, следовательно, для общей теории лирики непригодным.
Поэтому представляется целесообразным и методологически менее спорным искать характеристику лирики в соотносительных семантико-фонетических эффектах. Здесь можно прийти к положениям всеобщим, чисто теоретическим, а не историческим или типологическим.
Обычно ритм, рифму, звукопись рассматривают только как явления знаковые, а “метафору”, образность, тематику — только как явления смысловые. Совершенно очевидно, что о любом элементе поэтического языка можно и следовало бы говорить как о двустороннем эстетическом факторе, изучать именно совместное — в известных художественных целях — воздействие знаковой и смысловой его составляющих.
Надеюсь, с этой точки зрения будет пересмотрена вся теория лирики; в рамках нашей статьи намечены лишь некоторые вопросы этого рода.
Если условием лирического впечатления признать смысловое эхо (семантическую осложненность), то приходится предполагать какие-то словесные возбудители такого эффекта. Одним из наиболее типичных и постоянных для лирики речевых явлений следует считать плеонастическое сочетание сходнозначных выражений. Последовательное накопление синонимичных фраз концентрирует внимание у одного стержня мысли, возбуждает слушателя (читателя) исчерпать воображательные возможности данной темы и вызывает интеллектуальную эмоцию узнавания непредвиденного подобия смысла в разнородных оборотах речи.
Пример:
А. Блок
Стихотворения такого типа представляют цепь сходнозначных структур, которые могут быть названы “синонимами поэтической речи”. По сравнению с синонимами практической речи эти структуры неточны и означают приблизительные, не вполне отожествляемые, но сводимые к одному смысловому фокусу представления. В поэтической речи очень важно это ведение семантических параллелей, дающее сложный, дробящийся, но — при всей множественности — чёткий образ: одно многоименное, потому что многогранное, “видение поэта”. Разработка темы здесь происходит по ассоциациям синонимии, своеобразной в поэтической речи.
Точные синонимы в лирике имеют малое применение, так как дают отрицательный эффект бедности и надоедливости выражения, поэтому именно семантическая параллель — неточный синоним — необходимо присутствует в поэзии.
Отсюда понятна зависимость развития синонимики в языке от стадии поэтической культуры его. Когда “метафора” — семантическая параллель — отмирает как поэтический синоним, она усваивается практическим языком уже в виде точного синонима.32![]()
Если метафоры непривычны и “синонимичны” (т.е. аналогичны в одном из своих значений) не порознь, а в групповых комбинациях, как в приведённом выше стихотворении Блока, мы больше замечаем игру смыслов, чем неизменность темы. Начало синонимичности, различно участвующее в лирической композиции, выступает как организующее только там, где сходнозначны стихи или строфы в отдельности, когда метафоры не новы, зато небывалым является их синонимическое сопоставление.
Пример:
Это ведение речевых варьяций одного смысла в композиционном единстве лирической пьесы можно сравнить со спектральным анализом белого луча, обнаруживающим такие элементы в его составе, о которых иначе нельзя было бы и подозревать.
Такой структурный принцип наиболее свойствен поэзии мысли, философской лирике; потому мы так часто встречаем его у символистов. Среди футуристов его искусно осуществляет Хлебников, теснее прочих связанный с символистами своей литературной родословной.
Искание синонимических словесных варьянтов у него, как футуриста, выражается в неологистических образованиях. При этом как бы обнажается (скрытый у поэтов других толков) остов лирической композиции этого типа: цепь небывалых синонимов. Причём футурист создаёт их не из старых слов путём “метафорического” употребления, а из старых элементов словообразования.
Пример:
Изобретая синонимичные ряды, поэты ассоциируют слова и словесные обороты по признаку смыслового сходства и выявляют этим “смысловые оттенки” синонимов; образуется синонимика, в смысле стилистического источника.
Но указанный образец футуристической лирики строится, наряду с синонимическим нанизыванием, по принципу отбора сходнозвучных речевых комбинаций. Так как симметрической расстановкой эти речевые комбинации изолируются в восприятии, можно назвать их “омонимами поэтической речи”. Именно у футуристов они впервые стали объединяться в конструктивном применении. У символистов мы не найдём также и сочетания синонимической пóднизи с эффектами смысловых контрастов поэтической омонимии — такого, например, как у Хлебникова:
В стихах (лирических) встречей омонимов будет не только употребление слова в двух его значениях, относящихся к совершенно разным реалиям, но и повторение оборота речи (“слова”) в одном основном значении, однако с новыми смысловыми деталями. Возвращаясь в новой связи, порядке, — просто в другом месте пьесы, — стихи семантически меняются. И это — самый изысканный и трудный для читателя вид омонимической организации стихотворения. В очередной раз можно указать у Хлебникова на схематическое обнажение этого приёма:
Здесь повторяемое когда умирают семантически модифицируется в каждом стихе, но, для облегчения восприятия, даётся читателю каждый раз иным замыканьем стиха. Более сложная, скрытая композиция:
Такое стихотворение требует от читателя интеллектуальной отзывчивости: наряду с обыденными, привычными — новых, нетривиальных ассоциаций к одному и тому же обороту речи (“слову”). Вслушиваясь в него и не забывая промежуточных речевых стимулов, мы находим нужные семантические ряды. Каждый может убедиться в появлении прибавочного значения, сосредоточив внимание на повторяющихся — и тем самым обособляемых — “словах”. Возникают припоминания, мимолётные ассоциации проясняются самым невероятным образом. Это возможно и вне стихов. В лирической композиции этот эффект иной и богаче, поскольку фразы здесь выстроены так, чтобы вызывать эстетическую эмоцию; кроме того, окружение повторяющихся слов непривычно и поэтому более внушительно. Это объясняет, например, персидскую систему газеллы — с одним конструктивным стихом — и подобные системы у нас. Ещё один пример из Хлебникова (так как он стоит в связи с предыдущей цитатой по теме, представляет композиционный её варьянт, то при сопоставлении их выступает яснее конструктивный принцип каждого):
В отличие от повторения, чередование омонимичных “слов” не так взыскательно к читателю, но вместе с тем более автономно эстетически, потому что не в такой степени обусловлено традицией поэтической речи и внелитературной языковой подоплёкой многообразных ассоциаций. Сопоставление омонимов имеет результатом обособление знаковых речевых представлений, как условно и произвольно связанных со “значением” (семантическим представлением), — оно заставляет искать ещё какого-то смысла омонимической комбинации, связующего несоизмеримые значения сходнозвучных “слов”, и этим ведёт к семантической напряжённости. Совершенно понятно теперь, почему встреча омонимов более всего чужда и избегаема в практической речи, как сбивающая, мешающая пониманию.34![]()
Здесь семантическая напряжённость разрешается в эффекте смешного вследствие контраста с шуточной тематикой. Но возможен и всякий другой исход такой напряжённости.
На примере «Пустяк у Оки» можно убедиться, что лирическая пьеса, организованная по принципу поэтической омонимии, отходит от метрической конструкции. Тембровой ритм — параллелизм звуковых окрасок — делает ненужным или второстепенным ритм силовой (симметрию периодического распределения ударений).
Так изменение функции одного из элементов в лирической системе принуждает поэта к её полной перестройке. Нет достижений звукописи без соотносительных нововведений метрических, и обновление знаковое должно всегда сопровождаться нахождением иных семантических эффектов.
Футуристы более всего использовали омонимические ассоциации речевых комплексов. Они ввели в лирическую композицию даже точные омонимы и сделали опыты лирической организации с омонимическим ритмом и подчинением семантического замысла расчёту на смысловой эффект той же омонимии. Наконец, они испробовали и обращённый омонимизм.
Хлебников:
Маяковский:
Немногочисленные эти попытки обращённого омонимизма показали, что безотносительные звуковые затеи, когда звуковое задание в стихах доминирует над смысловым — бесплодны. Они обречены бесследно исчезнуть из поэтического обихода в забытых мелочах вчерашнего дня; и вместе с тем они показали, что простор семантических эффектов (конечно, обусловленных достижениями знаковой техники в поэзии) гораздо шире, необъятнее, чем область обособленных “музыкальных” возможностей стиха.
Когда таким образом в процессе разработки поэтического языка бывают образованы и собраны (т.е. вместе помнятся) большие ряды синонимов, — с другой стороны, когда выисканы и присвоены языковому опыту данной литературной среды группы сходнозвучных (омонимичных) слов, оборотов речи, — тогда, как говорят, легко становится писать стихи. Разумеется — плохие эклектические стихи, где использованы вперемешку всевозможные трафареты. Тогда и самые догадки об изменении в распределении функций традиционных элементов — даже малейшие изменения в готовых композиционных системах этих элементов — производят некоторый эстетический результат, нечто поэтичное, хотя и не поэтическое.
Всё внимание крупных поэтов уходит в таком случае на изобретение новых источников лирической композиции. Так, например, у Маяковского побочным ресурсом служит включение действия словесных шаблонных ассоциаций. Это даёт очень сложное смысловое соответствие: привходящие как бы случайно, несуразно, обиходные речевые трафареты или просто “несовместимые” выражения вызывают особый смысловой ряд (подобно тому, как обрывающиеся пунктирные линии в офорте выводят взгляд за рамки рисунка) и тем образуют возможность семантической кратности. Вместе с тем они оставляют впечатление речевого контраста, производят более или менее сильный срыв, прыжок внимания: в “трудной” лирической речи нежданно оказывается лёгкое звено, случайно “к слову пришедшееся” выражение. Такая изломистость речи — действенное средство обнаружить эмоции эстетики языка. В то же время такой своего рода “макаронический” жаргон, где смешаны не разноязычные слова, а разнослойные элементы в сфере одного языка, легко применим в технике всякого “утаения” (например, подцензурного), а также в технике комического.
Сначала в этом стихотворении преобладают омонимические соединения: „каторжане — кандальное ржанье”; „танцы, бабы — померанца... баобабы”; „рыком — покрыв”; „орут— о родине”; „о рае Перу — орут перуанцы”.
Речевые изломы (которые проходят через всё стихотворение) здесь обусловлены именно омонимическим подбором: “на Перу напёрли судьи”; „и пух и перья бедной колибри выбрил”.
Следующий ряд речевых изломов вводит случайные ассоциации к отдельным словам, — использование речевой инерции: „глаза у судьи — пара жестянок” — последние два слова вызывают: „мерцает в помойной яме”. Разработка “метафоры” здесь уводит от целей образности (несообразно первое и третье звено, но слажены обе пары звеньев) и служит именно эффекту речевого излома. Также: „глаз его строгий” вызывает механическую словесную ассоциацию „как пост”. „Стихи мои даже в запрете” вводит „под страхом пыток”. „А в Перу бесптичье, безлюдье...” подсказывает: „лишь злобно забившись под своды законов, живут унылые судьи”. Здесь “птичий” глагол ‘забившись’ производит семантическое раздвоение выражения ‘под своды законов’, делает неизбежной ассоциацию конкретного (архитектурного) представления с вторичным значеньем (свод — книга, собрание узаконений). Такова же речевая схема следующих двух стихов:
Здесь последний стих должен быть понят, прежде всего, в смысле жаргонного словоупотребления: ‘дали галеру’ = присудили к каторжным работам. Однако наряду с переносным значением налицо и прямое „дали корабль”, причём оно здесь второе в порядке очерёдности: первое (из тех же двух) — в зачине стихотворения („по красному морю плывут каторжане”).
Несколько стилевых сдвигов появляется совсем внезапно, усиливая впечатление семантического двоения, дополняя и проясняя второй смысловой ряд, но без видимых словесных прикреплений, и неподходящие для осмысления “первого порядка” (в подцензурную притчу прорывается озорное слово, разоблачающее прямой прицел её):
Наконец, можно указать речевые вывихи каламбурного характера, т.е. относящиеся к другой стилистической системе:
В следующей строфе
Можно было видеть, как разнообразно вводится этот основной в данном стихотворении приём включения речевой инерции, побочных словесных ассоциаций с определённой эстетической функцией. Этим достигнут эффект свежести, смелости диссонирующих соединений, показаны многие возможности “контрапунктического” новаторства, источник композиционной разработки найден в речевых контрастах. Характерной для Маяковского тут является маскировка политической сатиры (двурядная тематика) в изломистых речевых экспонентах, производящих впечатление словесной клоунады.
Вероятно, аналогичным этому было для читателей XVIII века восприятие „вздорных од” Сумарокова.
Определение лирики понадобится только для законченной системы сравнительной поэтики, где оно должно быть соотнесено с определениями других жанров. Для этого пока ещё слишком мало сделано и на Западе, и у нас. Когда пройдут через долгое испытание полемикой и проверкой несогласные мнения, когда наберётся достаточно свежих и разнообразных теоретических наблюдений, тогда только настанет время научного синтеза в этой области.
В такой эскизной работе, как наша, могли быть выдвинуты некоторые положения только для обсуждения, без окончательного обоснования, и определение лирики оказалось бы схоластическим.
Повторю, чтобы остались в памяти, наиболее существенные выводы.
В характеристике лирического жанра нельзя признать важным и постоянным “субъективность”, преобладание “чувства” и смысловую бесконтурность, а также неисчерпаемость толкований лирической пьесы. Всеобщим и постоянным свойством лирики в мировой литературе можно считать семантическую осложненность. Её осуществлению служат весьма разнообразные средства: выбор многозначащих “слов”, плеонастическое соединение сходнозначных (синонимичных) речевых комплексов, сопоставление сходнозвучных (омонимичных) “слов”, изломистость речи, чисто семантические контрасты, известные композиционные приёмы; наконец, смысловая многорядность вызывается иногда и без знаковых экспонентов — творческой функцией лирической пьесы, т.е. её противопоставленностью литературной традиции.
Семантика лирической пьесы не хаотична, а так же рационально, строго организована, как и её знаковой состав. Понимание поэзии всецело предуказано: 1) традицией, 2) ожиданием новизны, 3) словесной вязью (“контекстом”, 4) композиционными речевыми ходами.
“Лирическая стихия” в романе, драме — участвует в совсем иных эстетических целях, — отличие функции сказывается в отличии эффекта; поэтому нельзя отожествлять лирическую речь в лирике с привходящими лирическими элементами в других жанрах.
Искание характерных для лирики признаков в её речевых свойствах методологически законно, но, конечно, недостаточно. Литературный жанр не сводим к одним эстетико-речевым качествам, хотя и может определяться на основании их, по крайней мере не может быть определён, если не учитывать их.
Изучение лирических стилей (например, символического и футуристического) имеет для общей теории лирики то значение, что проясняет некоторые широко употребляемые, едва ли не всеобщие черты лирической речевой организации, какие в данном стиле оказываются доминирующими, и потому могут быть наглядно показаны.
9 мая 1925 года
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 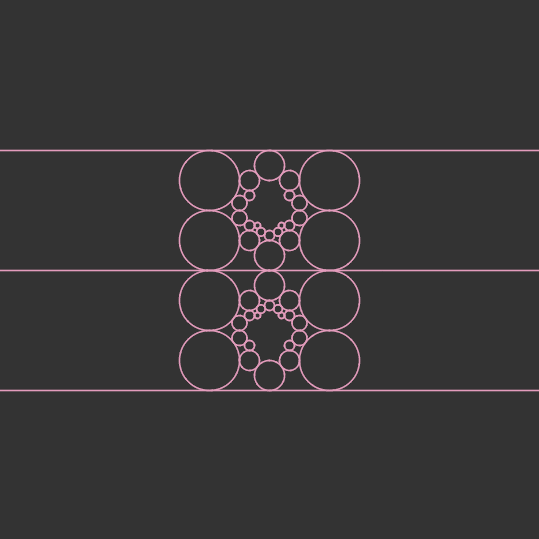 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||