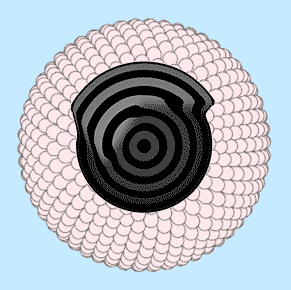Поэмы Велимира Хлебникова
Окончание. Предыдущие главы:

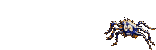

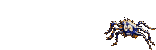

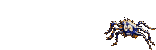

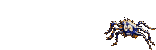
Глава IX. Последние поэмы
1
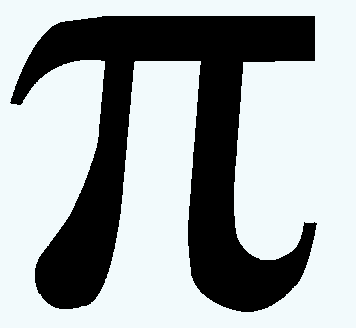
оследние две поэмы Хлебникова занимают особое место на излёте его творческой и земной жизни. Обе написаны под влиянием рассказов Николая Асеева о его пребывании на Дальнем Востоке в 1918–1920 гг. Их подлинное своеобразие заключается не столько в стихе, сколько в ритме, который, хотя и наследует устремлениям позднего периода, здесь исключительно своеобразен. Совершенно ясно, что этими двумя произведениями начинается новый период хлебниковского творчества, спустя шесть месяцев прерванный смертью поэта. Анализ этих поэм непрост; материала для действительно плодотворного изучения и уверенных выводов явно недостаточно. К тому же, поскольку обе поэмы полны частных аллюзий, истолкование текста почти невозможно.
1
Короче говоря, практически с любой точки зрения эти поэмы следует считать самыми трудными произведениями Хлебникова.
Как уже неоднократно показано, отличительная особенность поэм Хлебникова состоит в преобладании традиционного метра, обычно четырёхстопного ямба, в метрически неоднородной среде. Как ни странно, все нововведения Хлебникова в области ритма исходят из этого метрического каркаса как отправной точки. В своих поздних поэмах, совершенно отказавшись от метрической основы, он строил свой верлибр на строке как единице, либо выдерживая определённый ритм, либо — чаще всего — имитируя какую-нибудь разновидность (ораторскую, разговорную) устной речи. Наконец, Хлебников перемежал свой верлибр не только песнями и прочим достоянием фольклора, но и классическими вставками. В последних двух поэмах верлибр достигает наивысшей свободы. Не прерываемый остановками для подражания предшественникам, отделки или достижения нужного эффекта, стих просто движется, меняя темп только в случае крайней необходимости. Хотя тот или иной метр может появиться и даже остаться на какое-то время в чистом (или насыщенном сдвигами) виде, он большей частью растворён в общем потоке. При тематическом анализе из обеих поэм нетрудно вычленить фрагменты, отдельные картины и эпизоды, но таковые не довлеют себе: никакого нанизывания больше нет. Построчный анализ показывает, что преобладает ямб, но, поскольку строки в этом типе “сверхстиха” малозначительны, они не примыкают ни к одной из традиционных ямбических форм. Единицы крупнее строки здесь, вероятно, имеют решающее значение, но выделить их практически невозможно. Во всяком случае, преобладание ямба может свидетельствовать о естественной склонности автора к этому наиболее гибкому из русских размеров. Важно то, что преобладание это в корне отличается от использования классического ямба в ранних поэмах. Там он распираем изнутри всевозможными сдвигами, и стих то ласкает ухо, то теряется в корявой невнятице. В поздних поэмах даже сдвиги — если анализировать строку с прежней точки зрения — движутся столь же звучно, как всецело метрические строки, и обнаруживают неожиданную лёгкость. Всё находится в движении, и, даже когда ритмический рисунок устанавливается на более продолжительное время, создаётся впечатление, что может случиться что угодно и когда угодно. Ни один русский поэт не дерзнул подражать этой единственной в своём роде поэтической практике. Позднюю метрику Хлебникова трудно анализировать, но ещё труднее внятно изложить полученные выводы, ибо анализ отдельных строк ни к чему конкретному не приводит. Обозначение „синтетический метр”2 здесь более уместно, чем когда бы то ни было прежде: Хлебников добивается синтеза, в котором метры теряют свои индивидуальные признаки, не переставая быть неотъемлемыми частями целого.
здесь более уместно, чем когда бы то ни было прежде: Хлебников добивается синтеза, в котором метры теряют свои индивидуальные признаки, не переставая быть неотъемлемыми частями целого.
Рукопись «Переворота во Владивостоке» датирована 2–11 ноября 1921 года, что вызывает много вопросов. Поэма могла быть написана только после встречи Хлебникова с Асеевым, которому было что рассказать о Дальнем Востоке. Но сведений о том, где такая встреча состоялась, нет. В ноябре 1921 года Хлебников находился в Пятигорске, а в конце месяца в санитарном поезде уехал в Москву, куда прибыл 25 декабря, и вскоре написал там поэму «Синие оковы», последнюю в его жизни. Маловероятно, что Асеев побывал в Пятигорске; биографические данные такого рода отсутствуют. Наиболее правдоподобно предположение, что Хлебников и Асеев пересеклись в Москве. Если это не так, то Хлебников должен был проездом посетить Красную Поляну, но состояние его здоровья исключает это едва ли не полностью. В любом случае, поэма должна быть написана позже указанной автором даты. Москва — наиболее вероятное место встречи поэтов, и тогда «Переворот во Владивостоке» следует датировать началом 1922 года.
Николай Степанов разделил поэму на пять неравных фрагментов. В первом рассказывается о вступлении японских войск во Владивосток после ухода красных (алое в бегах). Изображена тесная пехота врага с примкнутыми штыками как листьями рагоз покрытое болото. В третьем, самом длинном фрагменте, автор предаётся историко-географическим размышлениям о народах морей и сосредотачивается на описании японского солдата, стучащего в дверь местной жительницы; фрагмент состоит из нескольких кластеров изображений. Далее следует отрывок о джиу-джитсу; поэма заканчивается, а солдат всё стучит и стучит в дверь „русской няни”: напряжение выплёскивается за финальную точку, не получая разрядки.
В идейном отношении поэма выявляет теневую сторону хлебниковской азиатчины. Япония, в отличие от остального Востока, никогда не вызывала у него энтузиазма; ещё в «Памятнике» (1912)3 он мстил далёкому Ниппону пером за поражение русского флота при Цусиме.4
он мстил далёкому Ниппону пером за поражение русского флота при Цусиме.4 Изображение восточного Зла позволяет считать «Переворот во Владивостоке» диалектически противоположным довеском к «Трубе Гуль-муллы»; при этом японский солдат завораживает Хлебникова, и поэт с явным увлечением живописует воплощённое в нём иноземное насилие, расточая при этом едва ли не самые сложные из когда-либо созданных им образов.
Любопытно, что в этом контексте море утрачивает свою революционную коннотацию (ср. «Ночной обыск», «Ночь в окопе», «Хаджи-Тархан» и прозаическое произведение «Разин»), оборачиваясь историографией:
Изображение восточного Зла позволяет считать «Переворот во Владивостоке» диалектически противоположным довеском к «Трубе Гуль-муллы»; при этом японский солдат завораживает Хлебникова, и поэт с явным увлечением живописует воплощённое в нём иноземное насилие, расточая при этом едва ли не самые сложные из когда-либо созданных им образов.
Любопытно, что в этом контексте море утрачивает свою революционную коннотацию (ср. «Ночной обыск», «Ночь в окопе», «Хаджи-Тархан» и прозаическое произведение «Разин»), оборачиваясь историографией:
Море подняло белого выстрела бивень,
Море подняло чёрного зарева хохот,
Ока косого падает ливень —
Город пришельцами добыт.
Образность занимает важное место в позднем творчестве Хлебникова: вспомним явное удовольствие поэта от перетекания образов друг в друга или гомерического их ветвления в «Трубе Гуль-муллы». «Переворот во Владивостоке» позволяет причислить к перлам хлебниковской образности “небесный гопак”:
Гопак пальбы по небу топал,
Полы для молний сотрясал
Широких досок синевы,
Полы небесной половицы,
отдалённо напоминающий голубой сапог гопака из «Каменной бабы»; мифическую птицу Рук; стук японской сабли о камни мостовой (Вприпрыжку шашка шла за ним), в описании которого есть даже пушкинский отголосок:
Бывало, босая девчонка спешит за мальчишкой
Вприпрыжку, босая, кляня
Проказы юных лет!
О камни звеня,
Так шашка волочилась вслед!
Особенно интересен отрывок из коротких нерифмованных строк,
5
представляющий лицо солдата как пейзаж с любимой Хлебниковым бабочкой, порхающей среди многообразия красок, где преобладает золото. Это напоминает неожиданные сочетания цветных пятен и потёков на полотне абстракциониста.
В изобразительном плане «Переворот во Владивостоке» движется, сюжетно — топчется на месте. Поначалу принимаемая за чисто описательную, поэма оказывается психологическим исследованием посредством символики. Всё растет изнутри; изображения связываются друг с другом — и поэтому приходят в движение. Не из этих ли образов складывается и ритм поэмы? Утверждать такое — значит впасть в методологический грех смешения двух понятий разного уровня, метра и образности. Однако именно это, кажется, и происходит; Хлебников как бы преодолевает указанное различие, и поэму движет именно перетекание образов.
Конечно, он использует и более традиционные средства метрики, все они заметны с первых же строк поэмы. Среди таковых сильные цезуры, часто с каталексией или гиперкаталексией:
Он тяжко падал за улицей на свалку
Волны пели: звеним! звеним!
Чужое мясо, чужой утёс;
с анафорической тенденцией:
В глубинах у ворот,
В глубинах подворотни
Как листьями рагоз покрытое болото,
Как листами рагоз покрыто дно залива;
и внутренняя рифма:
День без костей, смена властей,
иногда с элементами внутреннего склонения:
Где мёртвые русы, старой улицы бусы.
Жёлтые бесы: пушки выстрелом босы.
Но эти приёмы в ритме поэмы играют второстепенную роль.
«Синие оковы» — самая длинная (636 строк) и самая трудная из поэм Хлебникова. Кое-где исследователь вынужден заняться чисто детективной работой. Ловушки подстерегают его на каждом шагу.
6
Собственно, содержание поэмы следовало бы считать фамильным достоянием Асеева, ибо многие пассажи имеют значение только для него самого, его жены Оксаны и её сестёр. Одни частично основаны на рассказах Асеева по возвращении с Дальнего Востока, другие намекают на события, происходившие во время частых визитов Хлебникова в Красную Поляну:
На окрик знакомый:
„Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!”
Иногда подробности этих событий перерастают в строки вселенской красоты, как в сцене ближе к финалу поэмы, где поэт и девушка собирают вишни. Но чаще такие детали всплывают и тотчас исчезают, как пустяковое происшествие в будний день. Есть и отголоски разговоров в гостиной о старых добрых временах футуризма:
И первая конная рубка
Юных (гм! гм!) с седым.
Эти — чаще предположительно понимаемые — подробности, однако, составляют лишь фон поэмы. Гораздо важнее теоретические построения Хлебникова, которые здесь несравненно лучше встроены в поэтическую ткань, чем когда-либо прежде. Общее впечатление — это действительно изящная словесность, а не протаскивание идей в стихотворной форме. Степанов полагает, что в основу «Синих оков»7 легли выводы автора о повторяемости событий, но дело не только в этом: по выражению Д.П. Мирского, поэма представляет собой „своеобразный синтез всех снов и мечтаний Хлебникова”.8
легли выводы автора о повторяемости событий, но дело не только в этом: по выражению Д.П. Мирского, поэма представляет собой „своеобразный синтез всех снов и мечтаний Хлебникова”.8 В этом отношении «Синие оковы» близки другим “энциклопедиям” Хлебникова — «Ладомиру» и «Зангези». Поэма, если можно так выразиться, — последний рывок автора к сверхповести, жанру, в котором Хлебникову, несмотря на титанические усилия, так и не удалось создать шедевр. Даже «Зангези» (наивысшее достижение по части нанизывания, как мы помним) рядом с «Синими оковами» кажется пройденным этапом.
В этом отношении «Синие оковы» близки другим “энциклопедиям” Хлебникова — «Ладомиру» и «Зангези». Поэма, если можно так выразиться, — последний рывок автора к сверхповести, жанру, в котором Хлебникову, несмотря на титанические усилия, так и не удалось создать шедевр. Даже «Зангези» (наивысшее достижение по части нанизывания, как мы помним) рядом с «Синими оковами» кажется пройденным этапом.
«Синие оковы» — сложное название. В фамилии его приятельниц (Синяковы) слышна подсказка,9 но, в первую очередь, имеется в виду небо, которое Хлебников уподобляет книге, где события будущего изложены точнейшим образом:
но, в первую очередь, имеется в виду небо, которое Хлебников уподобляет книге, где события будущего изложены точнейшим образом:
А эта синяя доска,
А эти синие оковы
Грозили карою тому,
Кто не прочтёт их звёздных рун.
Она небесная глаголица,
Она судебников письмо,
Она законов синих свод,
И сладко думается и сладко волится
Тому, их клинопись прочесть кто смог.
Концовка поэмы содержит романтическую концепцию разума мирового, текущего рекой через невод человека и камней. Автор даже вступает в мистическое общение с этим разумом, собирая с девушкой вишни, и поэма заканчивается тем, что весь мир достигает единства:
Зелёный плеск и переплеск —
И в синий блеск весь мир исчез.
Такого рода единение видим и на вербальном уровне. Отголоски собственных произведений у Хлебникова нередки, но здесь они принимают такой размах, что преднамеренность их более чем вероятна. Изображения моря (голос моря | морские полы) или строки
Вы здесь просто море,
А не масленичный гость,
аналогичны таковым в «Ночном обыске» (ср. Гость моря виноват). То же самое и пианино (С сотнями стонными / Проволок ящик). Лена с глазами расстрела перекликается с глазами казни, а чернила зимы практически повторяют чернила весны из «Трубы Гуль-муллы». Вездесущая русалка из «Поэта» тут как тут:
Сама собой восхищена,
Когда в ней плещется русалка,
налицо и каменная баба. Строка И возле ног могучих, босых напоминает «Вилу и Лешего» (И могучая, босая / Побегу к реке купаться). Отголоски есть даже в рифме. Например, очки, дурачки известны по «Сельской очарованности», а века, червяка восходят к «Журавлю» (1909).
После трагических произведений позднего периода «Синие оковы» удивительно оптимистичны и полны здорового юмора. Не случайно пассаж о ловле солнца напоминает «Необыкновенное приключение» Маяковского. Одна строчка перекликается с Гоголем:
Сегодня в рот вспорхнёт вареник,
В весёлый рот людей.
Ни одно из стилизованных, архаичных, теоретических или трагических произведений Хлебникова не было столь бурно жизнеутверждающим. Эта безмятежность больного человека, который после долгих лет мучений уже на волосок от столь же мучительного конца, напоминает поздние годы Моцарта и ещё раз подчёркивает объективность поэзии Хлебникова. Тем удивительнее обнаружить, что поэт, хотя и говорит здесь о войне и смерти, делает это как бы между прочим, не омрачая весёлого устремления к всеобщему преображению, где всё и вся — лишь звенья в цепи света.
Поскольку и в «Синих оковах» образность — воистину краеугольный камень, тщательный анализ может показать, что недолговечный союз Хлебникова с имажинистами в 1920 году имел большее значение, чем привыкли думать. Хлебников достигает имажинистских целей вернее, чем сами имажинисты: их усердие в применении революционных теорий вылилось в статику и мертвечину. Хлебников динамизировал образ, гоня его от сопоставления к сопоставлению. Даже главный символ поэмы, синие оковы, поддержан перекличкой с коммунистическим клише о том, что белые войска несли русскому народу цепи рабства. Иногда сопоставление возникает в рифме. Так, слово запонка, хотя и рифмованное, запускает цепочку ассоциаций, где каждая новая строка привносит образ, который заканчивается двумя (!) важными орлицами, клюющими печень смуглую непонятно кем (Себя небрежно → другие) закованного автора. Орлицы для Хлебникова, необходимый контраст двум голубкáм, — сами по себе ассоциативный символ.10 Сориентироваться в этой круговерти образов читателю иногда помогает их повторение: оно проясняет замысел поэта; метафоры перифрастического типа, излюбленные Хлебниковым, здесь особенно полезны. Например, по мере прохождения кладбища сосновой древесины сквозь череду подобных (тризна сосен и лесов | потомство лесопилен | кладбище соснового бора) образов становится ясно, что имеется в виду бумага (Корявый почерк / Начертать). Утопленник оказывается Ермаком только потому, что слова кольчуга и броня появляются вместе с названием реки (Сверкали волны Иртыша), где утонул завоеватель Сибири. Другой пример применения такого метода видим в строках
Сориентироваться в этой круговерти образов читателю иногда помогает их повторение: оно проясняет замысел поэта; метафоры перифрастического типа, излюбленные Хлебниковым, здесь особенно полезны. Например, по мере прохождения кладбища сосновой древесины сквозь череду подобных (тризна сосен и лесов | потомство лесопилен | кладбище соснового бора) образов становится ясно, что имеется в виду бумага (Корявый почерк / Начертать). Утопленник оказывается Ермаком только потому, что слова кольчуга и броня появляются вместе с названием реки (Сверкали волны Иртыша), где утонул завоеватель Сибири. Другой пример применения такого метода видим в строках
Увидеться со студнями,
Их носит залив,
Качает прилив,
где Хлебников лишь косвенно намекает на медуз. Изображение может истолковываться:
Падали вишни в кувшин:
Алые слезы садов,
или нет, как чистый метафорический перифраз:
Рукою тёмною рвала
С воздушных глаз малиновые слёзы.
В пассаже
Блестя червонцами менял,
Летали косы как ужи
Среди взволнованных озёр,
Где воздух дик и пышен
угадываются мониста и ветви, качаемые ветром. Нагнетание цвета Хлебников осуществляет точно так же, как некогда в «Царской невесте»: простым повторением эпитетов. Прилагательными синий и зелёный он пронизывает всю поэму, иногда впадая в крайности тавтологии (в зелёной зелени | чернилами чернил).
Словесная игра, восходящая к теориям зауми, чрезвычайно важна в «Синих оковах». Например, чтобы понять описание Хлебниковым гражданской войны, нужно разбираться в “смысловых пазлах” кириллицы, разработанных им для согласных букв. То, что имена белых вождей Колчака, Корнилова и Каледина начинаются на букву К, имеет для поэта глубокое значение: эта согласная, по хлебниковской звёздной азбуке, выражает идею смерти.11 Экспериментируя с корнями, Хлебников превращает чернила в вернила, а медведей — в людведей. Он также разделяет слова (брошено ими уми из умирая) и играет на омонимах (Когда блистали шашки неловки и ловки, /
Богов суровых руки играли тихо в шашки, / Играли в поддавки). Изредка поэт добавляет к своей лингвистике и историософии математику.12
Экспериментируя с корнями, Хлебников превращает чернила в вернила, а медведей — в людведей. Он также разделяет слова (брошено ими уми из умирая) и играет на омонимах (Когда блистали шашки неловки и ловки, /
Богов суровых руки играли тихо в шашки, / Играли в поддавки). Изредка поэт добавляет к своей лингвистике и историософии математику.12 Впервые у Хлебникова эти приёмы становятся органичной частью целого, двигаясь в слиянии со стихом таинственным, но естественным образом. Пассаж
Впервые у Хлебникова эти приёмы становятся органичной частью целого, двигаясь в слиянии со стихом таинственным, но естественным образом. Пассаж
Не в этом ли, о песнь, бег твой?
Как та дуброва оживлена,
Сама собой удивлена,
Сама собой восхищена
описывает этот поток с поэтической точностью.
В двери, распахнутые Хлебниковым для русской поэзии в последних его поэмах, никто не вошёл. Русские поэты приступили было к опробованию достижений его раннего, примитивистского творчества, но шлагбаум социалистического реализма перекрыл наметившиеся пути развития русской литературы. Полное освоение поздних достижений Хлебникова мыслимо лишь в отдалённом будущем, но пришпилить будетлянина к прошлому не по силам никому, сколь бы страстным ни было такое желание.
————————
Примечания
 1
1 К сожалению, Н. Асеев, который мог дать прекрасный комментарий к этим в высшей степени интересным и значительным произведениям, оставил лишь восторженные оценки работы Хлебникова, имеющие сомнительную ценность.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
 2 Л. Гомолицкий
2 Л. Гомолицкий. Арион.
Париж. 1939. С. 48.
 3 СП
3 СП: II, 85–88. Опубликовано в «Пощёчине»; написано, видимо, гораздо раньше.
 4
4 И. Поступальский (Хлебников и футуризм // Новый мир, №5 (1930). С. 187) полагал, что первые поэтические произведения Хлебникова созданы под влиянием русско-японской войны.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
 5
5 В противном случае, в последних стихах возрастает значение рифмы.
 6
6 Степанов, например, был уверен, что
синголы — жёлтые полчища монгольского происхождения (
СП: I, 326), но позже Асеев сообщил, что Синяковых сельчане Красной Поляны поддразнивали „синяки-голяки”; это придаёт строке Хлебникова совершенно иной смысл. См. также:
Поступальский И. О первом томе Хлебникова // Новый мир, №12 (1929). С. 238.
электронная версия указанной работы И. Поступальского на www.ka2.ru
 7 СП
7 СП: I, 43.
 8 Мирский Д
8 Мирский Д. Велимир Хлебников // Литературная газета, 15 ноября 1935.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 9
9 Это мне подсказал профессор Г.П. Струве.
 10 голубки
10 голубки (
голубой) =
Синяковы (
синий).
 11 СП
11 СП: V, 205.
 12
12 За увлечённость математикой и филологическими теориями Хлебникова иногда называют„учёным поэтом” (см.
СП: I, 41–42). Он действительно мог быть знаком с теориями Рене Гиля на предмет научной поэзии по статьям последнего в «Весах» или по рецензиям на них В. Брюсова в тех же «Весах» или в «Русской мысли». Позже Брюсов пробовал эту поэзию в «Меа» и «Дали» (сборники 1922–1924 гг.). Разумеется, Хлебников мог развить свои научные изыскания непосредственно из университетского курса. Во всяком случае, “наука” почти не затронула его поэм.
Воспроизведено по:
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov.
University of Califonnia publications in modern philology. Volume LXII.
Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1962. P. 191–198; 228.
Перевод В. Молотилова
Благодарим проф. Х. Барана, проф. Р. Вроона и В.Я. Мордерер за содействие web-изданию.

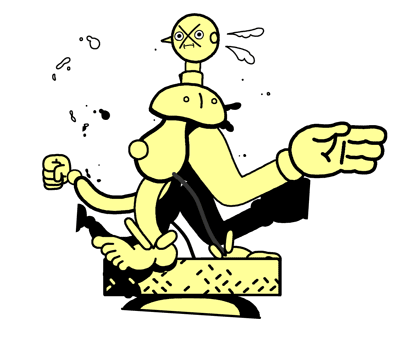


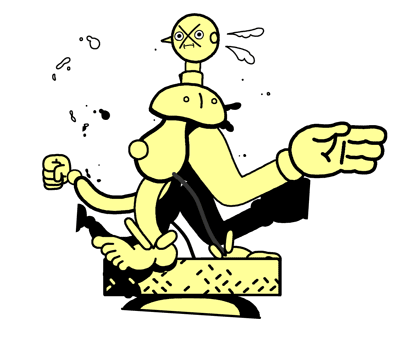


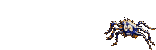

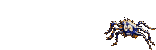

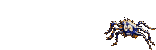

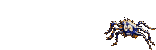
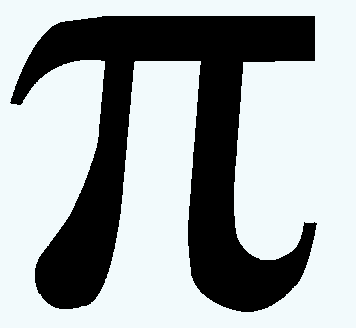 оследние две поэмы Хлебникова занимают особое место на излёте его творческой и земной жизни. Обе написаны под влиянием рассказов Николая Асеева о его пребывании на Дальнем Востоке в 1918–1920 гг. Их подлинное своеобразие заключается не столько в стихе, сколько в ритме, который, хотя и наследует устремлениям позднего периода, здесь исключительно своеобразен. Совершенно ясно, что этими двумя произведениями начинается новый период хлебниковского творчества, спустя шесть месяцев прерванный смертью поэта. Анализ этих поэм непрост; материала для действительно плодотворного изучения и уверенных выводов явно недостаточно. К тому же, поскольку обе поэмы полны частных аллюзий, истолкование текста почти невозможно.1
оследние две поэмы Хлебникова занимают особое место на излёте его творческой и земной жизни. Обе написаны под влиянием рассказов Николая Асеева о его пребывании на Дальнем Востоке в 1918–1920 гг. Их подлинное своеобразие заключается не столько в стихе, сколько в ритме, который, хотя и наследует устремлениям позднего периода, здесь исключительно своеобразен. Совершенно ясно, что этими двумя произведениями начинается новый период хлебниковского творчества, спустя шесть месяцев прерванный смертью поэта. Анализ этих поэм непрост; материала для действительно плодотворного изучения и уверенных выводов явно недостаточно. К тому же, поскольку обе поэмы полны частных аллюзий, истолкование текста почти невозможно.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()