

В моих оценках Хлебникова я вовсе не хочу сделать из него всеобъемлющий образ философа, изобретателя, провидца; но я и не хочу свести истолкование этого образа к сожалительному вздоху о том, что он был и окончился. Мне хочется дать понять читателю, насколько неизвестен ещё Хлебников в полный рост, насколько он может ещё служить великолепным образцом противоинерционного вкуса, языковой точности, широты и глубины поэтического мышления.
Чего стоит хотя бы одно его гениальное деление людских характеров, способностей, устремлений на изобретателей и приобретателей! Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей, стаями кравшихся за одиноким изобретателем. Вот с какими гневными словами Хлебников обращался к мещанам-приобретателям:
Конечно, и до сих пор пунктуальные следопыты вчерашнего дня могут возразить, что в этих строках нет социального деления, что они противоречат научным формулировкам. Конечно, если следовать только букве этих формулировок, то возражающие будут правы. Но разве по духу, по смыслу эти строки не перекликаются с нашими днями широкого движения массового изобретательства? И разве мы не стали государством нового времени, с другими правами и особым предназначением, отделённым от государств-приобретателей?
Нет, Хлебников действительно владел миром и повелевал временем даже тогда, когда оно было в полном подчинении у приобретателей. Но время не владело им.
Хлебников пришел в литературу на изломе времени. 1905 год молнией расколол слежавшийся фундамент общественного строя. Он привёл в колебание молекулы почвы, на которую этот фундамент опирался. Он показал, как непрочен этот фундамент, как близко время его разрушения. Лучшие силы страны вняли и почувствовали это грозное предостережение.
В искусстве это отразилось глухим брожением протеста против традиций.
Философия, право, мораль, эстетика оказались зависимыми от той огромной силы, которая сдвинула мир с мёртвой точки успокоенности, внешней благополучности, издавна устоявшихся точек зрения. Требовался пересмотр всей системы мировоззрения.
Хлебников был одним из первых, отказавшихся от услуг и помощи буржуазного общества. Абсолютно бескорыстный и незаинтересованный в устройстве личных удобств, отказавшийся от семьи и от минимального комфорта, жил этот “странный” человек одним огромным будущим, ища для него выражения, пристально высматривая его зарождение в прошлом, изобретая для него ту азбуку ума, которая могла бы объяснить в будущем сложные процессы языкового накопления опыта человечества.
Он предвидел, предчувствовал завтрашний день:
И ещё дальше смотрел он:
Как художник Велемир Хлебников был всегда напряжён и устремлён в сторону открытия, изобретательства, разгадки этого человеческого будущего. Экспериментируя, изобретая, проделывая многократно свои опыты, он часто был поставлен перед неудачей их. Но и эти неудачи говорят об огромной энергии, напряжении, величине поставленных задач. Одной из них была мечта о мировом языке, о языке человечества, связанного в одну семью.
Здесь могут последовать придирчивые вопросы литературоведов, ещё не уяснивших себе отличия принципиального подхода к искусству от вульгарного сидения между двух стульев. А как же быть с хлебниковской заумью? и с самовитым словом?
Так вот, чтоб не быть ложно понятым, я должен сказать и об этом: заумь Хлебникова — это его лаборатория, его тысячекратные опыты над проверкой смысла и звучания, его настройка инструмента.
К сожалению, разговоры о ней стали гораздо более популярны, чем его законченные мысли и произведения. Разговоры эти заслоняют и те непререкаемо ясные строки, которыми Хлебников сам оценил себя:
Отказавшийся от современного ему настоящего, Велемир Хлебников не мог быть не только освоен, но и принят этим настоящим из-за полной ненужности в том мире, где практика жизненного опыта ограничивалась доходностью её для небольшого числа верхушечной прослойки общества. Он был странен и ненужен там, как Мичурин и Циолковский с их “фантастическими” мечтами о межпланетных рейсах и мандаринами, выращенными в Сибири. Зачем всё это было тому обществу, которого основа была неподвижность и остывание?
Репутацией “заумника”, бессмысленника наделило его время. Между тем Хлебников вовсе не был защитником искусства, оторванного от жизни, от участия в её строительстве, каким его до сих пор представляет себе большинство. И если его замыслы не могут служить непосредственно в практике наших дней, то всё же они являются неисчерпаемым кладезем ряда замечательнейших прозрений, предвосхищений. Взять хотя бы его высказывания об архитектуре будущих городов. Двадцать лет тому назад Хлебниковым владели такие видения, которые ещё и сейчас могли бы оплодотворить наисовременнейшие течения зодчества. Вдумайтесь хотя бы в такой отрывок из его наброска «Мы и дома»:
Но ведь это один только отрывок! А сколько не менее блестящих соображений рассыпано у Хлебникова, мимоходом обронено по поводу того или иного вопроса искусства. Нет, время до сих пор ещё не освоило Хлебникова, свалив его мысли в одну кучу полного собрания сочинений как хлам высокоценный и, возможно, пригодный, но разобраться в котором нет свободного времени и свободных рук.
Что это именно так, подтверждает само издание его сочинений (1928–1933), собранных с большим почтением, но без большого толку. В этом, конечно, не целиком вина издателей. Хлебников вёл свое творческое хозяйство безалаберно, лишённый возможности быть услышанным дореволюционным обществом. Он мял и терял свои записи, не имея ни средств, ни угла для упорядочения работы. Черновики его рукописей часто терялись, а беловиков было по нескольку вариантов. Часто из-за недостатка бумаги он на одном и том же листе записывал разно задуманные веши. По смерти экземпляры его рукописей оказались в разных руках. Собранные и свёрстанные случайно ещё при жизни его, после смерти они совершенно утеряли последовательность и ясность. Часто встречаешь одно стихотворение, склеенное механически с концом другого. Часто поэма оказывается всего-навсего циклом свёрстанных воедино, в разное время и по разным поводам написанных стихов. Поэтому читать Хлебникова трудно вдвойне.
Что бы вы сказали о стихах Пушкина, в которых первая строфа была «Для берегов отчизны дальней», вторая — «Не пой, красавица, при мне», а заканчивались бы строфой из «Пира во время чумы»? А приблизительно так именно и представлено большинство произведений Хлебникова. И если ранний период его творчества имеет вид кое-какой последовательности и упорядоченности печатного воспроизведения, то работа его за период с 1914 по 1922 год является нагромождением черновиков, недоконченных отрывков, набросков, замыслов, очевидно, так и не увидевших света в своем окончательном завершении.
Две большие вещи: «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск» являются произведениями, в которых виден Хлебников в полный рост. С них, по-моему, и нужно начинать знакомство с Хлебниковым неискушённому читателю. Ими да, пожалуй, ещё «Разиным» и собранием отдельных мелких стихотворений и должен быть ограничен однотомник, какой бы вошёл в обиход библиотек и был бы издан для того, чтобы люди полюбили и узнали Хлебникова, который для них жил и писал:
Отдельной книжкой должны быть изданы его статьи о языке и о будущем человечества. Это также познакомит читателя с Хлебниковым-мыслителем. И уже тогда заинтересованный и полюбивший Хлебникова читатель с большим терпением и внимательностью обратится к тому сырому материалу изобретательства и лабораторной работы, которую представляет собой наследство Хлебникова.
Десятки дат, имён, исторических событий, пестрящих в его статьях и стихах, говорят, что в записях его памяти было огромное разнообразие знаний, тем более прочных и органических, что Хлебников в своей скитальческой жизни никогда не пользовался и не мог пользоваться какими бы то ни было пособиями, словарями и картотеками, что всё это было к его услугам в любой момент, усвоенное и продуманное, привлечённое не для того, чтобы блеснуть щегольством знания, а чтобы опереть свой шаг мыслителя на прочную ступень пройденного человеческого опыта.
Но, конечно, все эти попытки описать значение В. Хлебникова падают и бледнеют перед одним движением его губ, произносящих такую строчку, как:
Или:
А сколько сотен таких строк разбросано у него неожиданными подарками читателю! И какой огромный подъём вкуса, понимания языка, прелести общения людей незатрёпанными словами может вызвать правильное использование творчества Хлебникова. Как нужен он именно сейчас, когда неряшливость, штамп, шаблон зачастую становятся заместителями изобретательства в поэзии. Да и только ли в поэзии? Музыке, живописи, архитектуре — всему этому Хлебников дает огромную зарядку.
Бесполезными остаются попытки втиснуть Хлебникова в примитивную схему разложения буржуазной литературы. Почему они именно в Хлебникове хотят видеть последнюю стадию декадентства? Ведь разложение всегда влечёт за собой омертвение тканей, выхолащивание их функций, отпадение за ненадобностью.
Может это быть применено и к Хлебникову? Конечно, нет. Его стихи ещё не начинали своих действительных функций. Или они мертворождённые, а этого даже злейшие враги его не могут утверждать, или, что совершенно естественно, это произведения искусства в становлении, в новом качестве, и втискивать их в схемку распада буржуазного искусства — значит по меньшей мере отнекиваться от сложного и большого явления. Голое отрицание, как и голое утверждение, здесь недостойно научного знания о явлении. При этом следует принять во внимание, что Хлебников жил, развивался, изменялся в системе своих взглядов, вкусов и склонностей, а значит, жил, развивался и совершенствовался в методах своей работы. Вот этого развития с количественным накоплением навыков, особенностей, приёмов работы, приведших уже к качественному выявлению Хлебникова как поэта Советского Союза, никто из критиков и не хочет проследить. А это и является необходимой ответственной задачей литературоведения, должного закрепить истоки нового искусства, новой эстетики, нового взгляда человека на мир, не подчинённый законам личной наживы, огромный и бескорыстный мир изобретательства как радости и труда, как любимого дела, одним из лучших представителей которого был и остается Хлебников.
Мне привелось сблизиться с В.В. Хлебниковым в 1914–1917 годах. Я был покорён прежде всего его непохожестью ни на одного человека, до сих пор мне встречавшегося.
В мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб Хлебников поражал своей спокойной незаинтересованностью и неучастием в людской суетне. Меньше всего он был похож на типичного литератора тогдашних времен: или жреца на вершине признания, или мелкого пройдоху литературной богемы. Да и не был он похож на человека какой бы то ни было определенной профессии. Был он похож больше всего на длинноногую задумчивую птицу, с его привычкой стоять на одной ноге, с его внимательным глазом, с его внезапными отлётами с места, срывами с пространств и улётами во времена будущего. Все окружающие относились к нему нежно и несколько недоумённо.
Действительно, нельзя было представить себе другого человека, который так мало заботился бы о себе. Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, галош, устройства своего быта, заработка и удовольствий. И это не потому, что он лишён был какой бы то ни было практической сметливости или человеческих желаний. Нет, просто ему было некогда об этом заботиться. Всё время своё он заполнял обдумыванием, планами, изобретениями. Его умнейшие голубые, длинные глаза, рано намеченные морщины высокого лба были всегда сосредоточены на каком-то внутренне разрешаемом вопросе; и лишь изредка эти глаза освещались тончайшим излучением радости или юмором, лишь изредка морщины рассветлялись над вскинутыми вверх бровями, — тогда лицо принимало выражение такой ясности и приветливости, что все вокруг него светилось.
Он мог очень тонко и ядовито высмеять глупость и пошлость, мог подать практический и очень разумный совет, но никогда для себя. Для себя, для устройства своей судьбы он всегда оставался беспомощным. Об этом он не позволял себе роскоши думать. И жил в пустой комнате, где постелью ему служили доски, а подушкой — наволочка, набитая рукописями, свободный от всякой нужды, потому что не придавал ей решающего значения, ушедший в отпуск от забот о себе ради большего простора для мыслей, мельчайшим почерком потом набрасывавшихся на случайные клочки бумаги.
Это не было ни позой анахорета — при случае он очень радовался видеть себя в новом платье, чувствуя на себе заботы друзей, — ни отсутствием этих потребностей, нечувствительностью к нужде. Нет, он просто более остро ощущал нужду в том, чтобы отдавать свои чувства и свой разум творчеству. Это и есть, по-моему, гениальность.
Чтобы понять, насколько он был действительно безучастен ко всему тому, что не было связано с его прямым назначением, стоит привести отрывки из его письма, написанного после призыва в царскую армию, где его из запасного полка хотели перевести в Саратов, в школу прапорщиков:
Я представляю его себе в запасном батальоне, отдающего честь, засунув другую руку в карман, как образ непоколебимого несогласия с муштрой царской казармы, как протест “штатского” воина разума против узколобых прапорщиков казарменного практического рассудка.
И дальнейший его перелёт с одного места на другое — из тогдашней России в тогдашнюю Персию, возвращение под Харьков в любимую им Красную Поляну. Стихи, дружба, просветлённый лоб, звание председателя земного шара, носимое человеком, одетым в два пеньковых мешка: один — сверху рубахи, другой — приспособленный под видимость брюк; “служба” в РОСТА, приезд в Москву в 1922 году из Энзели и Шахевара, и везде на пути этой сжигающей себя в полёте звезды — пучки света, лучи стихов и тончайшей прозы, так же просветляющей лоб читателя, как мысли, родившие их, просветляли лоб творца. И, наконец, смерть в глухой деревушке, смерть, подготовленная годами нужды и недоеданий, простуд и инфекций.
Страна, изнурённая голодом и героической, неслыханной в истории борьбой за будущее, не могла большего выделить для поэта, но страна, ставшая грозной врагам, страна, повеселевшая и посвежевшая, должна уделить силы на то, чтобы внимательно и чутко прислушаться и разобраться: кем же был он, этот поэт будущего, становящегося настоящим, прислушаться и разобраться, каким изумительным талантом был Хлебников, чтобы показать, какими ресурсами обладал народ, начавший новую историю человечества.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 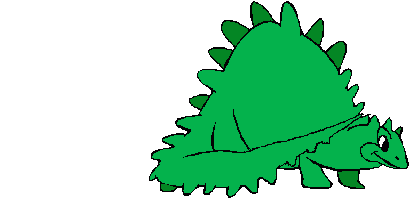 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||