

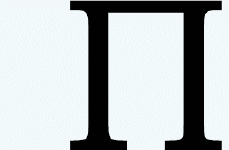 ринадлежность поэта к тем или иным пластам истории далеко не всегда определяется его политическими воззрениями, его прямым гражданским исповеданием. Есть поэты, общность которых с временем можно доказать только после полного, всестороннего изучения. Но мы не сделаем ошибки и никак не огрубим тему, если, исходя из того, что первые стихи В. Хлебникова рождены в годы русско-японской войны и в период близлежащий, раньше всего обратимся к политическим инвективам поэта. Одной из этих инвектив, кстати, второй том и открывается:
ринадлежность поэта к тем или иным пластам истории далеко не всегда определяется его политическими воззрениями, его прямым гражданским исповеданием. Есть поэты, общность которых с временем можно доказать только после полного, всестороннего изучения. Но мы не сделаем ошибки и никак не огрубим тему, если, исходя из того, что первые стихи В. Хлебникова рождены в годы русско-японской войны и в период близлежащий, раньше всего обратимся к политическим инвективам поэта. Одной из этих инвектив, кстати, второй том и открывается:В начале этой войны отечественная поэзия развивалась под лозунгом „шапками закидаем”. Когда ж японцы разгромили православное воинство, когда подержанный российский флот почил в чужих водах, когда провалилась затея с Квантунским полуостровом и „брато-океаном”, — обстановка изменилась. Большинство стихотворцев стыдливо умолкло, другие стали ждать у моря погоды, третьи прельстились мистикой и эротикой. Недавний патриот Брюсов устремился к первой революции. А В. Хлебникову, пришедшему позже, досталась только тема реванша. Разберите хотя бы такие стихотворения, как «Были вещи слишком сини», «Олень», «Памятник», «Алфёрово». В первом из них — крик о мщенье, ничем не приглушённый (мы клятву даём: вновь оросить своей и вашей кровию — сей сияющий, беспредельный водоём ‹...› бледнейте, смуглые японцев лица). Во втором — в символическом образе оленя, во время бегства превратившегося во льва и показавшего искусство трогать — тот же мотив. «Памятник» (предвосхитивший выдумку Маяковского в «Последней петербургской сказке») — не менее яростная вещь. Как же: во время сраженья при Цусиме стоявший на берегу пустынном всадник ринулся к своим. И русским выпал чести жребий: на дно морское шли японцы. В это время в Петербурге на Знаменской площади люди беснуются вокруг пустого пьедестала. После же паденья из облаков того, кто в могиле синей закопал врага, статую Александра III ведут в участок, где предписывают ей, к сокрушенью поэта, впредь пребывать на площади без гривы, дела, куцо. Когда же мы подходим к «Алфёрову», то и там замечается та же линия, но уже в её откровенном завершении.
Вот пункт, вносящий ясность. И для крупной и для средней городской буржуазии вопрос об индустрии, технике, цивилизации вопросом мучительным не был и не будет. Странно для неё протестовать против железнодорожных мостов, пароходов, аэропланов и т.п. А В. Хлебников в этом смысле даёт такой специфический материал, что нельзя не задуматься. Стоит обратить внимание на стихотворение «Крымское» (где шествовал бог — не сделанный, а настоящий, там сложены пустые ящики), на «Бунт жаб» (и гибли младые лягушки под рукопожатьем колёс, а паровоз жесточе пушки свои мозоли дальше нёс. Его успехи обеспечены, а жабья что ему слеза?), на 5-й парус в «Детях Выдры» (и он идёт: железный остов пронзает грудью грудь морскую, и две трубы неравных ростов бросают дымы; я тоскую) или же на стихотворение «Вы помните о городе, обиженном в чуде»:
Ранний В. Хлебников может характеризоваться как сторонник всяких потусторонних воззрений, как мистик и идеалист. Мышление его предельно антропоморфично и анимистично. Поэтический мир переполнен странной, а иногда и чудовищной жизнью. Какие-то подспудные, потаённые силы правят данным миром. В этом немного от наигранного подчас мифотворчества С. Городецкого, — мифы В. Хлебникова нередко изумительно реальны. «Ночь в Галиции», «В лесу», «Зелёный леший» и мн. др. стихи соперничают с лучшими из уцелевших образчиков старо-народного творчества. Вместо с тем, в них данные фольклора модернизированы до неузнаваемости:
С лёгкой руки Ю. Тынянова и Н. Степанова может, пожалуй, привиться отношение к Хлебникову, как к подлинному научному поэту. Надо решительно воспротивиться вздорным и идеалистическим утверждениям. Безусловно, В. Хлебников пытался смолоду вовлекать в сферу своей поэтической деятельности различные научные дисциплины, думал о самых широких категориях, хотел создать какое-то собственное, неповторимое мировоззренье. Но эти искания остались незавершенными даже к концу жизни поэта, и принесли результаты особые (освежили его стихи, подтвердили лишний раз неизбежность будущего слияния поэтической мысли с мыслью научной, и только). Когда выйдет уже обещанный пятый том, где будут собраны теоретические и “философские” работы В. Хлебникова, я попробую доказать это с непреложной ясностью. А покамест покажу на нескольких примерах идеалистический сумбур, полновластно царивший в голове дореволюционного В. Хлебникова. Вот центральная вещь второго тома «Дети Выдры», поэма, в которой Н. Степанов усматривает „огромный масштаб захваченных ‹...› эпох и событий, соединённых общностью философского замысла”. Подойдём к этой вещи трезво. Конечно, потенциально поэма глубока и выразительна. Большие исторические пласты действительно взрыты, отдельные страницы и строки действительно эффектны. Стержень поэмы — Волга, древняя Ра, река индоруссов, стык славяно-варяжского мира с Востоком, с Персией Александра Македонского. Немыслимо изложить эту необычную поэму, — чего только в ней нет, кто только в неё не попал по самым случайным мотивам! Но, когда мы обращаемся к наиболее отчётливым частям поэмы, мы устанавливаем в ней раньше всего знакомые националистические тенденции (приподнятый пафос в описании руссов, Запорожская Сечь, как „русский ответ на западных меченосцев и тевтонских рыцарей” и т.д.). Густая мистика обволакивают иные паруса поэмы (см. в первую очередь хотя бы посмертный полёт погибшего за “святую Русь” Паливоды к господнему престолу). В парусе 5-м стих В. Хлебникова обладает более своеобразной философической нагрузкой, но какова же эта нагрузка? Всё то же пессимистическое отношение к “пароходам”, отрицанье значения подлинных успехов человечества (морские движутся хоромы, но, предков мир, не рукоплещь, до сей поры не знаем, кто мы: святое я, рука иль вещь? Мы знаем крепко, что однажды земных отторгнемся цепей, так кубок пей, пускай нет жажды, но все же кубок жизни пей!). Неуверенная полемика с лицом, просящим мир верни, где нет винта и шестерни, „будетлянина” сводится к проблематичной, скорее всего пифагорейской, мистической вере в число.
Наконец, перед нами заключительный 6-й парус. Это уже идеализм от начала до конца, идеализм дикий, путаный, но в одном смысле очень последовательный. Ганнибал, Сципион, Святослав, Пугачёв, Самкò, Гус, Ломоносов, Разин, Волынский, Коперник, духи, какие-то безликие множества — кошмарный синклит! О чём идёт беседа, как к ней относится поэт? Великие громят... Маркса и Дарвина (‹...› мрачный слух пронёсся, что будто Карл и Чарльз они — всему виною: их вини. Два старика бородатых, все слушают бород лохматых ‹...›)! Речь Ганнибала:
Но подлинный опыт мировой войны у В. Хлебникова всё же воплощён в «Войне в мышеловке». Именно это грандиозное произведение поэта является предвестником его будущего поэтического состояния. «Война в мышеловке» вобрала в себя лучшие мятежные эмоции футуризма в его довоенной фазе. По существу, это род замаскированного дневника, записи носителя каких-то литературных и общественвых принципов функции времяроба (поэт любил это придуманное им слово) здесь значительно расширены, и расширены в хорошем смысле. За эксцентричными выкриками председателя земного шара, за футуристическим эпатажем и моментами патологии (весь род людской сломал, как коробку спичек ‹...› я, носящий весь земной шар на мизинце правой руки и т.п.), за великолепным, но отвлечённым и декларативным историзмом некоторых стихов (и когда земной шар, выгорев, станет строже и спросит: кто же я? мы создадим Слово о Полку Игореви или же что-нибудь на него похожее) теснятся нередко замечательные строки, осуждающие кровопролитье:
Схема такова. Русский символизм укрепился на связи интеллигенции конца XIX – начала XX вв. с обуржуазившимся крупным землевладением. Дворянство ещё не отошло, — отсюда декаданс и смешение дворянских и буржуазных идеологий почти у всех поэтов символизма — у Мережковского, у Гиппиус, у Коневского, у Сологуба, у Бальмонта, у Волошина, у Вячеслава Иванова, у Белого, у Блока (отчасти выпадают из этого ряда только Сологуб, связанный с мелкой городской буржуазией, и Брюсов, законное чадо капиталистического города, предвестник будущего акмеизма и русского буржуазного сциентизма — течения “подземного”, но реального...). Акмеизм же, как это уже установлено работами некоторых современных критиков и исследователей, объективно создавался усилиями крупной и средней буржуазии, преодолевшей первые выступления рабочего класса и вошедшей в стадию агрессивного капитализма (присутствие у некоторых акмеистов какой-то дозы помещичьих чувствований объясняется их первоначальной и длительной близостью к символизму и так называемым „третьеиюньским блоком”...). Что же касается футуризма, то это литературное течение в общем и целом выросло на почве того же буржуазного декаданса, что и символизм, но уже являлось производным только от городской буржуазии и не имело связи с дворянско-помещичьей культурой. Футуризм поэтому по своей социальной природе занимает ответственное место после акмеизма (хотя футуристы и акмеисты возникли одновременно).
Речь идёт, разумеется, о футуризме как о течении, определяемом существованием основных социальных подпорок. Но не надо видеть в такой формулировке утверждение абсолютной сцементированности. Её вообще не бывает. Здесь на сцену естественно выходят индивидуальности поэтов, факты их биографий, личных психологий и т.п. В русском футуризме В. Хлебников оказался фигурой наиболее двойственной, индивидуальностью резко очерченной. Связь его с символистами была не только формальной, она определялась и классовой природой поэта. Сын попечителя округа, В. Хлебников провел детство и почти всю юность в условиях сельской, по характеру дворянски-мелкопоместной жизни (к сожалению, тут приходится говорить общо, так как биография поэта пока что известна условно, а «Биографические сведения» Н. Степанова, приложенные к первому тому, в данном смысле поверхностны...). Несомненно, именно эта полоса жизни наложила отпечаток на ранние стихи поэта и сделала исключительным поэтическое лицо Хлебникова-футуриста. В дальнейшем факты внешнего бытия воздействуют иначе. В. Хлебников постепенно и своеобразно деклассируется в сторону городской буржуазии. Появляются настроения, совпадающие со всей линией футуризма. Мотивы люмпен-пролетарские у В. Хлебникова в конечном счёте редки, и дореволюционный В. Хлебников остается поэтом буржуазным, с различными, но незначительными индивидуальными “уклонами”. Пустил в дворянство грязи ком — эта строчка из сатиры «Петербургский Аполлон» (датирована 1909 г.), подобно многим другим стихам, знаменует разрыв поэта с породившим его классом. Дальнейшая амплитуда общественных колебаний у В. Хлебникова (вплоть до революции, повернувшей В. Хлебникова в сторону пролетариата) определяется как шатания между идеологическими и философическими комплексами упадочной мелкой городской буржуазии и буржуазии крупной, империалистической (поэтическое выражение — акмеизм, как целое...). В этом противоречивость личности В. Хлебникова... Едва ли поэт успел осознать свою роль даже перед смертью, в первые пореволюционные годы. Но, конечно, фактами преодоленья буржуазного сознанья (в частности, пацифизма...) в пореволюционных поэмах и стихах В. Хлебников посмертным образом заставляет нас предположить, что, продлись жизнь поэта дольше, творчество его приобрело бы мощные устои и достигло бы полного значения. К сожалению, время оказалось для В. Хлебникова жестоким, а многие люди — слепыми и не чуткими. 28 июня 1922 года В. Хлебников умер в новгородской глуши от голода и тяжёлой болезни. Умер, как известно, создателем классического «Ладомира», «Ночи в окопах» и прочих революционных поэм и стихотворений...
В теоретических работах В. Хлебникова интересно подразделение поэтического слова на два лагеря. Подразделение своеобразное и настолько идеалистическое, что последовательные формалисты обязаны подписываться под ним беспрекословно. Приведу интереснейшую заметку В. Хлебникова, напечатанную в 1922 году под заглавием «О современной поэзии» в № 3 берлинской «Вещи» (журнала, выходившего под редакцией Эренбурга и Э. Лисицкого):
Должно помнить, что от сегодняшнего поэтического слова современность ждёт, прежде всего, тучных плодов смысла. Отвергая реальность чистого разума и чистого звука, мы хотим от нашей поэзии, чтобы именно слово говорило разуму слушаюсь. Отсюда, разумеется, не надо делать того вывода, что мы против осмысленного словесного цветения...
К чему это говорится? А вот к чему. В. Хлебников, как идеалист, доводил своё дело до конца. Его сподручный, А. Кручёных, действовал с заданным пылом. Привёденная заметка — по существу, одна из самых ярких деклараций зауми...
А. Кручёных объявил заумь „пределом поэзии”. Заумь мотивировалась тем, что „мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным. ‹...› Мы приказывай двигаться слову к ярой беспредметности, чистому словотворчеству” (А. Кручёных). Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей (В. Хлебников). Заумь имела основанья безусловные (поэтические, психологические и просто патологические...). Но, идеалистически доведённая до предела, она повисала в пустом пространстве. В. Хлебников, подлинный творец этой теории в России (см. сходные теории у Малларме, Рембо и отчасти у Верлена...), давал образцы такой работы, обнаруживая колоссальные лингвистические знания и способности, совершенно невероятное трудолюбие и редкую изобретательность. «О, засмейтесь, смехачи» — это, конечно, особая, по оправданная классика, которую надо знать всем. Наряду с этим у В. Хлебникова бесконечно много и словесного лома, чернового материала или простой чепухи (и нельзя не возмущаться, когда эту часть уцелевшей продукции поэта выдают за главное). Заумь для современного поэта — только одна из боковых функций поэтической речи, функция, которая может быть оправдана только органически (заумными восклицаниями можно выразить сугубо эмоциональное переживание, в виде зауми можно использовать иноязычные слова и т.д.).
Почему, собственно, “воскрес” В. Хлебников? Почему он некоторыми провозглашается величайшим поэтом не только прошлого или настоящего, но и будущего?..
Надо заявить, что провозглашенье В. Хлебникова сверхгением, да ещё сверхгением ведущим, является либо сознательным вредительством классового врага, либо глубочайшим и опасным заблуждением идеалистов. Уже настоящая статья, не претендующая на роль всестороннего исследования, показала, как много в поэзии В. Хлебникова отжившего и вредного (об этом мне ещё придётся говорить с совершенной чёткостью в связи с прозой и теоретическими работами поэта). Мы стоим за трезвое, математически рассчитанное использование полезных для пролетариата произведений В. Хлебникова. Отсюда же вытекает и наше отношение к различным сторонам его поэзии и к её ощутимости в творчестве нынешних поэтов.
Никоим образом нельзя поддаваться абсурдным и некритическим истолкованиям поэзии В. Хлебникова. Пусть фетишист воображает, например, что в последнем отделе 2 тома собраны те вещи поэта, с которыми надо считаться! Мы скажем ему, что тут налицо только “отсев”, только “хлам” В. Хлебникова, — материалы, представляющие некоторый интерес для узкого специалиста, но не больше. И мы же извлечём из этого отдела немногие драгоценные и показательные строчки (ты богиня молодёжи! Брови согнуты в истоме, ты прекрасна, ночью лёжа на раскинутой соломе ‹...› и на путь меж звёзд морозных полечу я не с молитвой, полечу я, мёртвый, грозный, с окровавленною бритвой ‹...›). Здесь и проявится то критическое отношение, которое является единственно нужным...
Идолопоклонствовать перед В. Хлебниковым бессмысленно. Вместе с тем, надо всячески разоблачать невежество и верхоглядство людей, занимающихся многозначительными кивками в сторону решительно всех читателей В. Хлебникова. Время признать в нём одного из классиков — и футуризма, и революционной поэзии. Лучшие его произведения должны присутствовать во всех хрестоматиях, во всех рабочих книгах по литературе. Хорошо составленная, критически объяснённая антология В. Хлебникова нужна широкому потребителю современной поэзии. Пора кому-нибудь приняться за, безусловно, полезное дело.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 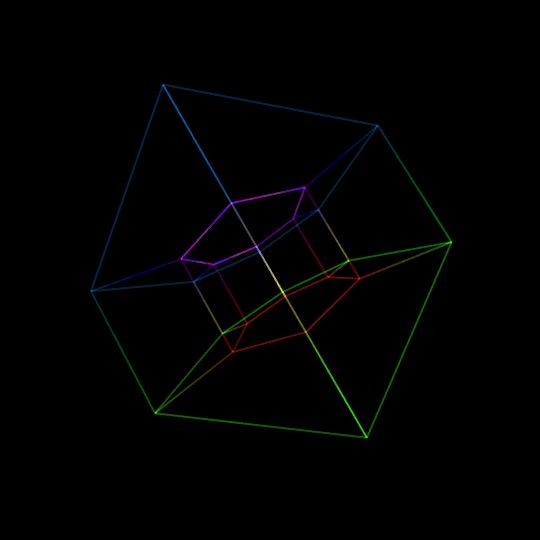 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||