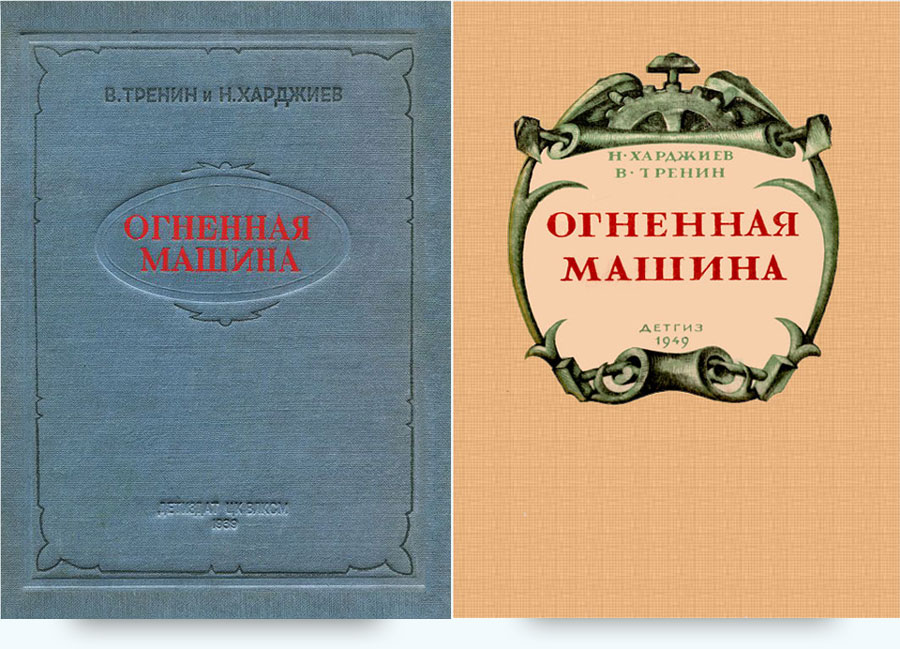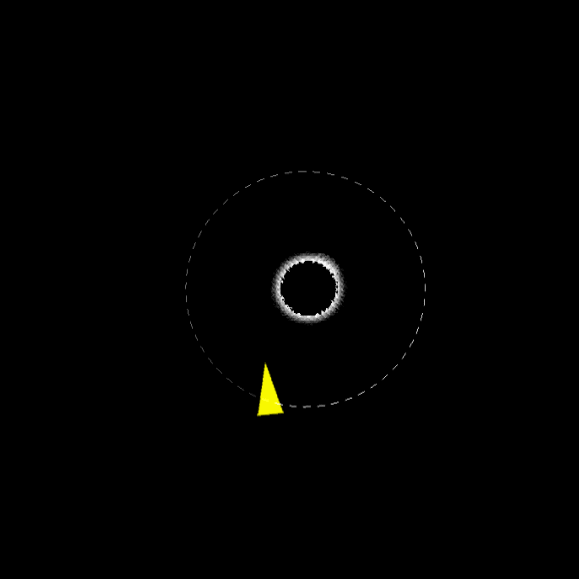В. Молотилов
Заступиться за Парниса
Окончание. Предыдущие главы: 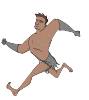
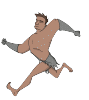
3. Отрицание отрицания
Джону Э. Боулту
Ныне в плену я у старцев злобных.
В. Хлебников. Война в мышеловке.

сли вам показалось, что
продума деебна — сонная грёза Ильи Ильича Обломова, спешу огорчить: полным ходом. Томить не в моих правилах, да и обкатаю заодно. Поехали.
Допустим, Лилия Васильевна Вьюгина поймает мяч. Поймала — возвращает: утром деньги — вечером стулья. Возможно такое? Более чем. Заменяя стулья продумой деебна, слово предоставляется любимой поговорке гоголевского повытчика: не подмажешь — не поедешь. Накладные расходы нынче кусаются, кто бы спорил.
У нас как? У нас так: было бы сказано, а уж мы потрафим. Наряжаюсь Мюнхгаузеном, палю из пушки, вскакиваю на ядро — и вот они, копи царя Соломона.
Если вы подумали, что копи эти в поместье Костанжогло, таки нет. Полагая Костаки забором, нынешний Костанжогло ему двоюродный плетень. Или внучатая завалинка. Дело не в степени родства, а в пацанской закваске заимодавца: одолжился — отработай, не то ставлю на счётчик. Оно мне надо?
Насмешек не слыхать, а вот ропот довольно-таки увесистый: нос воротит, сволочь. Хотя бы для близиру поканючил, гад.
Ни канючить, ни клянчить и не подумаю: усталось наперёд. В мои лета силы надо беречь, действовать наверняка. Наверняка переводится Великобритания: подальше положишь — поближе возьмёшь.
Списываемся с Наташей Рубинштейн, так и так. Имела удовольствие дружить с Фёдоровыми-Рошалями? Имела. Порадеешь немытой России? Трудные обстоятельства, понятненько. А у кого не трудные? У лордов?
Резко привыкаем к новой мысли: Наташа Рубинштейн плохого не посоветует. Как ни крути, Фёдоровы-Рошали подались на чужбину в полной уверенности, что там их ждут. И предчувствие не обмануло, достаточно вспомнить посылку от Overseas Publications Interchange Ltd. на Гайву. Чьим, спрашивается, иждивением эти полпуда? А надгробная плита? Кто-то из островитян вложился, не вопрос. А ну как и на продуму деебна раскошелится? Вычислить, нагрянуть — и дело в шляпе.
Привыкли к новой мысли, задвигаем продуму в долгий ящик и разворачиваемся в направлении заморских щедрот, как то: перелетаем Вислу, Рейн, Ла-Манш и — вот она, мягкая посадка на площади Пикадилли, где изнывает от нетерпения Наташа Рубинштейн.
Стоять. Призрачно всё в этом мире бушующем, включая надежды на памятливость читателя. Да и то сказать, повторение — мать учения.
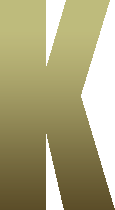

има Филби Георгiй Борисовичъ терп
ѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизб
ѣжную б
ѣлочку. Филби остался на бобахъ: изм
ѣнница и новоявл
ѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.
И всё это благодаря пережиткамъ общиннаго сознанiя даже у потомственныхъ (Өёдоровъ-дедъ выслужилъ генерала казачьей управы) россiйскихъ дворянъ: въ чопорной Англiи не принято вм
ѣшиваться въ личную жизнь ближняго, а въ Россiи-матушк
ѣ этому предаются по любому поводу и безъ мал
ѣйшаго зазр
ѣнiя сов
ѣсти. „Ваша безцеремонность спасла мн
ѣ жизнь”, — отчеканилъ Дональдъ Дональдовичъ, надписавъ Жор
ѣ Өёдорову «British Foreign Policy since Suez», только что изданную на родин
ѣ.
У нихъ такъ: уличёнъ ещё не значитъ изобличёнъ. Н
ѣтъ приговора суда — н
ѣтъ преступленiя. И управляющiй лорда Маклейна безпрепятственно переводитъ ренту отъ насл
ѣдственнаго шотландскаго пом
ѣстья въ Москву на имя Mарка Петровича Фрейзера, и тотъ получаетъ ея въ чекахъ Внешпосылторга.
В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 2. Готөическая Русь
Как уже сказано, этими подробностями я упивался в одно из посещений подмосковного Климовска. Упивался насухо: по усам текло, а в рот не попало (перепутал запись и стирание; повторим, великодушно предлагает сказитель, и всё такое). Прошло без малого сорок лет. Не скажу, что неотрывно следил за освещением жизненного пути Дональда Дональдовича, и правильно делал: служба внешней разведки разглашать подробности не торопились. Награждён орденом Боевого Красного Знамени в мирное время, и точка. Вчера глянул — мама дорогая, как плотину прорвало.
Поясню пристальному читателю фёдоровской «Брусчатки», почему саги о Дональде Маклейне (1913–1983) там нет: издано в Англии, где fluent traitor it’s the salt on wound. Увильнул от пожизненного, и всё такое. А ныне читаем:
Modin Jurij Ivanovic. My Five Cambridge Friends: Burgess, Maclean, Philby, Blunt, and Caircross by their KGB controller. NY: Farrar, Straus & Giroux. 1994.
1994 год — вот когда свидетельские показания Г.Б. Фёдорова (1917–1993) перестали быть разглашением государственной тайны. А затруднило или нет Марианну Григорьевну переложить сагу на бумагу — вопрос не ко мне, а к наследницам.
И что же нам сообщает полковник Ю.И. Модин (1922–2007) о Дональде Маклейне (Маклине, Маклэйне)?
Если считать целью разведки предоставление правительству или важным государственным деятелям сведений, которые помогут им принять нужные решения, то разведчиком века приходится признать Дональда Маклина (здесь и ниже курсив мой. — В.М.). Он обеспечивал нас политической, экономической и научной информацией, которая направляла стратегию наших руководителей на протяжении более десяти лет — и каких!
Модин, Юрий Иванович. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. М.: Олма-пресс. 1997.
Вот какую оценку герою фёдоровской саги даёт непререкаемый знаток вопроса, наш резидент в Англии времён холодной войны. Смотрим, чем полковник Модин подкрепляет столь ответственное заявление.
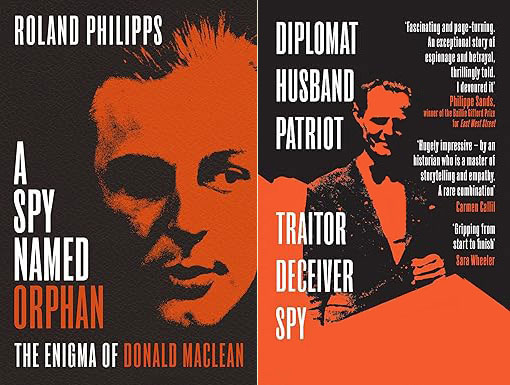
Летом 1945 года Дональд Маклин, работавший в Комитете совместной политики, получил сверхсекретное задание скоординировать деятельность американского «Манхэттен Проекта» с английским «Тьюб Аллойз Проект» — обе организации занимались вопросами создания атомной бомбы. Начало английской организации положил летом 1941 года научный консультативный комитет, возглавлявшийся лордом Хэнки, секретарем которого был тогда Джон Кэрнкросс. А как уже было сказано, НКВД мог наблюдать за политической эволюцией атомной программы Запада с момента её зарождения вплоть до первого испытательного взрыва близ Аламогордо в Нью-Мексико. Я не говорю о научной стороне программы. Здесь нас просвещали учёные Клаус Фукс, Бруно Понтекорво и Даниэль Грингласс.
Поскольку Маклин не был учёным-физиком, он не имел доступа к научной информации. Но
всё, что касалось англо-американской политики в области атомной энергии, рано или поздно неизбежно попадало на его письменный стол в посольстве.
Там же
Надеюсь, все понимают, чем аукнулась нам эта неизбежность: мирным небом над головой. Стало быть, Дональд Маклин — одна из опор небосвода, атлант. Пара слов о титанической деятельности Дональда Дональдовича.
25 мая 1951 года английская контрразведка МИ-5 установила исчезновение начальника департамента США английского министерства иностранных дел Дональда Маклина и первого секретаря английского посольства в Вашингтоне Гая Бёрджесса. В этот день предполагалось начать допросы Маклина на предмет его сотрудничества с советской разведкой.

Расследование затянулось почти на сорок лет. Выяснилось, что дело не в двух, а в пяти английских аристократах, сотрудничавших с советской разведкой семнадцать лет, начиная от подготовки Второй мировой войны, в ходе её и в течение первого этапа “холодной войны”. ‹...›
Сейчас все они умерли. И я считаю долгом чести офицера восстановить правду. Я работал с ними последние годы, участвовал в организации их побега и ликвидации последствий провала. ‹...›
Ещё одна папка, к которой я имел неограниченный доступ, касалась Дональда Маклина, в разное время проходившего под кодовыми именами Стюарт, Уайз, Лирик и Гомер. Из наших кембриджских агентов лично я не знал только его, и
впервые встретился в Москве, уже после того, как его оперативная карьера была завершена. Однако я обработал львиную долю всех документов, переданных им Центру, поэтому очень хорошо себе представляю, как он работал и какого рода сведения сообщал. ‹...›
В октябре 1935 года Дональд Маклин был принят в министерство иностранных дел на должность секретаря Западного отдела, который занимался Нидерландами, Швейцарией, Испанией и Португалией. Он первый из своих соратников проник в верхние эшелоны власти Великобритании.
Молодой дипломат с таким рвением относился к службе, что вскоре ему предложили пост секретаря английского посольства в Париже. Лондонский шеф Маклина извещал посла: „Прослужив в министерстве иностранных дел два года, он показал себя отменным работником. Это обаятельный, умный и образованный человек”. ‹...›
В это время Дональд встретил Мелинду Марлинг, богатую, умную американку ‹...› За несколько дней до женитьбы Дональд
откровенно признался будущей жене, что он — агент НКВД. Она легко приняла это известие и обещала ему всяческую поддержку, что бы ни случилось. Мелинда свято сдержала данное мужу слово.
Там же
Дерзаю прервать безоговорочного знатока; странное сближение пар Фёдоров-Рошаль и Маклейн-Марлинг налицо:

Слово ‘гэбэ’ всегда означало ‘госбезопасность’. Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: ‘гэбисты’, ‘гэбешники’). Но для некоторого, причём весьма широкого, круга существовал ещё и омоним, который был ещё и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным: ‘Гэбэ’ — Георгий Борисович — Г.Б. Фёдоров. „Вчера славно посидели у ГэБэ… У ГэБэ в экспедиции было замечательно… Звонил ГэБэ, зовёт к себе…” Многие звали его Жора, хотя он был немолодым, вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему ‹...› Георгий Борисович начинал очередной рассказ — о человеке, о событии, — всегда неожиданный, интересный, захватывающий подробностями. Не имею представления, какой он был историк-археолог, об этом другие расскажут, но вот что касается писательства его — он просто не мог не быть писателем: такое множество историй он знал, настолько богата была его жизнь людьми и событиями. И он мог часами перебирать бесчисленные сокровища своих воспоминаний. ‹...›
Из его рассказов люблю вспоминать, как он объяснялся с будущей женой. Дело было в 45-м году. Он отвел её за локоток в сторонку, чтобы сказать очень серьёзную речь. „Вам известны мои чувства к вам, — сказал он, — но прежде чем сделать вам предложение,
я обязан открыть вам о себе важную тайну: я ненавижу Сталина”.
Молодая красавица Майя Рошаль простила ему этот грех — хотя и была потрясена, ещё бы… ‹...›
Едва наступили времена новейшей ежовщины, то бишь, андроповщины, Георгий Борисович в стороне не остался и, как мог, помогал диссидентам. Когда в Москве припекало, многие из них спасались у ГэБэ в археологическом поле: и Виктор Хаустов с Верой Лашковой, и Вадик Делоне с Ирой Белогородской, и Серёжа Генкин, и Гера Копылов, и Илья Габай…
Юлий Ким. Дорогой наш ГэБэ // Георгий Фёдоров. Брусчатка. Лондон. 1997.
Едва ли Дональд Дональдович допустил в свой ближний круг опекуна из МГБ, а вот подле Жоры Фёдорова таяла даже вечная мерзлота. И лучший разведчик ХХ века раскрыл ему свои объятья.
Дружили семьями. Если вы найдёте время прослушать запись саги, обратите внимание на слова Мелинды Маклин (1916–2010) о среде обитания Жоры Фёдорова. Я, говорит, в Москве у многих бывала, но дышать можно только здесь. Отсюда и предположение о походах в гости: не вы к нам, а мы к вам. Немудрено, что Георгий Борисович путал Мимси (дочь Маклинов) и Мелиндушку (дочь Мимси).
Однако ядро с Мюнхгаузеном приземлилось на Пикадилли не обозрения Биг Бена ради, а сбора доброхотных даяний для. Самое время углубиться в изучение восходящей родословной Маклинов.
Стоять. Маклины-младшие подождут. Самое время рассказать, что такое запои лучшего разведчика ХХ века.
В декабре 1939 года Маклин познакомился с Мелиндой Марлинг, дочерью владельца нефтяной компании в Чикаго. Она была подростком, когда её родители развелись, а мать переехала в Европу.

В октябре 1929 года Мелинда и её сестры пошли в школу в Веве, недалеко от Лозанны, где их мать арендовала виллу, и провели каникулы в Жуан-ле-Пен во Франции. Мать Мелинды переехала в Нью-Йорк, выйдя замуж за Чарльза Данбара, дельца-писчебумажника, и привезла своих дочерей жить с ними в Манхэттен, где Мелинда училась в школе Спенс. После окончания учёбы она провела несколько месяцев в Нью-Йорке, затем вернулась в Париж, где поступила в Сорбонну для изучения французской литературы. Марк Калм-Сеймур позже описал её как „довольно симпатичную и жизнерадостную, но весьма сдержанную”. Она казалась немного чопорной, но всегда была ухоженной, с яркой помадой на губах, химической завивкой в волосах, двойным рядом жемчуга на шее. Её интересы, казалось, ограничивались семьёй, друзьями, одеждой и голливудскими фильмами.
В 1950-х годах Калм-Сеймур выследил Маклинов в Москве, и появилась другая Мелинда. Она сказала ему, что знала, что уедет в Россию с самого начала, ещё до того, как Маклин дезертировал.
Советские архивы подтверждают её слова. Маклин, например, сообщил Харрису: „Я был очень тронут её либеральными взглядами. Она выступала за Народный фронт и не чуралась коммунистов, хотя её родители были весьма состоятельны. ‹...› Мы обнаружили, что говорим на одном языке”. Маклин признался Марлинг в своей работе на советскую разведку, но девушку это не смутило: „Она обещала помогать мне по мере сил, — а у неё хорошие связи в американском обществе”. ‹...›
Маклин считался ключевым должностным лицом в посольстве Каира, ответственным за координацию военного планирования США и Великобритании и, в дальнейшем, за отношения с правительством Египта. К 1949 году двойная жизнь начала сказываться на Маклине. Он начал пить, устраивать драки и рассказывать о своей шпионской деятельности. После пьяного дебоша с разгромом квартиры сотрудницы американского посольства Мелинда сказала послу, что Дональд болен и ему нужен отпуск для поправки здоровья. Возможно, каирский дебош был подстроен, чтобы дать Маклину возможность вернуться в Англию, поскольку американская разведка была на волосок от раскрытия его как советского агента.
Итак, Дональд улетел в Лондон, а Мелинда закрутила роман с египетским аристократом, они даже вместе побывали в Испании. Но, как только мужа подлечили, Мелинда согласилась вернуться к нему, и вскоре забеременела. Карьера Маклина ничуть не пострадала от конфуза в Египте. Он даже получил повышение, став главой американского департамента в Министерстве иностранных дел — вероятно, самое важное назначением для чиновника его уровня. Это позволило ему и далее держать Москву в курсе англо-американских отношений.
Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————
Из всех участников Пятерки именно Маклину двойная жизнь давалась тяжелее всего, и он сломался первым.
Это случилось в Египте, куда после войны его отправили в ранге советника посольства (он был одним из самых молодых дипломатов на столь высоком посту).
Маклина сжирало чувство вины, причём по совершенно разным причинам:
— будучи советским шпионом, он мучился от сознания того, что совершает преступление;
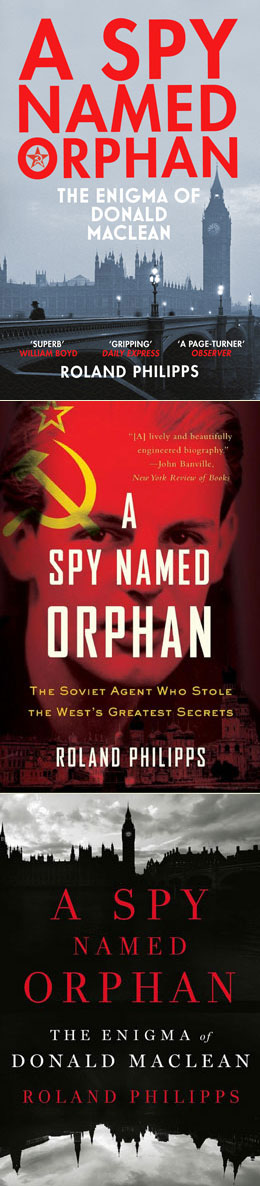
— будучи британским дипломатом, он мучился оттого, что в Египте вынужден поддерживать режим, при котором 99% населения живёт в ужасающей бедности;
— чудовищным образом испортились отношения с Мелиндой. Их роли с годами поменялись. И это ему не нравилось. Когда они познакомились, он был старше, образованнее, и она смотрела на него снизу вверх. Но с годами Мелинда расцвела и превратилась в прелестную светскую львицу; именно она, кстати, устроила неформальную посольскую вечеринку для Филиппа, молодого мужа Елизаветы II, когда тот пожаловал в Египет. Мужчины вились вокруг неё роем. Кроме того, Мелинда обладала стальной волей и самообладанием. Когда Дональд напивался так, что не мог выйти из дома, именно Мелинда передавала секретные документы жене советского резидента, с которой они встречались в парикмахерской. Мало-помалу Дональд её возненавидел. От этого чувство вины только росло.
Однажды, когда Маклины с друзьями устроили вечерний пикник на Ниле, что-то пошло не так: Дональд при всех набросился на Мелинду с обвинениями и начал её душить.
Но это были цветочки. Ягодки выросли, когда в Египет пожаловал лондонский приятель Маклина, журналист Тойнби. Пьяные дебоши следовали один за другим. Но этот вышел за все мыслимые пределы.
Они напились ещё на приёме во дворце короля.
Но не остановились на этом. В пьяном угаре Маклин и Тойнби ворвались в квартиру одной из своих знакомых, американки, работавшей в посольстве США.
Они начали колотить в её дверь. Женщина, одетая только в ночную рубашку, открыла, и была вынуждена спасаться у соседей наверху. Маклин и Тойнби разнесли квартиру, выпили всё найденное спиртное и вырубились на кровати хозяйки.
Утром посол США позвонил своему британскому коллеге и заявил, что если Маклина тотчас не отзовут, он доложит о случившемся египетским властям.
И Дональда отозвали. В самолёт он садился в состоянии, близком к нервному срыву.
В Лондоне Маклина... пожалели. Мелинда, со слезами на глазах упрашивая руководство дать её мужу ещё один шанс, напирала на то, что все эти годы тот работал без выходных. И выдохся. Ей поверили, назначив Дональда на необременительную работу в британском МИДе.
Тогда-то Маклина и настигла весть, что его песенка спета.
Adapted for The Daile Mail by:
Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————
Опустошив весь запас джина, они решили добавить. И вот уже приятели барабанят в дверь секретарши посла США.
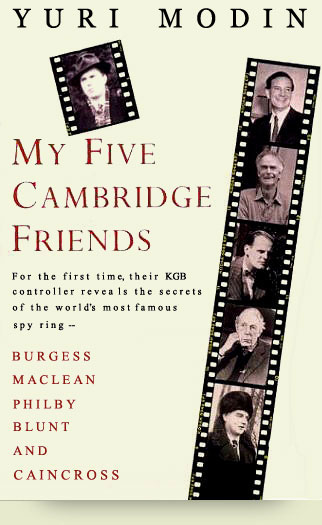
К счастью, её не было дома. Они протиснулись мимо остолбеневшей от страха экономки и устроили обыск.
Они вывалили содержимое комода на пол, перевернули мебель и, не найдя выпивки, впали в неистовство. В ванной они побросали одежду в унитаз и швырнули зеркало в ванну. Зеркало осталось невредимым; ванна раскололась надвое.
Такое поведение не красит мужчин за тридцать, а здесь одним из громил оказался британский дипломат, третий по значимости в посольстве.
Высокий и красивый, с осанкой аристократа, Дональд Маклин внешне был образцовым английским джентльменом. Его острый ум, фотографическая память, умение разбираться в сложных ситуациях и невозмутимость сделали его высокопоставленным сотрудником Министерства иностранных дел.
Он с отличием служил в Лондоне, Париже и Вашингтоне; прибытие в Каир было очередным шагом на пути блестящей карьеры, которая, казалось, завершится должностью посла, если не главы Министерства иностранных дел. В ожидании грядущего величия коллеги обращались к нему „сэр Дональд”.
Для других же — особенно после джина, который он пил как воду — этот лощёный аристократ слыл „Гордоном”, запойным пьяницей. На вечеринках он устраивал грандиозные скандалы по любому поводу, более того — не раз набрасывался с кулаками на свою многострадальную американскую жену Мелинду.
Почему он так много пил, в то время было загадкой. В дальнейшем причина выяснилась: Маклин был русским шпионом.
В штаб-квартире тайной советской разведывательной сети его знали как Сироту, Лирика, Стюарта, затем Гомера — и это лишь часть его агентурных кличек; в течение 15 лет он передавал жизненно важные секреты своим хозяевам в Кремле.
Он вёл двойную жизнь, рисковал всем, находясь в постоянной опасности быть обнаруженным. Спиртное в огромных количествах было убежищем.
Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————
По мере приближения войны к концу, раздел Европы приобретал для Сталина первостепенное значение. Маклин подробнейше сообщал ему о том, что думают об этом западные союзники.

Утром он первым садился за свой стол, чтобы прочесть ночные телеграммы, и последним, с набитым портфелем, уходил в 10 вечера. То, что не удавалось переснять, он помещал в свою бездонную память.
Именно поэтому Сталин на встрече “Большой тройки” (Ялта, февраль 1945) знал о намерениях США и Великобритании даже в мелочах; когда спустя несколько месяцев дело дошло до обсуждения будущего Польши, он был уверен, что британцы и американцы не полезут на стену, если эта страна станет сателлитом СССР.
По мере того, как послевоенные отношения между Западом и Востоком становились всё более напряжёнными, не кто иной как Маклин уведомил Москву, что США обладают лишь малую частью из 50 ядерных бомб, которыми они бахвалятся, да и те нечем доставить в Советский Союз.
Он же слил все записи переговоров, которые привели к созданию НАТО.
Сделать это было достаточно просто. Маклин отвечал за британскую сторону и каждый день составлял протокол, после чего дословно передавал его в Москву.
В игре блефа на грани войны русские могли наблюдать за руками противника благодаря Маклину. Неудивительно, что Московский центр ловил каждое его слово и отдавал его сообщениям высший приоритет.
Однако напряжение, вызванное служением одной системе и тяготением к другой, сказывалось. Внешне Маклин сохранял самообладание и хладнокровие, достойное первого секретаря посольства Великобритании в Соединенных Штатах Америки. Его усердие и работоспособность по-прежнему вызывали только похвалу.
Однако в свободное от службы время муки нечистой совести вступали в свои права. Он пил, и это было заметно. На званых обедах он мог выйти из себя и грубо отозваться об американцах. Не раз он вступал в такие жаркие споры, что его принудительно удаляли.
Всё это сходило Маклину с рук. Более того — его странному поведению находили оправдание: человек много работает и вынужден выпускать пар. Неизменное благоволение начальства привело к тому, что четыре жизненно важных года он оставался самым ценным шпионом Сталина в Америке.
Однако всему положен предел: в 1948 году Маклин прибыл в Каир как глава канцелярии посольства. ‹...›
Его поведение становилось невыносимым. Отправлялся на коктейльные вечеринки он всегда в подпитии, а после них уединялся в самых неподобающих местах. Не раз его находили неподвижно сидящим на скамейке в парке, но когда начальник службы безопасности уведомил об этом посла, тот оборвал его: разговорчики о Маклине прекратить немедленно.
Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————
Когда Мелинда с детьми присоединились к нему, они переехали в маленькую квартирку, а детей отдали в местные советские школы.

Между ними всё было достаточно хорошо, пока Ким Филби — мастер-шпион, который завербовал его ещё в Кембридже, — сам не бежал в 1963 году. Его жена Элеонора присоединилась к нему в Москве, и Филби и Маклины проводили много времени вместе, ходили на балет или просто ужинали и играли в бридж.
Элеонора нашла Мелинду забавной, но„ нервной и сильно взвинченной”, тоскующей „по роскоши западного капитализма”. Она видела, что брак Маклинов снова трещит по швам, а Дональд время от времени по-прежнему безнадёжно напивается.
Филби начал встречаться с Мелиндой на стороне и признался в этом своей жене.
Мелинда ушла от мужа, оставив детей с Дональдом, и переехала к Филби.
Они прожили вместе три года, пока на распутника Филби не обратила внимание женщина помоложе. Мелинда вернулась к Дональду, но два года спустя переехала в собственную квартиру.
Казалось, он не возражал против того, что их брак распался.
Он был счастлив в Москве и удовлетворён своей работой.
В конце концов, Мелинда вернулась на родину, в США, положив конец почти сорока годам выдержки, верности и предательства. К тому времени, когда она уехала из России, Маклин был в состоянии окончательного упадка сил, то попадал в больницу, то выписывался из-за рака, вызванного тем, что всю жизнь курил.
Adapted for The Daile Mail by: Roland Philipps. A Spy Named Orphan. London. 2018.————————
Квартира Маклинов находилась на верхнем этаже массивного дома с тяжеловесным орнаментом сталинской эпохи. Из их гостиной открывался прекрасный вид на Москву-реку, а сама гостиная, с хорошей мебелью и всякими западными вещицами, сохраняла безошибочный аромат Лондона.

Разве что ситцевые обои выглядели потёртыми.
Помимо гостиной, которая была больше и роскошней нашей, вся семья жила в двух комнатах: в одной — двенадцатилетняя дочь, в другой — двое сыновей, 18-ти и 20-ти лет. Дональд и Мелинда спали на диванах в гостиной.
Их дочь родилась после побега отца и попала в Россию совсем младенцем; она говорила по-русски, как уроженка страны, и поразила нас с Кимом своей избалованностью и грубым обращением с матерью. Старший сын учился в Московском университете, а его брат — в техническом институте. Внешне никто из детей не походил на русских, может быть, потому, что они одевались из посылок, которые мать и сестра Мелинды постоянно присылали из Америки.
В общем, эта семья не была самой счастливой в мире, и я часто удивлялась, почему Мелинда, которая явно не один раз была близка к разводу с Дональдом, всё-таки решила приехать к нему в Москву. Возможно, она разделяла его убеждения и была соучастницей в его шпионских делах, но она определённо тосковала по роскоши западного капитализма, от которого не была полностью отрезана благодаря материнским посылкам.
Дональд был крупным мужчиной высокого роста, лет сорока пяти, безусловно интеллигентным, но очень самодовольным. С первого же раза я почувствовала, что мы никогда не станем близкими друзьями. Жена его была маленькой, пухлой брюнеткой, в меру привлекательной, страшно нервозной и напряжённой, с раздражающей привычкой повторяться.
Было очевидным, что любви между ними не осталось. Мелинда была по-своему забавной, но, когда мы уходили от них поздно вечером, нам было её жалко. Однако Маклины знали многих людей, они оба работали, и их светская жизнь казалась мне относительно яркой. Я спрашивала себя, когда нам тоже будет дозволено свободно заводить себе друзей. ‹...›
Маклины давно перестали быть сенсацией для западных газетчиков, которые их не раз видели, поэтому они передвигались намного более свободно, чем мы. У Мелинды была старенькая автомашина, купленная лет шесть-семь назад, на которой она обычно ездила по городу.
Элеонора Филби. Шпион, которого я любила
https://biography.wikireading.ru/249392————————

Филби продолжал часто встречаться с Маклинами. В ту зиму они вместе ходили кататься на лыжах. И тут между ним и Мелиндой завязался любовный роман. Я больше не встречался с Маклинами, но знал, что отношения между мужем и женой стали прохладными. Я думал, что Мелинда смирилась со своим замужеством, но ошибся.
Дональд вскоре понял, что происходит, и друзья поссорились. Когда Элеонора приехала в Москву на Рождество, Ким встретил её холодно. В это время он уже не разговаривал с Дональдом, и Элеонора поняла, что случилось за время её отсутствия.
Она была потрясена, и в мае 1965 года уехала из Москвы навсегда. Расстались они с Кимом без скандала. ‹...›
Мелинда бросила мужа и перебралась к Киму. Дональду всё это, конечно, не понравилось, но
он сумел удержаться на плаву. Продолжал работать в институте, изучать русский язык, писать книги и встречаться с небольшим кругом друзей, исключая Филби, естественно. Впрочем, даже в Англии между ними было немного общего.
Роман Мелинды и Кима оказался недолговечным.
В 1966 году она ушла от него, может быть потому, что он снова запил.
Она осталась в Москве в полном одиночестве. Деваться ей было некуда, и частично по этой причине Мелинда вернулась к мужу. Жили они как-то странно, а в 1979 году она вообще уехала из России в Соединенные Штаты.
Модин, Юрий Иванович. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья.
М.: Олма-пресс. 1997. ————————
Наконец, летом 1955 года ему разрешили обосноваться в Москве, предоставили хорошую по тем временам квартиру в центре столицы, на Большой Дорогомиловской улице, небольшую дачку в посёлке Чкаловский и даже трудоустроили консультантом в недавно созданный журнал «Международная жизнь», официоз МИД СССР.
Здесь он встречает двух своих будущих друзей —
Д.Е. Меламида и А.А. Галкина, с которыми впервые за годы пребывания в Советском Союзе получает возможность свободно обсуждать интересующие его вопросы международной и внутренней жизни. ‹...›
Когда в начале 1961 года Д.Е. Меламид переходил на работу в ИМЭМО, где ему предстояло возглавить европейский сектор, он уговорил своего друга последовать за ним, поставив перед Маклейном амбициозную и вместе с тем достойную цель: стать ведущим и, главное, официально признанным советским экспертом по вопросам внешней политики Англии. ‹...›
6 июля 1961 года в ИМЭМО появился новый научный сотрудник — высокий представительный мужчина лет пятидесяти, с хорошими манерами. Звали его Марк Петрович Фрейзер. По-русски он говорил с заметным акцентом, выдававшим иностранца.
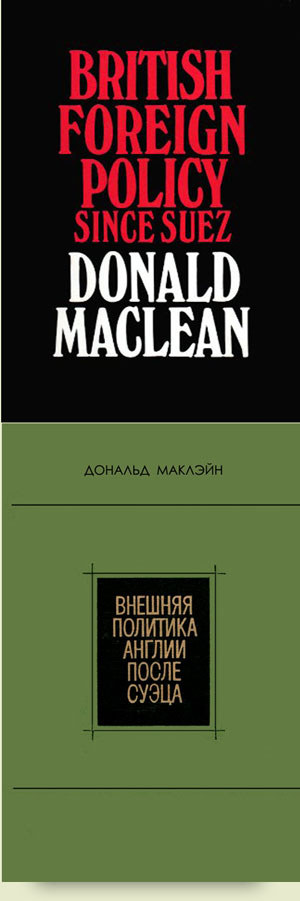
В институте быстро поняли, кто он на самом деле. Все западные СМИ, начиная с 1951 года, когда руководитель американского департамента МИД Великобритании Дональд Маклейн бежал в СССР, часто писали о нём, публиковали его фотографии. За десять лет, истекших со времени его бегства, на Западе было выпущено несколько книг о Маклейне и его кембриджских товарищах — Киме Филби и Гае Бёрджессе, тоже агентах советской внешней разведки. ‹...›
Поначалу писал он по-английски, но постепенно перешёл на русский. Одновременно со статьями, главами и разделами коллективных трудов Маклейн работал над диссертацией «Проблемы внешней политики Англии на современном этапе», которую успешно защитил осенью 1969 года. ‹...›
Его друг и соратник Д.Е. Меламид, “переманивший” Маклейна на научную работу, мог быть полностью удовлетворён. К началу 70-х годов Дональд Маклейн превратился в ведущего советского политолога-англоведа, одного из самых авторитетных специалистов по проблемам Западной Европы. К его компетентным оценкам и рекомендациям прислушивались и в международном отделе ЦК КПСС, и в МИД СССР. Аналитические записки Маклейна направлялись в самые высокие инстанции, включая Л.И. Брежнева и А.А. Громыко. ‹...›
Долгие годы он добивался от руководства КГБ возвращения себе подлинного имени и фамилии. В конечном счёте, его настойчивость возымела действие. ‹...›
По представлению ИМЭМО, поддержанному Академией наук СССР, Д. Маклейн в связи с 60-летием был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Это был его второй орден, полученный теперь уже за мирный труд. Первым (Боевого Красного Знамени) он был награждён в ноябре 1955 года. ‹...›
Коллегам из ИМЭМО Маклейн запомнился как человек не только демократических убеждений, но и не менее демократичных привычек. Заядлый курильщик, он имел возможность получать недоступные советским людям «Мальборо» или «Кэмел», но признавал только «Дымок» и «Приму», крепчайший табак которых отпугивал всё живое. Обедать он ходил не в соседний с институтом ресторан «Золотой колос», а в расположенную рядом с ИМЭМО пельменную, которую не всякий младший научный сотрудник института рисковал посещать, даже будучи очень голодным. Он был одинаково вежлив и приветлив с академиком и аспирантом.
Пётр Черкасов. Вторая жизнь “Гомера” // Известия, 21 мая 2003 года.————————
Мне довелось познакомиться с Маклином в конце 1960-х. Я подготовил большую рукопись о Сталине (позже опубликованную на Западе под названием «Пусть история рассудит»), которую показывал некоторым историкам, старым большевикам и писателям ‹...›. Один из моих знакомых попросил разрешения показать рукопись Марку Петровичу Фрейзеру ‹...›
Впоследствии мы с Маклином встречались ещё несколько раз. Он показал мне свою библиотеку и предложил помощь в переводе некоторых английских текстов. “Самиздат” был на пике своего развития, и он хотел прочитать несколько других рукописей, циркулирующих в Москве. Маклин никогда не рассказывал о деталях или методах своей шпионской работы — возможно, ему это было запрещено. Несколько раз он ссылался на определённые исторические события, на которые, видимо, повлиял.
Например, летом 1950 года северокорейская армия начала наступление на юг и быстро разгромила войска Ли Сын Мана, оттеснив их к морю и захватив 90 процентов территории Южной Кореи. Трумэн внезапно приказал американскому контингенту численностью 50 000 человек совершить высадку морского десанта в глубоком тылу армии, и на следующий день Восьмая американская армия начала атаку со своей базы в Пусане. Отрезанные от своих баз, войска Ким Ир Сена оказались в безнадёжном положении и были разгромлены. Американские и корейские войска вместе с подразделениями некоторых союзных стран двинулись на север, к китайской границе.

Казалось, дни Корейской Народной Республики были сочтены, когда Сталин настоял на китайском вмешательстве. Мао колебался, опасаясь, что американцы могут перенести войну на территорию Китая и даже применить атомную бомбу против китайских войск и промышленных центров.
В это время английская делегация во главе с премьер-министром Клементом Эттли находилась с визитом в Соединенных Штатах. Дональд Маклин, глава американского отдела Министерства иностранных дел, был членом этой делегации. Ни у Эттли, ни у их американских коллег не было секретов от Маклина. Ему удалось получить копию приказа Трумэна генералу Макартуру ни при каких обстоятельствах не пересекать китайскую границу и не применять атомное оружие. Америка опасалась длительной и безнадежной войны с Китаем.
Сталин немедленно передал информацию Мао Цзэдуну, и нежеланию китайцев наступать пришёл конец. 25 октября огромная армия “китайских добровольцев” пересекла корейскую границу и атаковала американские и южнокорейские войска. Кровопролитная война вступила в новую стадию и закончилась три года спустя установлением демаркационной линии по 38-й параллели.
В Москве Маклин не искал встреч с диссидентами, хотя с интересом наблюдал за их деятельностью и борьбой. Он никогда не отказывался делать небольшие пожертвования, когда проводились сборы в поддержку семей арестованных. Однажды он узнал, что дочь знакомой ему семьи была арестована за распространение листовок (отпечатанных от руки листов из школьной тетради). В том году проводились выборы в Верховный Совет СССР . Советский гражданин Маклин пришёл к месту голосования и внутри кабинки написал на бланке: „Пока такие девушки, как Ольга Иоффе, содержатся в психиатрических лечебницах, я не могу участвовать в выборах”.
Маклин был доволен, что его книга о британской внешней политике была опубликована в Англии без какого-либо сокрытия его авторства. Он объявил всем, кого знал, что больше не будет выступать под именем Марк Петрович Фрейзер, а снова будет Дональдом Маклином. Примерно два года спустя книга была опубликована на русском языке в Советском Союзе. Я получил копию с комплиментами автора и дарственной надписью.
Семейная жизнь Маклина в Москве не была счастливой. Он не любил обсуждать этот вопрос, но нетрудно было догадаться, что причиной трений были его частые запои. Он был алкоголиком и проходил лечение от этой болезни. Очевидно, нервотрёпка предыдущих лет не прошла бесследно. ‹...›
Маклин получил должность “советника” в Министерстве иностранных дел, когда Сталин был ещё жив. По сути, это была синекура. Позже он начал работать в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Именно там он защитил докторскую диссертацию.
Тем не менее, только благодаря помощи КГБ он и его жена Мелинда получили хорошие квартиры в Москве. Если бы КГБ не поручился за него, он не смог бы совершить поездки в некоторые страны Советского блока — в Венгрию, Польшу, Болгарию.
Несколько раз он объяснял мне, как выявить “информатора” или узнать, следит ли за тобой тайная полиция и каким образом. Он даже привёл в пример одну женщину, указав на улики того, что она информатор КГБ.
Маклин не мог стать советским диссидентом, но и не хотел делать какую-либо карьеру в СССР. Он предпочёл быть обычным учёным. В 1950-х годах Маклин всё ещё поддерживал дружеские отношения с рядом историков и специалистов по международным отношениям.
Он стал постоянным членом группы, сформировавшейся вокруг журнала «International Life», и пользовался полным доверием её членов. Я не собираюсь называть здесь никаких имен. В 1960-е годы круг его знакомств значительно сузился. С некоторыми людьми он порвал отношения, а другие ушли в лучший мир. В 70-е годы круг его знакомств сузился ещё больше. ‹...›
У Дональда была дача недалеко от Москвы, в курортной зоне Министерства иностранных дел. Он жил там с весны до поздней осени, возделывая свой фруктовый сад, цветочные клумбы и огород, как истинный англичанин. К нему часто приезжала погостить его дочь. Он особенно любил свою маленькую внучку, которая иногда оставалась с ним неделями.
Постепенно семья Дональда начала распадаться. Сначала его старший сын Фергюс уехал в Англию. Затем жена уехала жить к своей матери. Вместе со своим вторым мужем дочь Дональда уехала в Соединенные Штаты, забрав с собой его любимую внучку. Наконец, его младший сын Дональд тоже уехал, и Маклин остался один в мире. ‹...›
Маклин прожил в Советском Союзе немногим более 30 лет — именно столько времени он провёл бы в одиночной камере английской тюрьмы.
Roy Medvedev. Requiem for a Traitor: A Spy’s Lonely Loyalty To Old, Betrayed Ideals.
https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1983/06/19/————————

ора Фёдоров, иначе Георгий Борисович Фёдоров, и его жена Майя Рошаль, дочь двух видных сталинских кинорежиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой, сами вполне достойны подробного описания. Не менее достойна этого и их большая, сильно запущенная квартира, где всегда было полно народу, где с утра до ночи разговаривали и спорили, где двое хозяйских детей Вера и Миша жили каждый своей, совершенно отдельной жизнью. Так же как и мохнатый и грязновато-белый пудель. И где Жора и Майя являли собой образцовую, очень дружную и любящую семейную пару. ‹...›
Жора очень быстро подружился с нами и познакомил мужа и меня с Сашей Некричем. Естественно, он называл Некрича, как и всех своих многочисленных приятелей, „самым лучшим другом”. Но Некрич был, и правда, пожалуй, его лучшим другом. ‹...›
Маклэйн, приговоренный в Англии, кажется, к 99 годам тюрьмы, был выкраден и нелегально переправлен в Советский Союз. Его работа на нашу разведку скрывалась и, думаю, отрицалась всеми официальными инстанциями. А журнал «Международная жизнь» уже по замыслу своему был связан с политиками и журналистами из разных стран, в которых работа английского аристократа и крупного деятеля британского МИДа на СССР, а также его исчезновение наделали столько шума. ‹...›
Не помню точно, когда я увидела Дональда, тогда Марка Петровича, в первый раз. Во всяком случае, мы ещё жили в коммуналке на Цветном бульваре. Стало быть, это произошло до 1958 года. ‹...›
Д.Е. (Даниил Ефимович Меламид. —
В.М.) перешёл из «Международной жизни» в ИМЭМО. Вместе с Меламидом в ИМЭМО ушёл и Маклэйн–Фрейзер ‹...›
Надо сказать, что доблестные чекисты (они и впрямь в случае с Маклэйном оказались доблестными, не только спасли его от пожизненного заключения, но и сумели переправить в СССР жену с тремя детьми) позаботились и о квартире для него, и о даче в мидовском посёлке под Москвой, и, насколько я знаю, о пожизненной пенсии, которая казалась тогда не такой уж маленькой, ибо равнялась окладу профессора.

Маклэйн жил в Москве в “сталинском” доме, из тех, что до сих пор ценятся за высокие потолки и добротность. Этот дом на Дорогомиловской, у самого Киевского вокзала, очень мне дорог и памятен. Но вместе с тем я всегда видела весь его неуют. ‹...› Дачу в Чкаловском мы с мужем посетили много лет спустя, но ещё в самые убогие времена. И тогда она поразила меня и своими крохотными размерами, и маленьким участком, и неказистостью.
При этом из газетных публикаций и отдельных реплик друга Дональда, тоже суперразведчика, Джорджа Блейка, я поняла, что Маклэйн оказал Советскому Союзу невероятно большие услуги. ‹...›
Да, в первые годы жизни в Москве Дональд пил.
Почему-то считается, что пьют только русские. Странное заблуждение. Не могу сказать, пил ли Маклэйн, живя в Англии. Но можно предположить, что немалую роль сыграли и тот шок, который он перенёс, и те обстоятельства, в которых очутился. Всё это, впрочем, предположения. Одно
могу утверждать с полным основанием: он, единственный из всех пьющих людей, которых я знала (а их было много),
кто действительно “завязал”. ‹...› Но Дональд не был бы Дональдом, если бы в компании у себя дома или у друзей демонстрировал “сухой закон”, пусть даже для себя самого. Нет, он наливал бокал сухого вина, и время от времени подносил его ко рту, может быть и отпивал глоток или два. ‹...›
Время шло. Дети выросли. Все трое были высокие, красивые, как на подбор. Особенно дочь, любимица отца Мелинда, или Мимзи.
Тем не менее, в доме Маклэйнов становилось всё неблагополучнее. ‹...›
Старший не стал учиться в МГУ. Уехал в Англию, что, наверное, Маклэйну было не так-то просто пробить. Браки обоих сыновей оказались неудачными. У красавицы Мимзи мужья часто менялись. ‹...›
А потом стало и вовсе плохо. Мелинда-старшая, жена Маклэйна, ушла к... Филби. Глупо утверждать, что женщины в России не уходят от своих мужей. Даже те, кто имеет троих детей. Но, во-первых, Дональд был в экстремальной ситуации. Во-вторых, русские женщины
не оставляют детей на попечении мужа. ‹...› Через два года Мелинда покинула Филби и вернулась в дом у Киевского вокзала, жила там до тех пор, пока Дональд не выхлопотал для неё у своих могущественных покровителей двухкомнатную квартиру на Смоленской. Мы с мужем там несколько раз были по приглашению Дональда — он нас приводил и уводил. Внешне они остались друзьями. Дональд не сказал о Мелинде ни одного дурного слова.
Людмила Чёрная. Косой дождь. М.: Новое литературное обозрение. 2015. С. 373, 381–396.————————
Нас познакомила его жена Мелинда,
продолжавшая иногда встречаться с Кимом, хотя и вернулась к мужу. Мы с Дональдом сразу же понравились друг другу и вскоре стали близкими друзьями. ‹...› Он отказался от каких-либо привилегий, одевался и питался очень скромно.
За все четырнадцать лет нашего знакомства он не выпил ни капли спиртного, хотя было время, в том числе после приезда в СССР, когда он сильно пил.

„Вместо того, чтобы стать алкоголиком, — говорил он о себе, — я стал трудоголиком”. ‹...› Несмотря на внушительный вид — шесть футов и шесть дюймов роста, он обладал мягким характером, у него для собеседника всегда были наготове доброе слово или улыбка. Все знали, что он внимателен к людям, и если обращались к нему за помощью, то никогда не получали отказа. ‹...›
Он был солидарен с диссидентами и регулярно отдавал часть своих доходов — немалых по советским понятиям — в фонд помощи семьям попавших в тюрьму. ‹...›
Через два года после приезда в СССР к нему приехали его жена Мелинда и трое их детей. Они так и не смогли освоиться в этой стране, и никогда не были здесь счастливы. Всю жизнь Дональд страдал от чувства вины за то, что вырвал жену и детей из привычной для них жизни. Когда в конце 70-х годов его сыновья с их советскими женами выразили твёрдое желание эмигрировать в Англию или США, он счёл своим долгом сделать все возможное и помочь им. ‹...› Последние два года жизни он провёл один, присматривала за ним преданная домработница Надежда Петровна, его окружили заботой многочисленные друзья и коллеги. ‹...›
Гражданская панихида, состоявшаяся в актовом зале института, выдающимся сотрудником которого являлся Дональд, превратилась в трогательное прощание с человеком, которого очень уважали и любили все, кто знал его даже не как знаменитого разведчика, а как доброго и справедливого товарища, настоящего английского джентльмена в лучшем смысле этого слова. Выступило много людей, среди них несколько академиков, говоривших о Дональде как о замечательном учёном. В своём прощальном слове я привёл библейскую притчу о сорока праведниках. Вознамерившись уничтожить этот мир за грехи человеческие, Господь пообещал отказаться от своего намерения в случае, если бы нашлось на земле сорок праведников. По моему мнению, сказал я, мы, друзья и коллеги Дональда, имели редчайшую возможность лично знать одного из тех сорока, ради которых и был сохранен наш мир.
Джордж Блейк. Иного выбора нет. М.: Международные отношения. 1991. С. 145–148.
Итак, супруга Даниила Ефимовича Меламида (он же Д. Мельников, 1916–1993) свидетельствует, что по приезде в Москву Маклин, будучи о ту пору Фрейзером, злоупотреблял наотмашь, и вдруг превратился в трезвенника. При этом об участии мужа в изгнании беса винопития Людмила Чёрная не сообщает, а надо бы. Воспоминаний Александра Абрамовича Галкина (1922–2022) пока не обнаружено, Джордж Блейк появился в Москве значительно позже. Лично мои поиски зашли в тупик, но при любом раскладе доказанными чудотворцами остаются Георгий Борисович Фёдоров (1917–1993) и Александр Моисеевич Некрич (1920–1993). Они-то и вцепились (выражение Георгия Борисовича) в Маклина, бесцеремонностью (там же) своей удержав его от самоистребления (вы спасли мне жизнь).
Как видим, Фёдоров, Некрич и Меламид ушли в мир иной кучно, будто сговорившись; но Меламид первым (1 января). Не почему первым, а зачем первым: досконально изучить (не было равных) обстановку инобытия. В итоге Фёдоров и Некрич побросали все свои дела и умерли.
И вот они умерли, а я попечением Наташи Рубинштейн выхожу на Фергюса (1944 г.р.) и Дональда-младшего (1946 г.р.). Вышел, держу карман шире: быстренько скинулись на святое дело, братики-сыночки.
— Представьтесь, — распахивают джентльмены дружелюбный фарфор. — Дядю Жору знаем, вас нет. Вы кто?
Позор, тоска, о жалкий жребий мой.
Но зачем тогда этот стол яств.
Притянуть к ответу гегелевское отрицание отрицания, вот зачем. Усаживайтесь поудобнее. Поехали.

Правая бровь чешется — к с искреннему собеседнику, левая — к лицемеру. Сроду (1954) не чесалась ни одна. Потому что не был знаком с Николаем Ивановичем Харджиевым (1903–1996). Слыхом не слыхивал о нём во времена своего почтения к сединам и неложного благочестия. Ещё не покрылся морщинами слона, и не бежала впереди худая слава — запросто можно было спроворить встречу.
Мне возразят: Харджиев до такой степени опасался незнакомцев, что месяцами никому не открывал дверь. Вообще никому, даже водопроводчикам. Упущенная невозможность — вот как называются твои виды на Харджиева задним числом, дорогуша.
Охотно соглашаюсь не гадать на ромашке сослагательного наклонения. Зачем гадать, если круг моих московских знакомых очерчивал Май Митурич-Хлебников (1925–2008), и он счёл Харджиева невхожим. Разумеется, был прав, сейчас докажу.
Вместо Харджиева Митурич свёл меня с его любимым учеником. В дальнейшем любимый ученик был проклят, но кто не был проклят Харджиевым, спрашивается. Вот вам неопровержимое доказательство мудрости Мая Митурича: из младой поросли велимирян чаша сия миновала одного меня.
Ещё бы Харджиеву не проклясть Мая: зачем отдал рукописи Хлебникова в ЦГАЛИ. Пока не отдал, ими пользовался один только Николай Иванович. У Митурича на дому, ну и что. Терпи, раз одолжить трусишь. И вдруг рукописи Хлебникова уплывают в общепит.
Чтобы вы раз и навсегда перестали держать меня за хвастуна в смысле проникновения к Харджиеву, напоминаю, что Май Митурич — его сын. Внебрачный, ну и что. Дело было так: рукописи Хлебникова до их передачи в ЦГАЛИ хранились у наследников. Престарелые родители не в счёт, старшая сестра сошла с ума, брат пропал без вести. Случайно уцелела младшая Вера, художница. Твёрдый остаток работы головного мозга Хлебникова целиком и полностью осел у единственной владелицы, причём ни клочка покамест не обнародовано. Более того, никто эти рукописи в глаза не видывал, кроме самой Веры и ангелов.
Харджиев об этом пронюхал и давай подбивать клинья к барышне, то есть клеиться и охмурять. Мало кто знает, что Ильф и Петров списали Остапа Бендера времён Зоси Синицкой с Харджиева, такого же одессита до переезда в Москву, как и Бабель с Багрицким. Встретив обнадёживающий приём, Николай Иванович предложил Вере Хлебниковой руку и сердце.
Харджиев был красив даже в гробу, что говорить о его первой молодости: чаровник. Да ещё и язык подвешен к умной голове. Хлебникова согласилась, оговорив только прежнее родовое прозвище, в память о брате. Брак был заключён по всем правилам, с проставлением печати ЗАГС, и Николай Иванович без промедления переехал к Вере и всосался в почерк Велимира Хлебникова.
Да так в этом увяз, что забыл о ежевечернем бритье, не говоря о чистке зубов. Вере это показалось обидно, и она в одностороннем порядке расторгла брак, предварительно перепрятав рукописи в надёжное место: на чердаке ВХУТЕМАСа.
Московские чердаки о ту пору были набиты беспризорниками, включая брошенных мужей. Одним из таких бедолаг оказался художник Митурич, отставленный вследствие неспособности прокормить семью. Внешность Митурича являла собой полную противоположность смазливой чернявости Харджиева: это был сухопарый викинг.
Викинг так викинг, решила Вера Хлебникова, лишь бы ноги не пахли. Убедившись в чистоплотности Митурича, она согласилась составить его счастие. Будучи каким-то чудом, памятуя о супружеской небрежности Харджиева, на сносях.
Я дружил с Маем Митуричем-Хлебниковым на излёте пребывания Харджиева в немытой России, ну и что. Одна нога там, но другая-то здесь. Навещая папашу, Митурич имел при себе отнюдь не объятья Тома Джонса, найдёныша: пудовые сумки с гостинцами так и оттягивали его руки. Запросто можно было напроситься на роль грузчика, захоти Митурич познакомить меня со своим отцом. А вот не захотел: мудрость.
На всякого мудреца довольно простоты. Май Митурич не исключение, сейчас докажу: представил меня в самом выгодном свете любимцу и вероятному преемнику Харджиева. Преемник проявил любопытство и зазвал к себе.
На улицу Победы. Вот почему восторженные поклонницы величали его победительный Дуганов.
И сглазили. Не надо быть Вангой, чтобы una fine ingloriosa основателя «Общества Велимира Хлебникова» объявить следствием заговора. Заговор бывает заговор-сговор (заединщина) и заговор-заклинание (порча). Первый подразумевает сообщников; заклинание произносят лично. Жадного до заединщины ведьмака не обобществили, вот и навёл порчу, например.
Когда Митурич сводил меня с Дугановым, о кучковании помимо сталинских учреждений даже речи быть не могло. Хорошо это или плохо? Судите сами: «Общество Велимира Хлебникова» разбрелось кто куда, стоило вожаку покинуть пределы немытой России. В итоге имеем то, что имеем: ни Общества, ни вожака.
Но я застал безвестного Дуганова, описать коего в двух словах проще простого: красавец мужчина. Теперь вкратце окружающая среда. Не место красит человека, а человек место. Тут совпало. Или нарочно выбрал себе такую улицу. Нет, совпало: впритык с домом остановка «Баня», так и напрашивается Победоносиков и Мезальянсова. Наверняка один только я так подумал, по своей развращённости.
Изо всех сил победительный и как-то подозрительно благополучный любимец и преемник. Продолжая банно-прачечный уклон Маяковского — Понт Кич. И тебе тапки собачка в зубах приносит, и тебе заморского кроя кресло. Можно курить.
Я гащивал на улице Победы не раз и не два, а три с половиной раза. Половина переводится стоя в прихожей. Потом вместе вышли, чтобы разойтись навсегда.
В. Молотилов. Корабль из чужих досок. Правда и ложь Николая Харджиева.
Синим выделено место, где я подражаю Хармсу. Делается так: выдумываем несуразицу, окружаем правдоподобием и доводим до сведения мировой общественности. Лобное место по-мавритански обеспечено. Делается так: преступника погружают в чан с нечистотами и по-над маковкой рассекают воздух клинком. Каково пробулькивать разумное, доброе, вечное сквозь эту нахлобучку — дело десятое, вопрос в другом: кем при таком раскладе предстают Вера Хлебникова и Пётр Митурич? 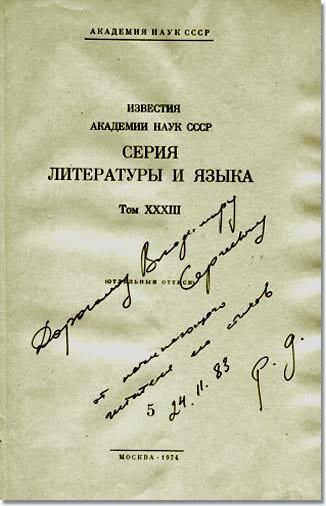 Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков.
Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков.
Ну-тка?
Так вот, заметок Парниса в журналах куча-мала, о Дуганове знаю (БСЭ, список литературы в словарной статье о Хлебникове), а кто такой Харджиев — без понятия. Просветили на Брянской, см. гл. «Дикие дрожжи науки». Закругляю это просвещение столь же прикровенно: в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и...
А теперь вспоминаем саморазоблачение из главы, где Молотилов не Владимир Сергеевич, а Ефим Ильич. Вспомнили? Так вот, заслал меня к Дуганову всё тот же Май Митурич. Тот самый, который хотел дознаться, где там раки зимуют, в Климовске этом. Внимание, разглашаю очередную надобу стягоносца велимирян: Николай Иванович Харджиев назначил преемника.
— По проводам переговорили, но ведь он и тебе любопытен вживе?
— Ещё бы, — отвечаю, — не любопытен: двинуть Хлебникова в Академию наук, это ж сколько пядей во лбу надо иметь!
— Слетаешь?
Так что краеугольный камень в глыбу над прахом Дуганова подле каменной бабы заложил именно я, ребятки.
Александр Сергеевич Пушкин семь раз на дню переводил взор с пустоцвета Онегина на сисястых кормилиц, отчего б не перенять полезную для продумы деебна привычку? Взять каменную бабу на Новодевичьем: лирическое отступление или драматическое — судить не мне. Тогда кому. Тогда Александру Ефимовичу Парнису, он же толкает речугу подле бабы. Озвучивает бегущую строку, ну и что.

оловцы то воевали с русскими, то вступали с ними в союзы, то ссорились, то заключали браки, но неизменно в течение двух с лишним столетий оказывали огромное влияние на всю жизнь Древней Руси.
Прошли века. Половцы растворились среди оседлых земледельцев, в том числе — и прежде всего — среди русских. Сохранились лишь отдельные слова — казак, например, что в переводе означает страж, защитник пограничья.
Но, пожалуй, самое замечательное материальное свидетельство о половцах — каменные изваяния, которые до недавнего времени тысячами возвышались на вершинах курганов по бескрайней причерноморской степи. Изваяния эти необычайно выразительны и прослыли в народе каменными бабами, хотя нередко бывают с усами, бородами, обвешаны оружием — словом, мужчины с головы до ног.
Любопытно, что и спустя поглощение половцев новыми хозяевами степей — монголо-татарами и оседлыми земледельческими народами — почитание половецких каменных баб сохранилось: им молились для получения хорошего урожая, они имели значение и вполне практическое. Поставленные на вершинах высоких курганов, часто на перекрёстках дорог, иногда специально туда перетаскиваемые, эти каменные изваяния, издалека видные в степных равнинах, играли роль постоянных и надёжных ориентиров, подобно путевым столбам древних римлян. Как дорожные знаки они вошли в русские исторические и географические сочинения нескольких веков.
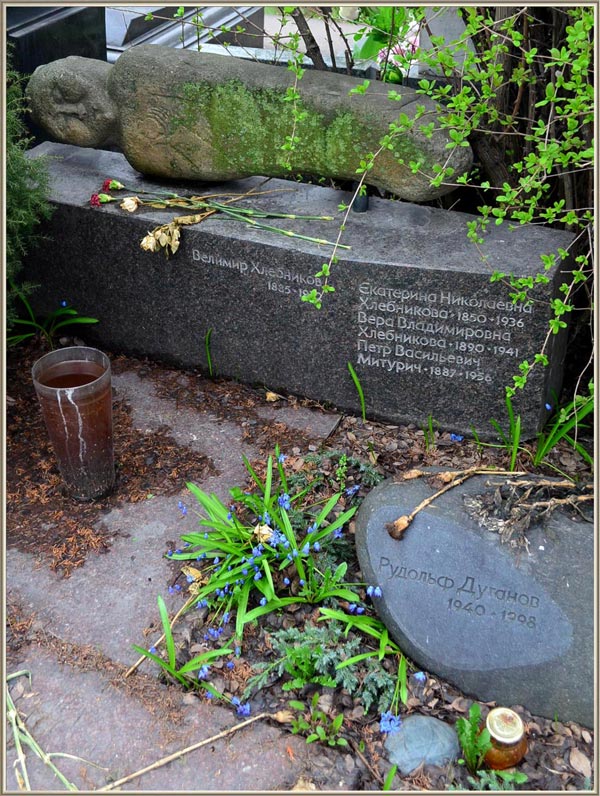
Близкая дружба связала Хлебникова с выдающимся русским художником Петром Митуричем. Митурич видел в Хлебникове не только необыкновенно одарённого поэта, обаятельного человека, но и учителя жизни, философские и художнические взгляды которого были чрезвычайно близки ему.
Как созвучно, например, творчеству Хлебникова такое понимание Митуричем живописи: „Живопись по материалу воплощения (краска — это волна света в руках художника) — наитончайшим образом может формировать идеи, ещё не дошедшие до полного осознания, но определяемые подсознательно”.
После службы в Красной Армии, с частями которой он в 1921 году проделал весь легендарный поход по Ирану на Тегеран, Хлебников тяжело заболел. Весной 1922 года поэт и художник поехали в деревню Санталово Новгородской области на северо-западе России. Там поэт мог оправиться от болезни, набраться сил. Но болезнь обострилась и, после долгих страданий, 28 июня 1922 года Хлебников скончался на руках у друга. Пётр Митурич нарисовал портрет его за день до его смерти, а затем и на смертном одре. По философской глубине и художественной выразительности эти произведения относятся к шедеврам русского изобразительного искусства.
Митурич похоронил друга, отметил место его погребения и вернулся в Москву.
Вскоре из Астрахани прибыла туда и сестра Хлебникова, художница Вера Владимировна. Занимаясь наследием поэта, они, естественно, познакомились. Знакомство переросло в любовь. Шли годы, Вера Хлебникова и Петр Митурич скончались. Их единственный сын, Май Митурич, семнадцатилетним мальчиком ушедший на фронт, вернулся домой после окончания Великой Отечественной войны и стал известным художником.
В 1970 году он вместе с учеником своего отца Павлом Захаровым по командировке Союза писателей поехал в деревню Санталово. Прах Велемира Хлебникова был перевезён в Москву и погребён на Новодевичьем кладбище.
Поэт Борис Слуцкий и художник Май Митурич — исходя из самого духа и содержания творчества Хлебникова — решили установить на его могиле подлинную каменную бабу. Союз писателей поддержал эту идею. Вот с просьбой добыть каменную бабу они и обратились ко мне, рассчитывая, и не без основания, что я разделю их желание и, как археолог, помогу. Разумеется, у меня много не только знакомых, но даже и друзей среди директоров музеев, где хранятся каменные бабы. Оказалось, однако, что получить какую-либо из них нет никакой возможности: ни один директор в этом не властен. Досадное, но, может быть, и вполне справедливое правило.
Казалось, дело зашло в тупик. И вот, после нескольких лет бесплодных поисков — неожиданная удача: мой друг и коллега, работая в Киргизии, на берегу горного озера Иссык-Куль обследовал один из местных курганов и сделал редчайшую находку. Стоявшая на вершине кургана каменная баба каким-то образом соскочила с пьедестала и постепенно с головой ушла в насыпь кургана — виднелась лишь макушка. Вот это удача — баба, и не в музее, и не предмет почитания местных жителей, даже совсем им неизвестная.
Бабу (VI–VII вв. н.э.) выкопали и передали мне, а я в Союз писателей. Вскоре её установили на могиле Хлебникова.
Г.Б. Фёдоров. Поэт, художник и “каменная баба”
Заврался, сам скажу. Но разве не во благо? Во благо: повторение — мать учения. Убираем бегущую строку, Парниса в кадр, поехали.

ратья и сестры! Не раз и не два здесь, у этой могилы, я заявлял, что прах, доставленный в Москву с новгородского погоста, не принадлежит Велимиру Хлебникову. Я ошибался. Объяснюсь ниже, сначала о том, что подвигло меня на это выступление: наследникам Хлебниковых-Митуричей вчиняют иск об изъятии каменной бабы. Оказывается, этот замшелый камень — святыня жителей Тувы. Задним числом в полвека догадались. Уже их шаманы сулят судейским порчу до седьмого колена, посмей те препятствовать восстановлению справедливости. Суд неизбежно примет сторону оскорблённого чувства тувинских краеведов. Куда пойдёшь, кому что скажешь, говорила в таких случаях моя бабушка. Лично мне остаётся пойти с шапкой на пособие Вере Маевне: в одиночку изготовление слепка, перевозку бабы в предуказанное урочище и расходы на ваяние бабы-заместительницы ей не потянуть. Вношу лепту первым: сто восемь тысяч. Почему сто восемь?
Очень просто: 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3. По мере сил, в рублях. Валюта уже подтягивается, как видите: Жан-Клод Ланн, Рэймонд Кук, Барбара Лённквист, Жан-Филипп Жаккар, Маттео Д’Амброзио, Оге Ханзен-Лёве, Корнелия Ичин, Дубравка Ораич-Толич, Пётр Матывецкий, Ренато Поджоли, Фереште Машхадирафи, Хуэй Энди Чжан, Джеральд Янечек. Прошу любить и жаловать.

Перехожу к болезненному для меня, не скрою, признанию: да, я пребывал в заблуждении ровно столько, сколько медлили прозреть тувинские краеведы: более полувека. А ведь ход мысли удивительно прост: Май сначала побывал в Ручьях дикарём, доискался старожилов, заручился их согласием освидетельствовать останки Хлебникова, и лишь потом обратился в правление Союза писателей. Между тем, поездка государственной важности подразумевает не только подорожную и суточные, но и отчёт с приложением Акта вскрытия могилы. Акт общеизвестен, но, как говорится, бумага всё стерпит. При этом никто, включая меня, не удосужился доискаться отчёта по раскопкам. И вот читаю: пястные и теменная кости, более ничего. Ничего для того, кто в глаза не видывал ручьёвского погоста. Бывал здесь Николай Заболоцкий? Не бывал. И выдумывает новгородский ил. Никакого ила, торфа и даже суглинка: новгородцы испокон закладывают погосты на возвышенных местах, так называемых гривах. А это чистый ледниковый песок — раз, Хлебникова зарыли в этот песок на задах погоста — два. На задах, кстати, по сей день цела ограда из валунов. И вот очередная весна после долгой зимы с неизбежными снеговыми заносами. Где на погосте эти заносы наибольшие? У ограды. Пошли талые воды. Куда? По склону песчаной гривы. И вот у ограды из валунов воды по колено. А могила Хлебникова всеми заброшенная, провалилась — воды по грудь. И так тридцать восемь лет. Но и это не главный показатель маевой правоты. Чёрным по белому: обнаружены клочки шерстяной ткани в области грудной клетки. Вспоминаем Хлебникова на смертном одре: жилетка. Никого местные не хоронят иначе как в белых рубахах, преимущественно льняных, а тут предательские клочки в области дотла смытых в подстилающую глину рёбер. И трое старожилов единогласно, без всякого нажима со стороны сельсовета, подписывают Акт вскрытия могилы.
И тут происходит немыслимое для всех, кто плохо знает Александра Ефимовича Парниса: опускается на колени перед отдельно захороненным (слева и поодаль бабы) прахом, врезается в надгробие лбом и вопиет, кровеня кулак о безответный камень:
— О прости меня, Май! Прости! Прости! Прости!
Невыносимое зрелище. Я всегда говорил, что Александр Ефимович вас ещё удивит.
Омыв душу грёзой, возвращаюсь к тому, кто справа и близ, впритык велимирянской Каабы. Крещёная душа! Постановили, думаю, так: и камень всё стерпит, и в святцах не значится. А с этим Романом хлопот не оберёшься: предосудительная двуличность.
Итак, Май Митурич заручается моим согласием слетать, даёт позывные и ждёт у моря погоды. Разумеется, на следующий же вечер я к Дуганову и нагрянул. Крайне мало зная о порядке его подчинённости Харджиеву: оценочная стоимость наследства? с кем на паях? и т.п.
Короче говоря, у Дуганова были ответы, у меня не было вопросов.
— Николай Иванович говорит, что всё плохо.
— Всё-всё?
— Всё-всё.
Вот не зря Роман Валентинович любил пригвоздить поговоркой: врёт, как очевидец. Всё было не так: и Май не давал задания прощупать преемника, и разговор этот случился пару лет спустя. Но таки случился.
Вот я со своей больной головой в третий раз на улице Победы, и Дуганов сообщает мне потрясающую новость: всё плохо.

Всё. Всё. Всё. Беспроглядный мрак. С точки зрения Николая Ивановича Харджиева.
Так я впервые узнал об этом человеке. Май Митурич словечка не проронил. Вдруг я ринусь знакомиться на свою беду.
Разумеется, не с порога победительный Дуганов ставит меня на точку зрения Харджиева. Отчётливо помню, как выскочил из тапок возражать. Чудом кожа на кресле не лопнула. Кафрский буйвол, наверное. Или бегемот. Да и сам я уцелел только потому, что не курю: насмерть бы задохнулся дымом от возмущения.
С какой стати всё плохо, ничего подобного. Дополна хорошего. Хлебникова издали в Элисте, с ума сойти. Не жизнь, а сказка.
Собеседник выбил трубку, с клокочущим свистом её продул и закруглил разговор. А вскоре и меня закруглил за скобки тапочек и кресла. Сей воевода набирал под свою руку дружинушку хоробрую, а я прегадко держу строй. Зачем такие бойцы, не надо.
Итак, первое, что я узнал от людей о Харджиеве, говорило не в его пользу: нытик. Упадничество заразная болезнь, следует остерегаться переносчиков. Лично мне розовые очки кажутся полезнее чёрных, особенно в сумерки. Вот почему, прознав о Николае Ивановиче Харджиеве, я не воспылал желанием свести с ним знакомство.
Нытик, зато каково низкопоклонство малых сих. Даже раболепие. Слыхали б вы придыхание Дуганова, когда он говорил о мэтре.
В. Молотилов. Корабль из чужих досок. Правда и ложь Николая Харджиева.
А теперь подробность, таимая до сего дня: мой провал на вторых по счёту посиделках у Дуганова. Невероятно тягостная подробность, вроде самодельного Парниса у каменной бабы.
Вот как было дело. Прививаясь к Дуганову (опыт удался) я, среди прочего, бегло прошёлся по сокровищнице Иры с Маем. Ненавязчиво похвастал осязанием этой вот рукой пера Велимира Хлебникова, шеей туда-сюда подвигал как бы ненароком: дарёный Маяковским галстук, извольте знать, примерял. Дуганов, повторяю, покамест с Митуричем только перезванивается. И вот он эдак насупился (завидует, подумалось), колыхнул гривкой Малевича (дошло-таки через сорок лет) и говорит:
— У Митурича убыль.
Повторяю, хлебниковского пера, галстука и кукол он, в отличие от меня, в глаза не видывал.
— Убыль?
Но вопрос повисает в воздухе, и разговор переводится на дивную акварель Фонвизина за стеклом книжного шкафа ближнего доступа (хлебниковская картотека, выяснилось в дальнейшем).
Должен я донести Маю? Ещё бы. Май выслушал и пробурчал в бороду:
— Всё на месте.
А теперь прошу любить и жаловать сороку-переносчицу: договорился с Дугановым о встрече и с порога воспроизвожу маево бурчание.
Дуганов прямо позеленел. Позеленел и чеканит (и так-то каждую запятую выговаривал с оттяжкой):
— Я. Надеялся. На вашу. Скромность. Вы. На волосок. От утраты доверия.
Напоминаю, о ту пору ни о каком Харджиеве я понятия не имел. И убыль архива понял как недогляд Мая, даже с переводом стрелок на меня: сокровища спрятаны под лежанкой, Володя на ней задолбал свои храпом. Храпит, а сам аки тать в нощи. Возможно такое? Ещё как возможно. И кто громче всех кричит держи вора?
Уже задним числом, годы спустя, дошло: Дуганов не просто заметил убыль хлебниковских рукописей, а за руку поймал. Кого?
Я в эти угадайки не игрок от слова совсем. Куда безопаснее назидать младую поросль: если вам угрожают, лучше сразу поверить и принять меры. Прекратить знакомство, например. Но я был молод и самонадеян. Впрочем, Дуганов довольно долго не подавал виду, затаил. Все, до клочка, его разгонистые письма я отослал в астраханский музей семьи Хлебниковых, и кончим этот разговор.
Кончили, переводим стрелки на запасной путь:
— Май Митурич дал для работы Николаю Ивановичу рукописи Хлебникова. Харджиев долго их не отдавал. К нему пришёл Май. И он, передавая ему рукописи, один документ взял и — „А это не должно существовать!” — в присутствие Мая порвал его. Поразительно, но факт, который я сам слыхал от Мая Петровича.
Из фонограммы документального фильма «Харджиев. Последний русский футурист» (2020).
Или такое свидетельство:
ЦГАЛИ. Нам с НИ дали отдельную комнату, в ней светлее и спокойнее. Давно ведь просили. Но зато гроссбух Хлебникова сдали в хранение. Как объяснила сотрудница рассвирепевшему НИ: „Это уникальная рукопись”. На что НИ сказал, что Хлебников весь уникален.
Харджиев. Разговоры / Публикация и примечания — Ильдар Галеев // Знамя, №12. 2023
Рассвирепел Николай Иванович вовсе не потому, что разоряют его личное собрание: сотрудница ЦГАЛИ после многократных, надо полагать, напоминаний решила вплотную заняться возвращением взятого на дом рукописного Гроссбуха (1919–1921). Баш на баш: отдельное помещение (давно просили) на Гроссбух (давно просим). И чего, спрашивается, лезть на стенку?
Или вот ещё:
Сначала перегрызлись современники, разделившись на два лагеря, в центре которых оказались Маяковский и Митурич. Затем их сменили два Николая — Степанов и Харджиев. Первый был мягок, доброжелателен и невероятно работоспособен: с огрехами, но в рекордные сроки издал пятитомник Хлебникова (за что и поплатился чёрной благодарностью потомства).

Второй ‹...› в своей охране памятника не признавал никаких моральных запретов. Поэтому не гнушался и прямых доносов. Нет-нет, он строчил не в карательные органы, а в поместья гораздо более “изящные”. Всяк посягнувший на Хлебникова сталкивался с письмами Харджиева, направленными в архивы, издательства, музеи (там они и сберегаются до сих пор). С живыми носителями каких-либо сведений о Хлебникове было и того проще: они получали от вездесущего Николая Ивановича безапелляционную аттестацию любого конкурента как сексота. Чем яростнее новоявленный “хлебниковед” пытался смыть пятно подозрений и оправдаться перед запуганными “информантами”, тем гуще сплеталась паутина наветов. Биография Хлебникова написана не была, а сам девяностолетний Харджиев одиноко и безнадёжно глупо закончил жизнь в роскошной амстердамской яме, которую неустанно рыл другим. ‹...›
Пётр Николаевич Вербицкий, морской офицер, длительное время бывший редактором знаменитого «Морского сборника», имел обширную библиотеку, которой пользовался и его племянник. Сам же поэт о ту пору имел явно выраженные государственнические воззрения, печатался в сборнике “академистов” (студентов-монархистов), фотографировался под парадным портретом царя-батюшки, написал пьесу «Снежимочка» (с шовинистическим и черносотенным уклоном). И вообще имел вид вполне благонадёжного буржуа, пекущегося о защите Отечества от инородцев. До предземшарства было ещё далеко. Кстати, Роман Якобсон припомнил, как предусмотрительный Харджиев уничтожил компрометирующее фото (что не помешало вездесущему Парнису разыскать его в другом месте).
Г. Амелин, В. Мордерер. Усадьба судьбы // Письма о русской поэзии. М.: Знак. 2009.
О Николае Леонидовиче Степанове (1902–1972) у Лилии Васильевны Вьюгиной извещают вскользь и влживь: издал очень плохое собрание сочинений, поделом звали Стёпкой. Во-первых, Степашкой. Во-вторых, “неистовый грек” умел размазать по стенке куда более тонким слоем. Простой пример: Трупарнис из «Бумажного человека» той же Лилии Васильевны. И тебе трупарня слов (Хлебников) и трупёрда (Ильязд). Отгадчик неизбежно вырастает в собственных глазах, не так ли. Вот он растёт и растёт, задирает нос и задирает, а щёки-то, щёки: вылитый Диззи Гиллеспи! Подходит мальчик, сглатывает соплю и гугнявит:
— Товагьищ Гулливегь, а стенка-то говогьящая!
Называется образное заострение. Заострили, но вопрос как был тупым, так тупым и остался: а вы могли бы эдак, наотмашь, окатить себя гноем чужой души? Нет? Гордынька? И самозабвение Парниса не ввергло в духоподъёмный столбняк? Труба ваше дело, парни.
Но что я о плохом да о плохом. Где хвалёное отрицание отрицания? Извольте: 1940-й год. Три подарка судьбы, два из них лично Николаю Ивановичу: приём в Союз писателей и согласие Эммы Герштейн (1903–2002) разделить с ним ложе.
Третий подарок — включая нас, человечество:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения. Поэмы и стихи: редакция и комментарии Н. Харджиева. Проза: редакция и комментарии Т. Грица. М.: ГИЗ «Художественная литература». 1940. 490 с. Из выходных данных: переплёт и фронтиспис худ. В. Татлина. Тир. 5000. Сдано в набор 19 XI 1938 г. Подписано к печати 5 июня 1940 г. Уполн. Главлита А-27002.
Оставляем раскрытие А-27002 доброхотам помоложе и любопытствуем: посредством чего (заслуги? заручки? за красивые глаза?) Николай Иванович Харджиев сумел пробить это издание.

орогой Давид Давидович!
Посылаю Вам номер «30 дней» с неизданными письмами Хлебникова.
Я сейчас заключил договор с изд. «Советский писатель» на книгу «Неизданный Хлебников». Туда войдут стихи, статьи, проза, письма. Книга выйдет в начале 36 года. К книге я хочу приложить воспоминания о Хлебникове. Поэтому просьба к Вам — пришлите Ваши воспоминания. Можете писать их в какой угодно форме, хотя бы в форме письма ко мне.
Кроме того, у меня к Вам ряд вопросов: 1. Знал ли Хлебников французский язык, и как он относился к Рэмбо? 2. Не помните ли Вы его высказываний об Уитмэне и о Метерлинке? 3. Что представлял собой Надя Николаева и как к ней относился Хлебников?
Пришлите воспоминания возможно скорее. В связи с 50-летием со дня рождения Хл-кова их можно будет напечатать предварительно в журнале.
Кончаю большую статью о прозе Хлебникова и недели через две еду отдыхать к Васе Каменскому. У него новая усадьба, оранжереи, лодки. В Москве он почти не живёт.
Привет Марье Никифоровне. Жду Вашего письма и воспоминаний.
Всего доброго,
Т. Гриц.
10/VIII 35.
Евгений Деменок. Давид Бурлюк и Николай Харджиев. Фрагменты переписки
https://zerkalo-litart.com/?p=12727#_ftn10
Как видим, Теодор Соломонович Гриц (1905–1959) — свой человек в ежемесячнике «30 дней» и более чем вхож в издательство «Советский писатель». Где по причинам, которые предстоит выяснить доброхотам из числа въедливых, договор с ним на «Неизданного Хлебникова» расторгают. Времена самые постные, но плохо вы знаете Тэди Грица: есть места, где он свой не покурить в одну пепельницу, а угоститься.
Каменка, 23 июля 1928.
Любимец мой Количка,
Соня (Софья Григорьевна Трущёва-Гриц, двоюродная сестра Каменского. — В.М.) ещё осенью вышла замуж за молодого учёного критика Теодора Гриц (еврей), и живут-поживают они в Москве. Гриц пишет сейчас книгу «Книжная лавка Смирдина» (товарный период литер. пушк. эпохи). Тэди Гриц очень славный парень. Ему 25–26 лет. Кончил бакинский университет (филолог). Печатается в журнале нашем «Леф». Полемизирует с профессорами лит-ры. Заработывает, как и все молодые учёные, слабо. В этом смысле я рад, что не являюсь молодым учёным.
Василий Каменский. „Мне пора быть с вами в Нью-Йорке…” Письма к Николаю Евреинову.
Публикация, вступительная заметка, подготовка текста и примечания О. Демидовой // Звезда, 1999, №7.
Свояк свояка видит издалека: Василий Васильевич шлёт ГИЗу электропоцелуй, и дело в шляпе.
Сказка ложь, да в ней намёк: летом в поместье Васи Каменского набивается неисчислимая родня. Сорогой да подъязками не отделаешься. Рябчики? Мазила ещё тот. И что, держать гостей впроголодь?
Плохо вы знаете Василья, товарища веселий: выписывает Соню с Тэди. Сам удит, Соня обирает земляничные угоры, Тэди бродит с ружьём по лесам-перелескам. Располным-полна моя коробушка, поют сытые отдохновенцы. У Тэди так: восемь дробинок — восемь тетёрок, пуля — сохатый, рогатина — медведь.
Между тем, Николай Иванович Харджиев въезжает в первачи хлебниковедения. На белом коне? на подножке? на фу-фу? Разбираться недосуг, ибо подсаживаемся к Эмме Григорьевне Герштейн: чайком не угостите?
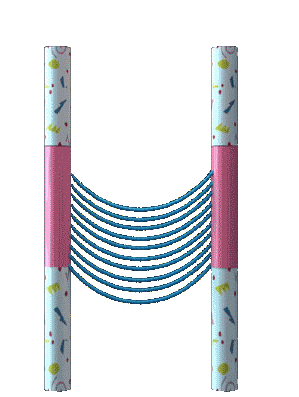
иколай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: „Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам”. Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.
Приехала я к нему с шуткой насчёт того, что, получив подтверждение его привязанности ко мне, я меняю своё поведение. „Да, — отвечал он мне в тон, — вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель. А из него вынимаете корректуру, которую я должен читать”. И это было истинной правдой. В то время я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдётся поверх текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день.
Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янычар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру В.А. Фаворского, помещённую на фронтисписе этой книги, с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора: „Эммма! (так! —
В.М.) Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу — вещь пострадала бы. H.X. 25.XI.39”.
Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений В. Хлебникова. Как часто я слышала его ликующий голос, когда, быстро переходя своей лёгкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова:
В пеший полк 93-й,
Я погиб, как гибнут дети...
или:
Я чёрный ворон,
Я одинок... Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов:
Россия, хворая, капли донские пила
Устало в бреду.
Холод цыганский
А я зачем-то бреду
Канта учить
По-табасарански.
Мукденом и Калкою,
Точно большими глазами,
Алкаю, алкаю.
Смотрю и бреду,
По горам горя
Стукаю палкою. Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. ‹...›
Надежда Яковлевна тоже считала важным предварить поток сплетен живыми рассказами людей, близко знавших и любивших Осипа Эмильевича.
К их числу она справедливо причисляла и меня. Правда, начиная со своей «Второй книги» она отняла у меня эту роль и заменила её другой, но это произошло после того, как я с ней навсегда порвала отношения в 1968 году из-за её наветов на Николая Ивановича Харджиева.
Эмма Герштейн. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС. 1998. С. 276–278, 415.
Во-первых, к тому времени пеший полк уже семнадцать лет известен “левой” общественности как дважды два четыре:
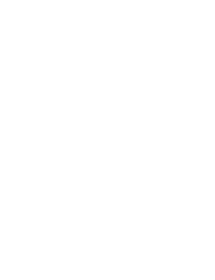
ерез две недели получаю открытку из Царицына. Писал Хлебников: —
Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову.Я так и ахнул. Хлебников, — солдат запасного полка в Царицыне? Пошёл, сказал кое-кому, покрякали, покачали головой да тем и ограничились. Пошёл я к Золотухину, отдал ему свою какую-то украинскую думку, взял 15 руб. и отправился с тем в
пеший полк девяносто третий.
1 мая приехал. Полк, говорят — в лагерях, верстах в двух от города. Было воскресенье, день парада. Ходят взад и вперёд по площади в одну десятину, целым полком топчутся на месте, выкидывают коленками. Насчитал я вторую роту. Вглядываюсь: где выкидываются бедные коленки Хлебникова?
Знает ли он, что кто-то тут ищет и жалеет его.
Вспомнилась мне сцена из «Тараса Бульбы», хотелось крикнуть: „чую, чую”...
Кончился парад. Пошёл я по палаткам. Нашёл вторую роту, ротного, взводного:
— Где Хлебников?
— Выбыл, дескать, в чесоточную команду. Это в другом конце города.
Пошёл по адресу. Какие-то бараки кирпичного цвета. Из окна высовываются солдатские усы, кричит: „Вы к Хлебникову?”
Это меня озадачило: — Почему вы думаете?
— Брат что ль яво?
— Брат, говорю.
— Я и то смотрю — сразу видно. Схожи.
Сходства меж нами не было, разве рост и цвет глаз.
Понадобилось обходить постройку. Ему уже, очевидно, сказали. Виктор Владимирович шёл ко мне через двор, запихивая что-то в рот, и закрывая рот и ложку левой рукой. Обрадовался, и так, не спросясь ни у кого из начальства, пошёл со мной. Я тоже обо всем этом позабыл, так был я потрясён его видом: оборванный, грязный, в каких-то ботфортах Петра Великого, с жалким выражением недавно прекрасного лица, обросшего и запущенного. Мне вспомнилось:
Король в темнице...
Мы шли к гостинице, где я снял комнату.
Прохожие почему-то оглядывались и улыбались. Я осмотрел себя и Велемира. Оказалось, ложка с белой не выеденной кашей тщательно была спрятана Велемиром за спиной, он держал её в загнутой назад руке. Я вынул её осторожно, чтобы не возбудить его внимания и сунул себе в карман.
Он был без фуражки. У меня нашлась лишняя шляпа. Мы купили земляники и ели её с молоком и чаем.
Я привёз много новых книг с его стихами, в том числе «Московские Мастера», «Четыре птицы» и пр. Он жадно на них набросился, лицо его преобразилось, это опять был прежний мастер Хлебников.
Дм. Петровский. Повесть о Хлебникове. ЛЕФ. 1923. №1
Во-вторых, белый ворон влетел в ухо читателя десятью годами ранее, трудами проклятого Степашки:
Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. С. 111.
С венком из молний белый чорт
Летел, крутя власы бородки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сковородки.
Он говорил: „Я белый ворон, я одинок,
Но всё — и чёрную сомнений ношу
И белой молнии венок
Я за один лишь призрак брошу,
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра”.
В-третьих, „наветы” Надежды Яковлевны — законное право свидетельствовать о муже так, как ей угодно, а не плясать под чужую дудку. Скажу крамольную вещь, но скажу: Харджиев — Сталин от изящной словесности. Что сказал Иосиф Виссарионович Надежде Константиновне? Будете возражать, назначим вдовой Ленина Коллонтай.
Перекликается назначение вдов с назначением наследников? Отчасти да. Стало быть, возвращаемся к загнанному под камень (кем? терпение, мой друг) Роману Валентиновичу Дуганову.
Потом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Николаю Ивановичу. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Радзишевский, которые до последнего дня работают в “Литературке”. Николай Иванович был в восторге от Дуганова — „он замечательный”, но постепенно он начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает никак. А потом пошла критика Дуганова как личности — оказалось, что он живёт с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и что это брак по расчёту. Очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нём отзывался в начальный период Николай Иванович — он считал его достойным преемником его работы по Хлебникову.
На фоне всех ревизий века. Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Эммой Герштейн
Радзишевского в “Литературке” знаем. С моей подачи наведался в Астрахань (о подготовке воззвания см. гл. «Дикие дрожжи науки»), и отчитался подобающе. Дуганов-газетчик? Впервые слышу.
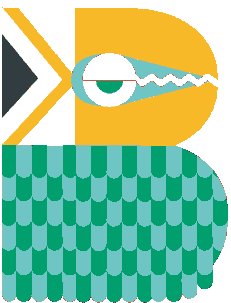
Гнесинском же институте некоторое время (в 1980-е годы) преподавал и Р.В. Дуганов.
Вот как я о нём узнала.
Как-то один из студентов, выслушав моё суждение об «Алмазном венце» Катаева, сказал с нажимом: „А вот Дуганов…” — неизвестный мне Дуганов считал иначе. Через некоторое время студентка, которая стала пропускать занятия, сказала, что наш урок совпадает по расписанию с очень интересными лекциями по литературе, и предложила пойти послушать: на этот раз мы прогуляли наш урок вместе.
Так вот, лекция, на которую я попала, была посвящена русскому авангарду. А следующая за ней — Хлебникову. (О Хлебникове к этому времени мне была известна лишь легенда следующего содержания: он был гений, предсказал свою смерть, перед смертью уехал неизвестно куда, и никто не знает, где он похоронен.)
Впечатление и от материала, и от качества лекций было очень сильным. Поэтому, начиная со следующего учебного года, я прослушала от начала до конца оба курса Р.В.: по истории русской литературы и по теории литературы. И стала его ученицей — Дуганов “завербовал” меня в хлебниковеды, чтобы осилить “дэлямюзик” у Хлебникова (к этому времени хлебниковедами стали арабист М.С. Киктев, физик А.Т. Никитаев…). Я как-то сказала: „Вы ловите человеков на Хлебникова, как рыбу на хлеб”. Р.В., после некоторой паузы, ответил глубокомысленно: „Рыба на хлеб хорошо клюёт”.
Занятия проходили так: мы “курили” на лестничной площадке — Р.В. курил и слушал, я докладывала и выслушивала, что скажет Р.В.; потом таким же образом стали общаться по дороге от института (он у Никитских ворот) к метро «Пушкинская» — этот маршрут сохранился и когда Р.В. стал работать в ИМЛИ (это напротив Гнесинского института).

Вначале я просто училась читать Хлебникова, потом начала писать статьи: каждая из них проходила “экспертизу” Р.В.
Иногда он сам предлагал мне задания — на первый взгляд, совершенно невыполнимые. Как-то по телефону он сказал мне про «Ангелов»: „Я уверен, что это — симфония. И не просто симфония, а какая-то конкретная” (подразумевалось, что симфония эта — по-видимому, русская).
И вот я послушно побрела в нотный отдел Ленинской библиотеки. Выписала кучу нот (благо, русская симфоническая традиция ко времени появления «Ангелов» была исчислимой). Безнадёжно перелистываю партитуры. Дело доходит до «Божественной поэмы» (3-й симфонии) Скрябина. И тут картина меняется. Я словно слышу голос чтеца, который (в качественной советской манере) под музыку «Божественной поэмы» читает «Ангелов». Совпадало одно с другим до смешного: к примеру, у авторских ремарки в партитуре «Божественной поэмы» оказались те же корни, что и у ключевых неологизмов в «Ангелах».
Последнее задание Р.В. — сформулированная им тема моего доклада: «Музыкальная культура Хлебникова» — меня озадачило. Какая-то шарада. Трудно было принять такое построение как своё. “В отместку” я начала доклад с того, что проанализировала предложенную мне тему как цитату из Дуганова. Р.В. слушал и улыбался. После доклада он сказал: „Лариса Львовна рассердилась, поэтому ей было легко справиться с таким заданием”.
Это был итог всех моих многолетних трудов над темой “Хлебников и музыка”. А итогом трудов над музыкальной темой в русской поэзии начала ХХ века стала посвящённая памяти Р.В. Дуганова, моего наставника в делах литературных на протяжении многих лет, книга «Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия ХХ века)».
М.: Индрик, 2001.
Персональная страница Ларисы Львовны Гервер на Хлебникова поле
А теперь о том, каким образом Николай Иванович Харджиев выяснил, что преемник его хлебниковских наработок не вытягивает: ни остроты, ни пронзительности.
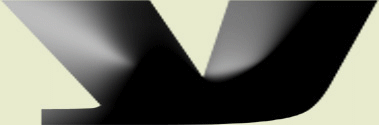 меня предвзятый подход к людям.
меня предвзятый подход к людям. Не ко всем, только к археологам.
Я считаю археологов прекрасными людьми. Всех.
Потому что знал только одного — Георгия Борисовича Фёдорова.
Он обкатывал на мне свои былины. Богатырский эпос ХХ века «Неимей Сторублей».
Главы о бесстрашных землекопах я слушал, затаив дыхание.
Потому что мог о ту пору затопить стихами всю Россию, как Некрасов.
Всё это читал Георгий Борисович. А потом рассказывал про бесстрашных землекопов.
Другого способа телесного пропитания может не оказаться, Володя.
И тогда всадят в погреба за тунеядство.
А к рабочему раскопа не прикопаешься. У него законный отпуск.
Бесстрашного землекопа Илью Габая отпели
в православном храме, в синагоге и в мусульманской мечети.
Потому что у Фёдорова отказало сердце, и раскопки пришлось выбросить из головы.
А Илье Габаю после тюрьмы отказали везде. И он выбросился из окна.
Принимал Никита Владимирович Анфимов изгоев рабочими раскопа? Не знаю.
Лазарь Львович Полевой, Павел Петрович Бырня, Исаак Александрович Рафалович — принимали.
Поэтому у меня предвзятый подход к археологам.
Археологи не имеют права хранить золото у себя дома. Золото сдают в Эрмитаж.
Захочешь полюбоваться — договаривайся с Пиотровским.
Никита Владимирович Анфимов хранил золото у себя дома.
Золотые трупики веток.
Так называл Велимир Хлебников бумагу с письменами.
Бумагу с буквами Велимир Хлебников называл простынями лжи.
Хранимые на Кубани рукописи Велимира Хлебникова долго ждали понимающих людей.
Их была горстка, знатоков. Зато каких.
Николай Иванович Харджиев один стоил синклита мудрецов и сейма проницателей.
Хрущёвская оттепель обманула надежды понимающих людей:
после карманного издания в 1960-м — молчок до элистинской книжицы в 1984-м.
Поэтому золото Кубани было условной пробы.
Смотря как условишься. Смотря с кем.
Государство не даст ломаного гроша, частное лицо — хорошие деньги.
Чтобы перепродать за очень хорошие деньги.
Это на родине Хлебников гонимый, в граде на холме — совсем даже наоборот.
Понимающих людей раздражал успех людей с очень хорошими деньгами.
— Хлебникова нельзя отдавать на откуп западным барыгам, — говорил Ю.М. Нагибин.
— Почему только западным, — возражал я почти вслух.
Ибо знал от верных людей, что Парнис выискивает рукописи Хлебникова
для беспечального благоустройства в граде на холме. Вывезет и продаст.
Парнис действительно побывал в граде на холме. На съезде славистов.
Когда воротился, пространством и временем полный,
архив Абиха был уже продан.
Рудольф Абих — самый пристальный сослуживец Хлебникова в персидском походе.
Называйте наитием или чутьём ищейки, но Парнис точно указал,
где спрятаны заметки Абиха: в чулане под курятником.
А владелица чулана имела кругозор.
И Парнис рванул в Краснодар. Оказалось, и тут опередили.
Никита Владимирович Анфимов был бессребреник.
Сколько стоит рукопись Хлебникова, его ничуть не занимало.
Облапошить такого — милое дело. Отдаст за спасибо.
Он так и поступил, когда за Хлебниковым пришли.
Поступил наилучшим образом. Нам, человечеству, крупно повезло.
Повезло наотмашь: золото Кубани увёз гонец, а не властелин.
И одарил этим золотом нас, человечество.
И властелин проклял его за глумление над правом первой ночи.
Он предполагал всласть натешиться, а потом ссыпать это золото в сундук: целее будет.
Сотни две таких сундуков властелин задумал переправить
в надёжное место, в Нидерланды.
Где всё окружено дамбами.
Это вам не Москва, третий Рим. Или второй, по мнению Гитлера, Китеж-град.
В. Молотилов. Золото Кубани.
Никита Владимирович Анфимов (1909–1998) — сын и внук знаменитых психиатров Якова Афанасьевича (1852–1930) и Владимира Яковлевича (1879–1957) Анфимовых. В узком понимании славы Анфимов-дед первенстсвует: прах его покоится в Дидубе, Пантеоне выдающихся грузинских деятелей; известность Владимира Яковлевича более раскидиста: поделился (1935) наблюдениями над В. Хлебниковым. Стрелочник на путях встречи Прошлого и Будущего явился в харьковскую дурку с направлением от белогвардейских врачей на освидетельствование, прекрасно зная, как себя вести: третья по счёту ходка за справкой о непригодности к человекоубийству. Уловки этого не просто хитрюги, а хитрюги прожжённого, изощрённейшего (правдопобие прежде всего) какие-то сырохваты поспешили объявить свидетельством распада личности. Сырохваты, чтобы не сказать недоумки. Не сказал? Не сказал.
В Записках В.Я. Анфимова читаем:

процессе экспериментально-психологического исследования я для изучения способности фантазии дал своему испытуемому три темы: охота, лунный свет и карнавал. В результате у меня оказалось три оригинальных произведения крупного художника слова, хотя и отмеченных печатью болезненного творчества. На первую была написана оригинальная сказка о зайце. Вторая тема явилась поводом для странного произведения, отмеченного, так сказать, кабалистическими увлечениями поэта. Третья тема даже вызвала к жизни небольшую поэму ровно в 365 строк. Автор выполнил её со свойственной ему виртуозностью в версификации, и указывает на это в следующих строчках:
Сколько тесных дней в году, стольких строчек стройным словом я изгнанниц поведу по путям судьбы суровой. В оригинале, которым хранится у меня, эта поэма так и называется «Карнавал», и заканчивается ценным для меня посвящением. Как оказалось впоследствии, она была напечатана в собрании сочинений поэта под заглавием «Русалка». Во всяком случае, литературоведу, изучающему творчество Хлебникова, вероятно, будет небезынтересным узнать, как возникло это произведение. Что касается двух других, о которых я упоминал выше, мне неизвестно, чтобы они были напечатаны, и я позволяю себе их привести полностью, как образец патологического творчества. У меня имеются ещё три произведения поэта «Горные чары», «Лесная тоска» и «Ангелы».
Анфимов В.Я. В. Хлебников в 1919 году. К вопросу о психопатологии творчества
«Лесная тоска» и «Горные чары» воспроизведены в степановском пятитомнике по Гроссбуху; поэму «Ангелы» Хлебников в него не вписал: неизвестное произведение. Самому съездить в Краснодар было недосуг, и Харджиев послал Дуганова: одно дело делаем.
О ту пору спаситель Хлебникова от военщины присоединился к большинству, и Дуганов обратился к его сыну. Никита Владимирович вошёл в положение до такой степени, что разрешил изъять подлинники. С оговоркой: замените фотоснимками. И Дуганов обнародовал «Ангелов» в «Дне поэзии» за 1982 год, не преминув сдать рукопись в ЦГАЛИ. Сабуровский извод «Горных чар» он придержал до лучших времён, и напечатал стихотворение уже Е.Р. Арензон. Почему Арензон придержал сабуровский «Карнавал» — вопрос не ко мне.
Откуда я знаю про снимки? От И.В. Ченикова (1940–2022). Был настолько любезен, что посетил краевой архив и вытребовал единицу хранения Никиты Анфимова (на дворе 2006 год). За нашей вознёй с неослабным вниманием следил Александр Ефимович Парнис: а кроме архива? а Игорь Анфимов? Немедленно знакомиться, прыжками!
— Толку-то, — докладываем, — у Игоря пусто.
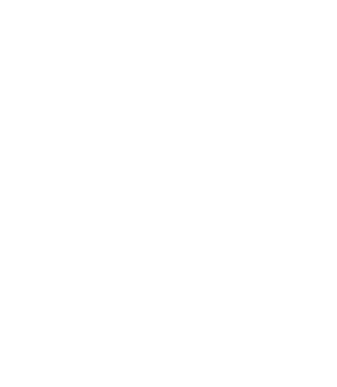 нфимовы появились в моей жизни почти одновременно, в 1983 году. Двое, оба из Краснодара. Родственники, подумал я. Догадка подтвердилась двадцать три года спустя: И.В. Чеников растолковал в подробностях, кто кому и кем приходится. Разнообразные достоинства неутомимого просветителя моего включают заповеданную Пушкиным любовь к отеческим гробам, к родному пепелищу. Любовь деятельная, подход — научный. Краеведы жмутся в сторонке, архивны юноши стонут от зависти, и вот уже Александр Ефимович Парнис называет рождённую во всеоружии, как Афина из головы Зевса, отрасль знания анфимоведением. Надобно встрепенуться и нам, современникам первопроходца.
нфимовы появились в моей жизни почти одновременно, в 1983 году. Двое, оба из Краснодара. Родственники, подумал я. Догадка подтвердилась двадцать три года спустя: И.В. Чеников растолковал в подробностях, кто кому и кем приходится. Разнообразные достоинства неутомимого просветителя моего включают заповеданную Пушкиным любовь к отеческим гробам, к родному пепелищу. Любовь деятельная, подход — научный. Краеведы жмутся в сторонке, архивны юноши стонут от зависти, и вот уже Александр Ефимович Парнис называет рождённую во всеоружии, как Афина из головы Зевса, отрасль знания анфимоведением. Надобно встрепенуться и нам, современникам первопроходца.
«Первый велимировед» — краеугольный камень, на котором какой-то псих уже накарябал: „Всё тайное станет явным!” Я же и накарябал? Едва ли: не выношу восклицательных знаков. Г.А. Левинтон говорит, что Хлебников привлекает душевнобольных. Возможно. Лично меня привлекают «Заметки о Хлебникове» Г.А. Левинтона. А вот перечитывать заметки психиатра В.Я. Анфимова не тянет: В. Хлебников представлен в них образчиком Dejeneré supericur. При этом сам В. Хлебников считал В.Я. Анфимова не врачом, а сумасшедшим. Ибо неоднократно заявлял, что иных, кроме себя, врачевателей душ — что в Сабурке, что за её стенами — не видит. И посвятил врачу, дабы исцелился сам, поэму якобы в 365 строк. Это была проверка на вменяемость. Вменяемый человек первым делом пересчитает строки. Врач поверил на слово. Потомки пересчитали — 458. Теперь о признании своих заблуждений, важном показателе душевного здоровья. Делается так. Хлебников не считал В.Я. Анфимова сумасшедшим. Совсем наоборот. Задним умом, но с тем бóльшей охотой признаю: В.Я Анфимов обладал подлинным величием, а не манией такового. Хотя бы потому, что в своих записках назвал весьма ценным для него посвящение, но почему-то его не воспроизвёл. А вы бы смогли удержаться?
А вот перечитывать заметки психиатра В.Я. Анфимова не тянет: В. Хлебников представлен в них образчиком Dejeneré supericur. При этом сам В. Хлебников считал В.Я. Анфимова не врачом, а сумасшедшим. Ибо неоднократно заявлял, что иных, кроме себя, врачевателей душ — что в Сабурке, что за её стенами — не видит. И посвятил врачу, дабы исцелился сам, поэму якобы в 365 строк. Это была проверка на вменяемость. Вменяемый человек первым делом пересчитает строки. Врач поверил на слово. Потомки пересчитали — 458. Теперь о признании своих заблуждений, важном показателе душевного здоровья. Делается так. Хлебников не считал В.Я. Анфимова сумасшедшим. Совсем наоборот. Задним умом, но с тем бóльшей охотой признаю: В.Я Анфимов обладал подлинным величием, а не манией такового. Хотя бы потому, что в своих записках назвал весьма ценным для него посвящение, но почему-то его не воспроизвёл. А вы бы смогли удержаться? Посвящаю дорогому Владимиру Яковлевичу,
внушившему мне эту вещь прекрасными лучами своего разума, посвящённого науке и человечеству.
Что до недоразумения с числом строк, то разгадку даёт сам Хлебников: спустя два года имел мужество перечитать «Карнавал». Перечитывают книгу или письмо, рукопись, наконец. Рукопись «Карнавала» изъяли в харьковской дурке, не беда: память подводила Хлебникова только в тифозном бреду. Имел мужество извлечь, почеркался, дополнил, перебелил в Гроссбух. Таких людей, как В.Я. Анфимов, следует не просто ценить — их нужно тщательно изучать: кого попало Хлебников не назначит своим первым исследователем. Воздадим должное проницательности охотника скрытых долей: спешно покидая осенью 1919 года Харьков, доктор Анфимов не забыл прихватить с собой изъятые рукописи. Он даже сына десяти лет обуть по-зимнему не успел: Степан Саенко уже потирал руки в предвкушении воспитательной работы с недобитками (извлечение глазных яблок приветствуется). Перепечатку (без единой ошибки) статьи В.Я. Анфимова «В. Хлебников в 1919 году» прислала мне Лариса Класс-Фесенко, книгу Н.В. Анфимова «Из прошлого Кубани» я откопал самостоятельно. Прошлое Кубани занимало меня в ту пору ничуть не меньше будущего Велимира Хлебникова.
Подозреваю, что в Перми я оказался единственным читателем выпущенной в 1958 году Краснодарским издательством книжки местного археолога.
Во всяком случае, единственным пристрастным читателем.
Пристрастность заключалась в несогласии с преувеличением значения т.н. низовых (не горских) подразделений адыгов и замалчиванием абхазо-адыгского языкового единства.
Впрочем, последнее обвинение надумано: протоабхазо-адыгский язык трудами лингвистов восстановлен много позже выхода в свет «Из прошлого Кубани».
Есть мнение, что протоязык Северо-Западного Кавказа близок языку хатти, древних насельников Передней Азии. Их поглотила волна пришлых индоевропейцев, причём новосёлы присвоили имя туземцев. Напрашивается предположение о переселении части уцелевших и вольнолюбивых на Кавказ.

Беглецы унесли с собой высокие по тем временам понятия и познания: хатти имели развитую письменность и считаются изобретателями сыродутного способа выплавки железа.
Язык хатти для Вяч.Вс. Иванова — отдохновение от индоевропейских изысканий. Он решительно сближает хаттский и древнеадыгский языки, поэтому я постоянно натыкался на его имя в трудах кавказоведов, после чего искал указанные ими работы. ‹...›
Итак, Вяч.Вс. Иванов сближает хаттский и северокавказские языки, а Шора Бекмурзин Ногмов считает антов имядателями адыгов. В Переднеазиатском сборнике III (
М. 1979. С. 102–103) находим хеттское antuhšaš ‘человек’ и хаттское an-tu-uh-ša-aš ‘человек’.
Из отрывка древнего сообщения, воспроизведённого Вяч.Вс. Ивановым, неясно, что это за человек. Есть подозрение, что не старец, поскольку был покаран за то, что посмотрел на женщину. Вспоминаем антигишао, ‘антского юношу’ изысканий Ногмова.
И последнее. В сборнике «Из истории феодальной Кабарды и Балкарии», (
Нальчик. 1980. С. 148) читаем: „‹...› в прошлом веке присяга “ант” происходила следующим образом. На земле чертили круг, посредине проводили две пересекающиеся линии — крест. Присягающий становился посредине круга на пересечение линий и произносил клятву”.
Крест в круге — знак солнца.
Это я к тому, что родовое прозвище первого велимироведа Анөимов некогда писали через фиту. Допустимо читать и как Антимов (ср.
кафолический /
католический).
Полагают, что Анөимовы от имени Анөим (покрытый цветами). На самом деле, т.е. согласно Шоре Ногмову и Вяч.Вс. Иванову, это самое что ни на есть коренное адыгское родовое прозвище, причём хаттского происхождения.
В. Молотилов. Первый велимировед
Вот эти-то древности Кавказа и развели меня с Дугановым. Вышли подышать. Он мне то-сё. Ни словечка не помню: всё сметено могучим ураганом.
После моего признания в постороннем увлечении.
— Благодарю за откровенность, — буркнул Дуганов и скрылся в тёмном переулке. Больше я его никогда не видел.
Но это последняя прогулка. Вот предпоследняя.
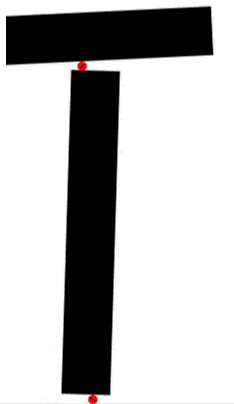
еоргий Борисович был драгоценный читатель, но мимоходом поминать его — всё равно что кукишем перекреститься, кощунство.
Дуганов же говорил: я пониматель, если пойму — мнения своего уже не меняю. Мнение Дуганова было такое: надеяться не на кого, разве что на Пермь да на Вологду. А ещё он мне сказал: вам надо меньше писать.
Некрасов признавался: дай он себе волю — затопил бы стихами всю Россию. Вот-вот. После пятидесяти эта горячка у меня прошла бесследно. Наверное, Бродскому тоже с годами прискучило подбирать созвучия: то ли дело эссе. Грибоедов предупреждал, что именно этим всё кончится. Именно этим: отрывок, взгляд и нечто.
До пятидесяти надо было ещё дожить, Лора. Не очень-то получалось. Только выкатился сороковник, и началось. Надо было спасаться. К молитве я только-только приступил. Невеглас называется. Не оглашенный, а невеглас — невежда в делах веры. В это безвременье вы с Дугановым здорово меня выручили. Если не бояться сильных выражений — спасли.
Сильных выражений от Дуганова я не слышал, слабых тоже. Вот уж не балаболка, не словоблуд. Речь его была особенная: он подсмысливал слово на выдохе. Неестественно до изумления. Прямо по Грибоедову: словечка в простоте не скажет. Простой пример:
— Лучше всех, — неестественно подсмысливает на выдохе Дуганов, — сказал один беспризорник: Бог есть, но мы его не признаём.
Ударения воспроизвести не берусь, куда мне. Вот мы с Дугановым вышагиваем по Реутову в предпоследний раз. Переулок, другой. Миновали Вивекананду c Рамакришной — заготовки Дуганова к именно этой прогулке.
Совершенно не в душу были эти Вивекананда с Рамакришной. У меня беда: жена загуляла. Двое детей, а жена загуляла напоказ: дома не ночует. Зачем это знать бездетному Дуганову, скажи на милость. Вдруг подумает, что намёк. Пустоцвет, и всё такое. И я мямлю полувопросительно: мы, дескать, ещё поживём и напишем.
И Дуганов тотчас откликается:
— В этом нет сомнения.
Уверенность Дуганова держала меня на плаву не год и не два.
В. Молотилов. Лора
Печатных изводов беседы (январь 1991) Ирины Врубель-Голубкиной с Харджиевым несколько, в наиболее полном читаем:
— Николай Иванович, а как вы пришли к Хлебникову?
— Я был лефовец, был связан с футуристами. Хлебников был для нас первым номером. Потом он очень плохо издан был. Я был занят текстологией, мне хотелось перевести его на русский язык. Он так искажён в пятитомнике, что там нет ни одного правильного текста. Моя цель была собрать неизданные тексты и дать установку для будущего полного собрания сочинений, которое, кстати, до сих пор не издано.
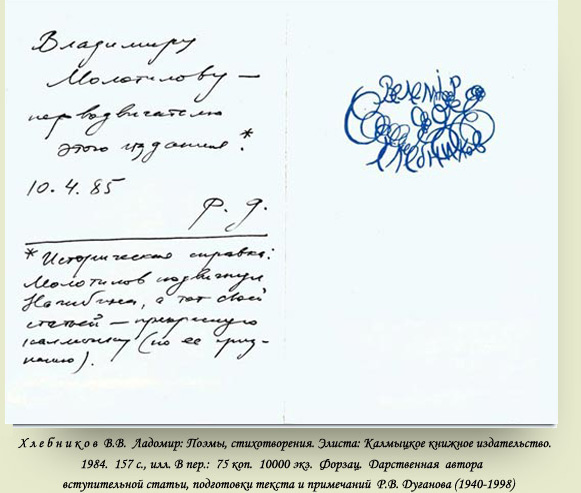
Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция.
— Почему это происходит?
— Это требует адской текстологической работы, кроме меня её никто не в силах сделать. Я работаю над этим много лет, но мне не дали возможности издать. Издательства не шли на мои условия, хотели издать что-то для читателя, а я хотел, чтобы вся моя текстологическая работа была видна. У меня готова вся хлебниковская текстология. Вы видите все эти папки — это всё хлебниковская текстология. Не установлены правильные тексты, текстологическая работа требует громадного знания материала. Но я боюсь, что мне не суждено это увидеть изданным.
„Будущее уже настало”. Беседа Ирины Врубель-Голубкиной с Н.И.Харджиевым
https://zerkalo-litart.com/?p=3816
Никуда не годные, мелкие, пропитанные торгашеским духом книжонки к столетию Велимира Хлебникова почти все изданы Дугановым. Была, кстати говоря, заявка С.Ф. Бобкова (род. 1948 г.) на однотомник в «Художественной литературе». Неудача, при тогдашнем его всемогуществе, удивляет. За разъяснениями следует обратиться к аферисту Парнису: входил к нему Сергей Филиппович с предложением соучастия или побрезговал? Чудовище хламиздата уже покрывало позором полубездарного лингвиста Григорьева в «Советском писателе», напоминаю.
Вопрос в другом: запись голоса Н.И. Харджиева — собственность Ирины Врубель-Голубкиной или фонодокумент? Собственность, говорят мне, до последнего апхчи. Трудно собственнице эту запись оцифровать? Трудно, и Лилия Васильевна Вьюгина сооружает салатик из кусочков магнитной ленты в фигасе. Давно живу, но такого благоутробия не припомню.
— Была попытка дать ключ к его вещам и правильно тексты опубликовать. И вообще мне хотелось бы всего Хлебникова издать! Тот материал, который я потом собрал — можно закончить тоже том новый «Неизданного Хлебникова»
— Но отчего же вы этого не делаете?
— Так, а кто? Никто не заключает договор ведь, абсолютное равнодушие! Рав-но-душие! Вы думаете, я не пытался?
Из фонограммы документального фильма «Харджиев. Последний русский футурист» (2020).
Что такое фигасе? Это когда Николай Иванович заявляет, что после выхода в свет «Неизданного Хлебникова» (1940) накоплено ровно столько же. Заявляет в добром уме и трезвой памяти, без нажима следователя НКВД. Никто. За язык. Не тянул. Возобновляю давешний вопрос: имел представление преемник Харджиева об оценочной стоимости его наработок?

Это не вопрос, а игра в поддавки. Преткновение в другом: как поведёт себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?
Таможенный досмотр выявил рукописи сомнительной принадлежности: хозяин клади оказался подставным лицом. Для выяснения ценности задержанного на место прибывают работники Ленинской библиотеки, ценность удостоверяется, кладь изымают в пользу РГАЛИ, где новоявленные рукописи Велимира Хлебникова исследует победительный Дуганов. Победитель получает всё, а именно: десятки неизвестных произведений Хлебникова с приложением их вычитки.
Стало быть, и это не вопрос. Так ради чего, спрашивается, копья ломать? Ради справедливости. Справедливо ли подозрение, что убылые (включая переданное М.П. Митуричем-Хлебниковым государству собрание) рукописи будут преемником Харджиева опознаны? И порванное на глазах того же М.П. Митурича-Хлебникова обнаружится целёхоньким?
Отставить. События развивались куда более прихотливо. А именно: подставное лицо раскрывает имя нанимателя. Таковым оказывается годом ранее переселившийся в Нидерланды Николай Иванович Харджиев. Переселенец опровергает наветы простым, как мычание, доводом: в задерживаемом грузе письма ко мне или к Пушкину? Ко мне. Тайну переписки отменили? Не отменили. Нарушены правила вывоза? Уголовное преследование? И как не возбуждать? Дарственная? А дарственная с оговоркой? Записывайте: перед прочтением сжечь. Если без шуток? Если без шуток — опечатать на двадцать пять лет.
Наступает 2019 год. Пломбы сняты, сотрудники РГАЛИ приступают к работе. Двадцатью пятью годами позже сорванной экспертизы Дуганова. Человека одной, но пламенной страсти (трубку оставим злопыхателям). Он сделал себе имя; сколотил «Общество Велимира Хлебникова»; быт налажен как московские куранты; жена — прелесть что такое (до сих пор завидую). И вдруг узнаёт, что потаенные рукописи Хлебникова вне доступа на четверть века.
Они с Арензоном уже довели первый том ПСС до сдачи в набор, а теперь о полноте не приходится и мечтать.
Как это не приходится, плохо вы знаете Дуганова. Опечатник Хлебникова в добром уме и трезвой памяти. Простой пример: усыновил армянина. Армяне — древнего благоразумия люди, плохого не посоветуют:
— Вы, Николай Иванович, собрались переплюнуть Плюшкина? Так и так рукописи не выцарапать. Мы что, собаки на сене?
— Сказано двадцать пять лет без права переписки — сделано двадцать пять лет без права переписки, — сердится усыновитель. Сердится раз, сердится другой, на третий умирает от удара (обрезок водопроводной трубы я бы не исключал). Справляемся о годе смерти от удара: 1996. Справляемся насчёт убытия Романа Валентиновича Дуганова и Натальи Сергеевны Шефтелевич в Японию: 1996. Вспоминаем скорбный год на камне близ велимирянской Каабы: 1998.
Вопрос в пространство: кто загнал Дуганова под этот камень?
А теперь вспоминаем казнь по-мавритански. Говорят, уцелевшие зарекаются покушаться на чужое. Но я тот самый мавр, которому неймётся. Простой пример.
Поиски Розмари Циглер
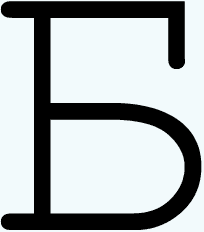
арбара Лённквист (Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku) на Хлебникова поле представлена исчерпывающе — раз, проложила тропу доброму десятку иностранцев — два.
Делается так. Отсылает
полевичему пару-тройку сборников и ждёт у моря погоды. Ага, зацепило: даже перевёл. Отсылает следующую пару-тройку. И так далее, пока закрома не опустеют.
И вот Варвара Вильгельмовна в числе прочего предоставляет мне
Розмари Циглер. Поэтика А.Е. Кручёных поры «41°». Уровень звука // L’avanguardia a Tiflis — Quaderni del Seminario di Iranistica, Uralo-Altaistica e Caucasologia dell’Università degli Studi di Venezia. N. 13.
Venezia. 1982. P. 231–258;
Розмари Циглер. Группа «41°» // Russian Literature VIII (1985). P. 71–86.
А Хлебникова поле потому и намазано мёдом, что полевичий действует строго по Уставу: зацепи третья по счёту статья Розмари, обязан предоставить ей персональную страницу, где curriculum vitae может и не оказаться, но год рождения обязателен.
Умопостроениями Розмари пчёлы отягощают свои зобики лет восемь, и всё это время пытаюсь доискаться о ней хотя бы самых общих сведений. Установлено следующее: 28 августа 1977 года в качестве доверенного лица Н.И. Харджиева явилась к Бенгту Янгфельдту за четырьмя в нарушение договорённости удерживаемыми полотнами Казимира Малевича. Предприятие увенчалось победой шведа, и далее о сотруднице Института славистики при Венском университете ни гу-гу.
Но вот у полевичего появилось дело к директору этого института Ф.Б. Полякову: помогите связаться с наследниками Елизаветы Мнацакановой на предмет легального воспроизведения статьи «Хлебников: предел и беспредельная музыка слова» (Синтаксис / под ред. М. Розановой. Париж. 1983, №11. С. 101–156). Фёдор Борисович сообщает мою просьбу сыну Елизаветы Аркадьевны, и тот любезно дозволяет потрудиться. Воспроизвожу статью, извещаю Полякова о всенародной благодарности за посредничество и наглею: помогите и с Циглер. Ничего не знаю, разводит руками директор того самого института, где должна бы трудиться позарез нужная мне Розмари.
Должность Ф.Б. Полякова подразумевает замороченность неотложными делами, не подослать ли хорошего друга для разговора за чашкой венского кофе.
Хороший друг близ Вены Жан-Филипп Жаккар (Женева), но его попытка разговорить Полякова успеха не имела: только руками развёл.
Наглею дальше: очередное письмо в Вену. Очередной стремительный ответ: ничего не знаю, но расспросить общих знакомых берусь. Поныне раскачивается или недосуг отписаться — уже не имеет значения: получены показания очевидца.
14 марта в 12:34
Увы, милый Владимир, ничем не могу помочь. Я вообще мало её знала, последний раз лет 30 назад она приезжала в Париж и привозила данные ей Л. Чагой картины Митрохина (ей выставку устроить не удалось). Потом эти картины забрал некто посланный Чагой Абаров и увёз в Амстердам, кажется, выставки тоже не было. Это её последний след в моей жизни.
14 марта в 12:43
Дорогая Ирина Ивановна, рискую быть назойливым, но это ведь как раз та ниточка, которую даже и не Пуаро распутает. Итак, Розмари в добром здравии и трезвой памяти выполняет задание Лидии Чаги и прибывает в город Париж из города Амстердама, и Вы, жена Вадима Козового, это удостоверяете. А потом в Париж является доказанный бандит Борис Абаров и обманом увозит картины Митрохина на дуван (место дележа добычи). Остаётся предположить, что несчастная проследовала за Абаровым в Амстердам. Где на каждом шагу каналы, Вы понимаете? А в родной Вене так и продолжают благодушествовать: впала в депрессию, уединилась и т.п. Уединилась на дне канала!
Считаю убийство Циглер амстердамской бандой доказанным.
14 марта в 19:01
да нет, что вы! Она приехала из Вены, кажется, картины (это недорогие этюды маленькие на бумаге) были у неё, но с выставкой не получилось, она привезла (по распоряжению Чаги) их в Париж и уехала. С выставкой в Париже тоже не получилось. Тогда приехал с письмом от Чаги Абаров (он не крал, у него было письмо, и увёз в Амстердам, где жили Харджиевы (и с ними Абаров, их “друг”). С Розой он даже не встречался.
Какая в таких случаях мысль должна прийти в голову Эркюля Пуаро первой? Проверить, могли этюды Митрохина оказаться в Вене или нет.
3 августа 93
Дорогая Елизавета Аркадьевна, без лести: «Das Hohelied» — произведение библейской мощи и совершенно не нуждается в рекомендательных высказываниях.
Музыкально-заклинательная сила вещи действует как шок, как сигналы молний. Она заставляет онеметь, было бы кощунством любое логизирование “по поводу”. Поэтому простите за импрессионистски-приподнятые определения.
Все звенья живописного цикла — прекраснейшие цветовые мелодии, их высоко оценил бы сам М.В. Матюшин, художник и музыкант, глава школы „расширенного смотрения”.
Стоило дожить до моего мафусаилова возраста, чтобы стать обладателем этой книги.
P.S. Ваше давнее (весеннее) письмо наконец-то, по весьма настойчивой просьбе Л.В., было доставлено (29 июля!). Посылка, которую вы просили доставить „сразу”, путешествовала почти 3 месяца (да здравствуют верблюды Марко Поло!) и вручена в неузнаваемом виде. Впрочем, самое главное — письмо и Джотто — в полном порядке ‹...›
Л.В. шлёт Вам сердечный привет и две акварели её отчима, художника Д.И. Митрохина (здесь и ниже подчёркнуто мной. — В.М.), а я — “библиографическую редкость” — 3 №№ журнала со статьей Веберна о Шёнберге.
Благодарю за всё и целую Ваши руки
Ваш Н.Х.
Письмо девяностолетнего старца! И этот ругатель возносит «Das Hohelied» Мнацакановой до небес!
ноябрь 1981
Сердечно приветствую поэта-художника и благодарю за добрые пожелания, фотографии и репродукции.
В современном искусстве поэзия и живопись — неразлучная пара, бегут как лошади — “ноздря в ноздрю”.
Из трёх репродукций мне наиболее понравилась Ваша композиция, пожалуйста, не сочтите это комплиментом.
Акварель Кандинского — совсем пустяковая штучка, образец стилизаторского модернистского “украшения”, годного для рекламирования чего угодно.
Явленский — гораздо лучше, но в его живописи отсутствует пространственная гармония.
Что касается “коренных” экспрессионистов, всех этих Нольде, Кирхнера и др., то я питаю к ним полное отвращение: пестрота, аморфность, безвкусица, литературщина, словом, нечто тошнотворное.
Подлинная красочная гармония наличествует только в ритмах гениального Клее.
В живописи я люблю холодные цветовые гаммы. Аметистовые кристаллы сезанновских акварелей. Хотел бы, чтобы они подмигнули мне в последнем сновидении.
Ещё раз благодарю Вас за всё и желаю Вам исполнения всех Ваших желаний. Николай Харджиев.
————————
14 V 89
Дорогая Sabeth, рад, что Вы меня не забыли.
Ваша книга гипнотизирует своим многоголосьем и прекрасна во всех регистрах. Она достойна быть иллюстрированной падуанской фреской Джотто («Оплакивание»). Этого художника я люблю гораздо больше, чем всех мастеров позднего Возрождения.
И ваша живопись так же музыкальна и гармонична — ни одного фальшивого цветозвука!
О Хлебникове: только подлинный поэт мог так понять личность этого человека (был ли он человеком?) и проникнуть в глубь его творчества.
Это самая трогательная (как сказал бы Пастернак) характеристика Велимира Первого. И вместе с тем это Ваш автопортрет, светящийся отпечаток Вашего поэтического сознания. Уверен, что Хлебников включил бы Вас в свой список изобретателей (председателей).
Родственные Вашим суждения о рифме (абсолютно правильные) я слышал от Мандельштама.
Жаль, что Хлебников до сих пор не переведён на хлебниковский (руссейший) язык.
Кратко о себе: я стал циклопом. Левый глаз почти слеп, а правый оперирован (очень тяжелая операция). Утешаю себя тем, что в молодости был глазаст и дальнозорок, как моряк. Подобно моему другу Алексею Кручёных, я никак не могу приспособиться к старости. Во мне до сих пор не умер мальчик (тот самый, который уснул под музыкой Брамса), — не правда ли смешно?
Я не умею беседовать в письмах, но, отвечая на Ваши, может быть, научусь.
С сердечным приветом Николай Харджиев.
————————
Без даты, не раньше 1989 г. — выхода книги «Метаморфозы»
Дорогая Нецкова, ‹...› «Метаморфозы» меня покорили. Произведение литургийной силы. Альпийскую мелодию принимаешь как причастие. Она очищает сознание от всяческих скверн. Мне кажется, что эта книга была у меня всегда. И будет при мне до последнего часа.
„Звонкоиволга” — словосложение (гибрид), а по небу по луночи (sic!) — явный параллелизм. И тут ничего не поделаешь, — ведь в стиховом языке даже lapsus может стимулировать возникновение самой дерзновенной метафоры.
А теперь поговорим о Цветаевой. Я был с нею знаком. Летом 1941 г. (накануне войны) она посетила мою комнатёнку в Марьиной роще. Её интересовала моя работа над текстами Хлебникова. ‹...› Она была своевольна, нетерпима, императивно говорлива. Она совсем не владела тайной внутренней тишины, тайной хлебниковского безмолвия. А у Вас она в одном ряду с Велимиром. Рядом с ним вообще ник-то не устоит. Его ныне всемирная известность вовсе не свидетельствует о том, что его “понимают”. Он легендарен, а легенда не нуждается в помощи понимания. В легенду веруют слепо. Он это предвидел и незадолго до смерти с горестным чувством обреченности назвал себя вечной звездой. ‹...›
С благодарностью, дружеством и лучшими пожеланиями
Николай Харджиев
Новое литературное обозрение. 2006. №79
Подготовка текста и публикация Е.А. Мнацакановой
Запомнив харджиевское „Жаль, что Хлебников до сих пор не переведён на хлебниковский (руссейший) язык” (14 V 89), продолжим добиваться правды о судьбе Розмари Циглер.
Елизавета Мнацаканова-Нецкова (1922–2019) в Вене с 1975 года, преподавала в местном университете. Начинаем догадываемся, что подаренные Мнацакановой акварели Д.И. Митрохина (1883–1973) понадобились Лидии Васильевне Чага (1912–1995) для задуманной ей выставки в Париже, и Мнацаканова соглашается на время с ними расстаться. Отлучиться в Амстердам не позволяют обстоятельства, Розмари Циглер соглашается выручить коллегу. Надо полагать, доверительные отношения двадцатилетней давности с Харджиевым если не окрепли, то сохранились: Чага уговаривает Циглер доставить собрание произведений отчима в Париж и попытаться выставить. Попытка не удалась. В Париж прибывает порученец Чаги Абаров с доверенностью и увозит собрание в Амстердам. С Розмари при этом он не встречается. Однако принадлежащие Мнацакановой акварели необходимо вернуть. Полагаю неизбежной повторную поездку Циглер в Амстердам. Где на каждом шагу каналы, вы понимаете? Каналы и канальи.
Перерыв поисков Розмари Циглер
Невозможно отрицать разборчивость Харджиева, так называемый вкус. Но вкус к чужому не подразумевает умения вкусно писать самому. Николай Иванович умел в высшей степени, но знали об этом единицы.
Юрий Николаевич Тынянов давал парусу полную волю, статьи Виктора Борисовича Шкловского иной раз можно смаковать как солёные кульбики, бывал окрылён Осип Максимович Брик; научные упражнения Харджиева откровенно скучны. Вкусный слог он приберегал для приведения Хлебникова к общему знаменателю руссейшего языка.
Называется перевод Хлебникова на хлебниковский. А Степашка с Дуганкой подсовывают велимирянам онегинского мосье Трике и свидригайловского жида.
Итак, «Неизданные произведения» (полных два тома: нельзя не верить собирателю) поступили в РГАЛИ путями неисповедимыми, да ещё и в опломбированном виде. Одиссея хлебниковских рукописей спустя выход пятитомника 1928–1933 гг. поучительна с точностью до наоборот.

огда-то Н.И. Харджиев подписал договор с ленинградским отделением издательства «Советский писатель» на подготовку тома Велимира Хлебникова в Большой серии Библиотеки поэта. Он потребовал, чтобы Н.Л. Степанов передал ему из рук в руки все чудом пережившие войну автографы, сохранившиеся у него после издания пятитомника. Работа предстояла сложная, и дотошный учёный мог обдумывать свои “окоёмные” прочтения (чтобы текст Велимира становился каноническим) только в тиши собственного крохотного кабинета. Если оставить в стороне пресловутую “каноничность”, в которую “наволочки” Хлебникова никто и никогда не осилит запихнуть, то я исследователя понимаю (дома работать куда сподручней).
Как мы помним, история с передачей рукописей (и тоже для тома Библиотеки поэта) повторилась позже при издании стихотворений Осипа Мандельштама. Какой мировой скандал на этой почве учредился, известно всем. Доверчивый Николай Леонидович, тем не менее, оказался куда прозорливей скептичной Надежды Яковлевны. Он категорически отказался от акта вручения бумаг в исследовательских целях, не будучи готовым к такой самоотдаче. После длительных переговоров при посредничестве издательства стороны пришли к компромиссу: Степанов обязался сдать рукописи в ЦГАЛИ, за что архив посулил выдать ему взамен фотоотпечатки всех автографов. Эта часть договорённости была исполнена (см. ниже). Читатели же до сих пор ждут хлебниковского издания в Большой серии Библиотеки поэта, хотя в результате транзакции пользователи приобрели семитомник Велимира, что представляется первостатейным возмещением утраты.
При всём при том ни одна живая душа не задавалась робким вопросом: а Николай Иванович Харджиев ничего никуда сдавать для общего пользования не должен был? Почему он с убеждённостью вельможи предъявлял требования к Степанову? Потому что “Степашка” — пигмей рядом с харджиевским “абсолютным слухом”. И это должны были понимать все други и недруги, так как репутация для изучателя — превыше всего. К тому же советские архивы — вода тёмная, Н.Я. Мандельштам, например, и не подумала бы туда что-либо сдавать.
Как ни странно, в дальнейшем повествовании можно усмотреть психологический параллелизм, свойственный не только фольклору. Вдова Николая Леонидовича, Лидия Константиновна Степанова, попросила разобрать домашний архив мужа. По завершении работы весь нежданно обнаруженный комплекс цгалийских фотоизделий она передала А.Е. Парнису и мне. Через десятилетие наш функциональный альянс и брак распались, и, поскольку нас никто не разводил, то “имущество” делили не суд и не полюбовные соглашения, а всего-навсего я сама (после длительного ожидания и при отсутствии оппонента, но со свидетелями).
Моё самоуправство базировалось на том (поклон Харджиеву!), что я лучше читаю рукописи (это было проверено временем и опытом), потому мне достались самые нрзб тексты. Надеюсь их опубликовать, благо, наконец, нашлось место, неподвластное воздействию магнитных бурь.
Валентина Мордерер. Неизданный Хлебников
В итоге неподвластное как магнитным, так и пыльным (лесозаградительные полосы, безотвальная вспашка, обильный полив) бурям Хлебникова поле обогатилось хлебниковским «Ответом Фрейду», и только. Ждём-с.
Пока ждём, вспоминаем ливерпульскую четвёрку. Вспомнили? А теперь заменяем Джона Леннона Николаем Харджиевым.
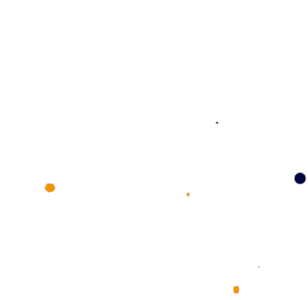
котоводам Ирландии скирды, стога и омёты из рукописей Вакха стояли поперёк горла: коров пасти негде, всё заставлено. Память у ирландцев хорошая, все песни Вакха они и так знали наизусть. Кто бы забрал — поможем вывезти, рассуждали пастухи и дояры.
И помогли.
Ирландцы сперва удивлялись, что заскирдованная бумага десятки лет не истлевает, а потом привыкли. Чем он там писал — неизвестно, а вот поди ж ты. Подожгите клочок газеты, которые Вакх называл простынями лжи. Бумага съёжится и почернеет. Т.е. углерод не сгорит полностью. Потому что это не слово правды, а простыня лжи. Рукопись сгорает без остатка, с чудовищной теплоотдачей.
Не всякая, смотря кто писал. Четвертушки черновика русского писателя Пушкина достаточно для отопления города средних размеров всю зиму средних широт.
Ирландцы не догадались топить рукописями Вакха, потому что курили трубочный табак, а не махорку. Для курения махорки нужно завернуть её щепоть в бумажку. Получается т.н. козья ножка. И часть рукописей ускакала бы к чёртовой матери. Вместе с курильщиками. Ирландия вконец опустела бы, имей скотоводы вредную привычку курить самосад. Но скирды, стога и омёты остались бы на месте. Сейчас поймёте, почему.
Ирландские крестьяне — католики, а папа осуждает употребление опия, гашиша и прочей дури. Пьяницы в Ирландии встречаются, но ни одного наркомана, ни одного. Благочестивые ирландцы ни за какие коврижки не кольнутся и не пустят косяк по кругу.
Джон был родом из Шотландии, а там народ побойчее. Джон покуривал траву. И однажды спросонья завернул её в клочок рукописи Вакха. И угодил в ожоговый центр. Одна затяжка. Джон так и остался бы человеком, который постоянно смеётся, т.е. скалит зубы, не прояви медики своё искусство.
Такова теплотворная способность рукописей Вакха. Джон отрастил усы и бороду вовсе не в подражание Рабиндранату Тагору, как вы теперь понимаете. Зато к нему пришёл опыт, сын ошибок трудных, и он скупил все, до последней копёшки, рукописи Вакха в Ирландии.
И кирпичный завод Джона заработал, удивляя знатоков низкой себестоимостью готовых изделий и совершенной безвредностью производства.
Храм Вакха рос на глазах. Казалось, завершение строительства будет отпраздновано ещё при жизни первых вакхантов и вакхабитов.
Храм строят и по сей день, а куполов что-то не видать. При этом готового кирпича на поддонах в избытке. И ещё подвозят. Ливерпуль, того и гляди, постигнет былая участь Ирландии: копны, стога, скирды и омёты рукописей обратились в горы высококачественного, вечного кирпича. Мечта Навуходоносора. А куполов что-то не видать. Почему? Не будем забегать вперёд, последовательность изложения — прежде всего.
Устное творчество Вакха, повторяю, весьма однообразно. Что говорить о его почеркушках. Проще отыскать иголку в стоге сена, чем свежую мысль в скирде его рукописей. Но попадались-таки. То и дело Джон приобретал новый сундук для раскопанных им свежих мыслей Вакха.
По мнению одних, эти сундуки и погубили Джона. Другие доказывают с пеной у рта, что виновата в гибели Джона его жена Йоко, беспредметная художница. Попробуем разобраться.
На самом деле имя этой женщины Чао, она китаянка. Беспредметная художница — да. Чао преподавала рисование в школе Нанкина, и никогда не стала бы Йоко, не устрой Мао облаву на читателей Конфуция, древнего законоучителя. Мао видел в нём соперника, и чего только не делал во вред мудрецу. Изобличённого в низкопоклонстве перед Конфуцием лишали талонов на рис и выгоняли с работы.
Чао мечтала стать верной женой образованного китайца. Чтобы сбылись их мечты, китаянки-бесприданницы ложатся спать с Конфуцием под подушкой, поверье такое. Чао выдала сестра, с которой они спали на одной циновке, и бедняжка стала беспредметной художницей.
Обречённая на голодную смерть девушка пошла топиться. На берегу догнивала джонка с проломленным днищем. Чао стащила джонку в воду, вскочила в неё и принялась изо всех сил отталкиваться бамбуковым шестом, чтобы успеть оказаться на глубине, пока лодка не наберёт воды всклень. Вдруг шест, еще не достав дна, упёрся во что-то твёрдое и кругловатое, соскользнул, и Чао полетела за ним в воду, потеряв опору.
Очнувшись, беспредметная художница увидела склонённые над ней белые лица четырёх водяных, и засмеялась от счастья: она превратилась в русалку, а не в пиявку! Вдруг утопленница сообразила, что вокруг подозрительно тепло и сухо, а существа с пышными мягкими волосами — пусть и не китайцы, но тоже люди. Оставим Чао с её недоумениями, и послушаем рассказ Джорджа о начале конца ливерпульской четвёрки.
Джордж не сомневался: останови он тогда Ринго — они не переругались бы, и славили Вакха вместе годы и годы. Джордж говорил мне, что лучше бы эта стерва утонула. Долой сослагательное наклонение. Дело было так.
Все реки в Китае более-менее жёлтые от густой жижи купальщиков, смывающих трудовой пот со своей жёлтой кожи. Поэтому незаметно проскользнуть в самое сердце КНР можно по любой из них, подобрав нужную окраску. Пока Мао ударял заплывом по ливерпульской благодати на севере страны, жёлтая подводная лодка шла вверх по течению Янцзы.
Вдруг Пол, который стоял у руля, ни с того ни с сего спрашивает:
— Джон, а Джон! Как тебя звали в детстве?
— Джонка. А тебя? — раздаётся голос из машинного отделения.
— Полька это половецкая пляска из оперы Бородина «Князь Игорь», а джонка — китайская лодка, — хотел блеснуть познаниями Джордж, чистя картошку на камбузе, но Пол заржал из рубки:
— Жёнка Джонка, жёнка Джонка, жёнка Джонка!
— Ты на что намекаешь, козёл безоаровый? — рявкнул Джон, вылезая с гаечным ключом из машинного отделения.
В это время раздался удар по обшивке лодки и всплеск.
— Стоп машина! Человек за бортом! — крикнул дневальный Ринго.
Всплытие, спасение на водах, спешное погружение под шквальным огнём китайских пулемётов, — довообразите сами.
И Чао стала женой Джона, Йоко. Имя ей придумал Ринго, переиначив пиратский припев из «Острова сокровищ» Стивенсона. Везти прежнее в Англию никакого смысла не было. „Чао, фантик!” — говорят в Англии на прощанье подружкам, и не возвращаются никогда. Бросовое имя, не так ли.
Можно оставаться холостяком в душе, имея тёщу. Джон решил жениться по-настоящему, на всю оставшуюся жизнь, чуток поразмыслив над словами Пола, которые любому Джону показались бы оскорбительными. Любому, но не Джону из Ливерпуля. Потому что все в этом городе знали: Пол — пророк и провидец. Именно так оно и было, пока ему не подменили сердце.
Совпадения в природе случаются крайне редко. Но ничего случайного, как правило, не бывает. Вслушайтесь в лепет будущей Йоко: „Мао... джонка...” И это после многозначительного юродства Поля, пророка и провидца. То-то и оно. Джон тут же утащил девушку в машинное отделение и принялся обучать её английскому языку и гидравлике.
Джордж помнил пословицу “баба с кэба — кэбыле легче”. А ещё он помнил, что Робин Гуд из России Степан Разин по требованию своих дружков бросил пленницу-персиянку в Волгу, хотя до берега было рукой подать. Высади, скотина.
Ради святого Дела — а именно таким, по его глубокому убеждению, было их плавание без посторонних на борту — Джордж пошёл на обострение ещё в Жёлтом море. Тайвань рядом. Никаких гонений за Конфуция. Должна в ноги поклониться.
— Или я, или она.
— Она, — отрезал Джон.
— Высаживайте меня в Японии, — сказал Джордж.
И высадили. Ринго помялся, но не последовал за Джорджем: он не знал японского языка. А Джордж знал, потому что его жена Бетси востоковед, и дома они разговаривали только по-японски.
Джордж никогда не совался поперёд батьки, то бишь Пола, отгадывать будущее. Он помалкивал, предчувствуя. И события разворачивались именно так, как он помалкивал. Джордж отверзал уста, только чуя неодолимую беду. Если бы не один Ринго прислушивался...
В Амстердам, на отпевание Джона, Джордж не приехал. Почему в Амстердам? Просыпайтесь: сейчас пойдёт учёба на ошибках великого человека.
Йоко мечтала выйти за образованного, а попался неотёсаный мужлан. Судите сами. Спрашивают Джона, как ему понравилась Америка.
— Дерьмо в пакетике.
Знаете ли вы, что такое образцовый муж?
Нет, вы не знаете, что такое образцовый муж. Образцовый муж — это благородный муж. А благородный муж — образованный китаец. Таково учение Конфуция о семейной жизни. Китаянки на выданье спят с Конфуцием под подушкой, чтобы выйти за образованного человека. А Йоко попался неотёсаный мужлан.
Ничего другого не оставалось, как самой образовывать его. Не разводиться же.
Первым делом Йоко заставила Джона оплатить счета за подвоз рукописей Вакха из Ирландии (“Благородный муж не должен должать”). А потом уговорила подарить кирпичный завод трубачу Филу Вестсайду (“Благородный муж должен одалживать, но не одалживаться”).
Почему трубачу Филу Вестсайду, а не саксофонисту Рону Трумэну или клавишнику Ромулу Джекобсону?
Потому что Ромул и Рон были друганами Пола, а с ним Джон насмерть рассорился из-за Линды. Как уже сказано, Линда имела диплом агронома, что не мешало ей здорово играть на контрабасе. Однажды Джон возьми да и ляпни: „А ты не нашего Поля ягода, детка”. Вот именно, закавыристый намёк. На бракосочетании Пола и Линды, заметьте.
Одновременно Джон одобрил внешность супруги Джорджа Бетси словами “япоша, японская харя” и заорал на Ринго, который сунулся разрулить обстановку („Мата Хари”): „Заткнись, стукач!”
Барабанщика можно и нужно называть ударником. Колотун? Не то. Стукач? Вы уверены? Ах, вам знакомые говорили. Из достоверного источника. Ну-ну.
Теперь слушайте меня: барабанщики, сойдясь в круг, не оплёвывают друг друга. Они делятся тонкостями барабанного боя и тарелочного битья. Называя при этом некоторых пузочёсами. Бряцателей. Так-то вот.
Неудачная шутка насчёт нашего Поля и японской хари была последней каплей. Раздражение копилось годами, и последовал взрыв. Все восстали против всех. Кроме Ринго. Он плакал, по-детски всхлипывая и шмыгая носом.
В. Молотилов. Вакх. I. Ливерпульская четвёрка
Барабанщика Ринго я писал с Александра Ефимовича Парниса, и кончим этот разговор. Озаботимся лучше вкладом его гонителя в отечественную словесность. Принят в Союз писателей одновременно (1940) с Владимиром Владимировичем Трениным (1904–1941), и это не случай, бог-изобретатель:
Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. (Книжная лавка А.Ф. Смирдина) / Под ред. В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума. М.: Федерация. 1929. 373 с.
Тренин В.В. Москва Нью-Йорк по воздуху. М.: Молодая гвардия. 1930. 32 с.
Тренин В.В., Харджиев Н.И. Повесть о механикусе Ползунове / Предисловие: Виктор Шкловский. М.: ОГИЗ, Молодая гвардия. 1931. 101 с.
Усиевич Е., Тренин В., Харджиев Н. Забытые статьи В.В. Маяковского 1913–1915 гг. // Литературное наследство. Т. 2. 1932. С. 117–164.
В. Тренин, Н. Харджиев. Ретушированный Хлебников // Литературный критик, 1933, №6. С. 142–150.
В. Тренин, Н. Харджиев. Маяковский и “сатириконская поэзия” // Литературный критик, 1934, №4.
В. Тренин, Н. Харджиев. Поэтика раннего Маяковского // Литературный критик, 1935, №4.
Тренин В. В “мастерской стиха” Маяковского. М.: Советский писатель. 1937. 212 с.
Тренин В., Харджиев Н. Огненная машина. М.: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ. 1939. 80 с.
Как видим, ко времени зачисления в инженеры человеческих душ Николай Иванович со своим руссейшим языком ходил в упряжке пристяжным и не рыпался. А теперь наглядное пособие.
Ход мысли такой: у Лидии Васильевна Вьюгиной о призыве Николая Ивановича на воинскую службу извещают вскользь и влживь: согнали в „палачиные избы”, а потом отпустили по домам. На самом деле было так. Обмундировав, ополченцам выдали солдатские медальоны особого образца: деревянные, с отверстием для скатанной в трубочку писульки. Ещё толком не вспотев, Николай Иванович уже заподозрил неладное. В учебке предчувствие окрепло.
...Ополченский сентябрь 41-го года под Вязьмой. Тоска войны без войны. Учебное ползанье по-пластунски на размокших полянах. Неумелое копанье в земле. Снизу вода и сверху вода. ‹...› В мирном лесу смерть как не хотелось выползать из шалашика под дождь.
Даниил Данин. Бремя стыда. М.: Московский рабочий. 1996. С. 202.
Шалашики отставить, писательской роте выдают боеприпасы, приказывают окопаться и помнить присягу. Писатель Тренин отрывает окопчик, протирает полой шинели очки, передёргивает затвор и снова протирает очки: он готов принять свой последний и решительный бой.
А писатель Харджиев не готов: простыл, госпиталь, Алма-Ата. Хорошо это или плохо? Глядя из Нидерландов, лучше не бывает. Глядя из окопчика — хуже не придумаешь.
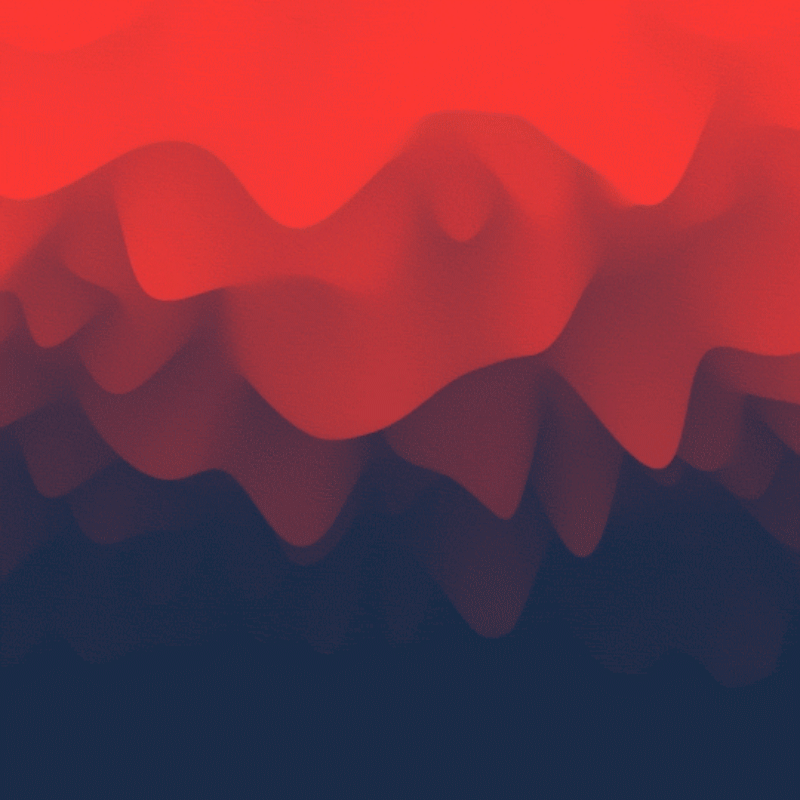
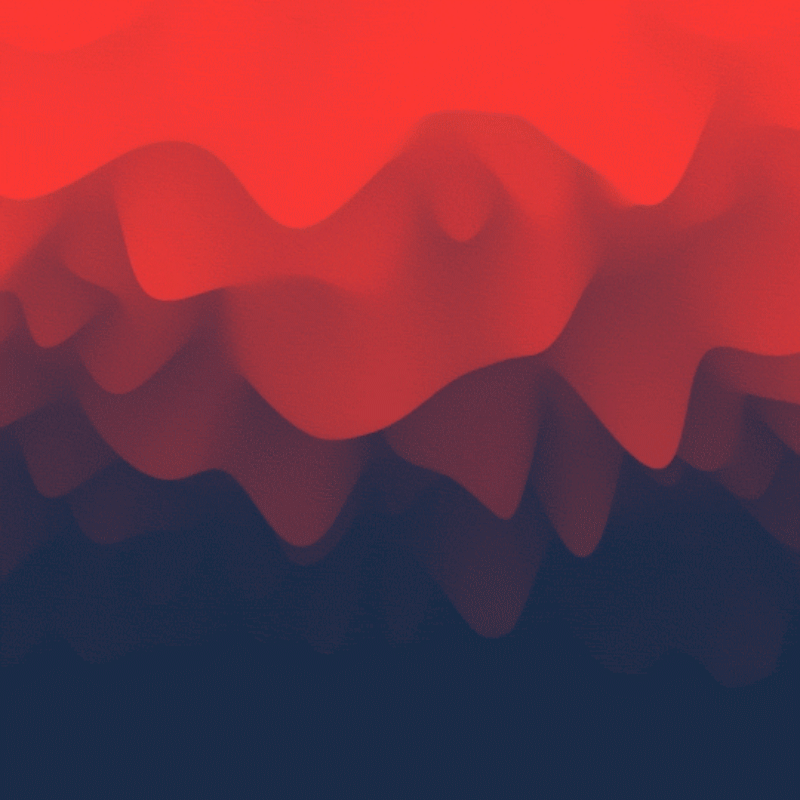
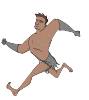
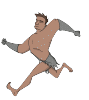
 сли вам показалось, что продума деебна — сонная грёза Ильи Ильича Обломова, спешу огорчить: полным ходом. Томить не в моих правилах, да и обкатаю заодно. Поехали.
сли вам показалось, что продума деебна — сонная грёза Ильи Ильича Обломова, спешу огорчить: полным ходом. Томить не в моих правилах, да и обкатаю заодно. Поехали.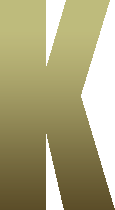
 има Филби Георгiй Борисовичъ терпѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизбѣжную бѣлочку. Филби остался на бобахъ: измѣнница и новоявлѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.
има Филби Георгiй Борисовичъ терпѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизбѣжную бѣлочку. Филби остался на бобахъ: измѣнница и новоявлѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.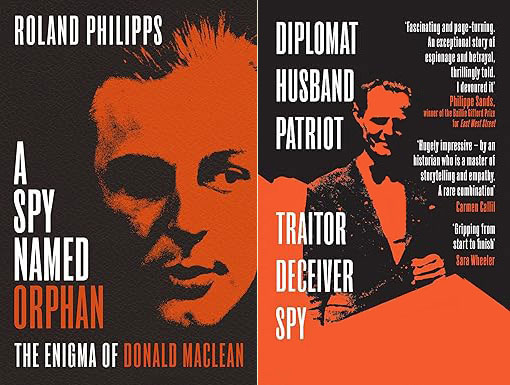 Летом 1945 года Дональд Маклин, работавший в Комитете совместной политики, получил сверхсекретное задание скоординировать деятельность американского «Манхэттен Проекта» с английским «Тьюб Аллойз Проект» — обе организации занимались вопросами создания атомной бомбы. Начало английской организации положил летом 1941 года научный консультативный комитет, возглавлявшийся лордом Хэнки, секретарем которого был тогда Джон Кэрнкросс. А как уже было сказано, НКВД мог наблюдать за политической эволюцией атомной программы Запада с момента её зарождения вплоть до первого испытательного взрыва близ Аламогордо в Нью-Мексико. Я не говорю о научной стороне программы. Здесь нас просвещали учёные Клаус Фукс, Бруно Понтекорво и Даниэль Грингласс.
Летом 1945 года Дональд Маклин, работавший в Комитете совместной политики, получил сверхсекретное задание скоординировать деятельность американского «Манхэттен Проекта» с английским «Тьюб Аллойз Проект» — обе организации занимались вопросами создания атомной бомбы. Начало английской организации положил летом 1941 года научный консультативный комитет, возглавлявшийся лордом Хэнки, секретарем которого был тогда Джон Кэрнкросс. А как уже было сказано, НКВД мог наблюдать за политической эволюцией атомной программы Запада с момента её зарождения вплоть до первого испытательного взрыва близ Аламогордо в Нью-Мексико. Я не говорю о научной стороне программы. Здесь нас просвещали учёные Клаус Фукс, Бруно Понтекорво и Даниэль Грингласс. Расследование затянулось почти на сорок лет. Выяснилось, что дело не в двух, а в пяти английских аристократах, сотрудничавших с советской разведкой семнадцать лет, начиная от подготовки Второй мировой войны, в ходе её и в течение первого этапа “холодной войны”. ‹...›
Расследование затянулось почти на сорок лет. Выяснилось, что дело не в двух, а в пяти английских аристократах, сотрудничавших с советской разведкой семнадцать лет, начиная от подготовки Второй мировой войны, в ходе её и в течение первого этапа “холодной войны”. ‹...› Слово ‘гэбэ’ всегда означало ‘госбезопасность’. Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: ‘гэбисты’, ‘гэбешники’). Но для некоторого, причём весьма широкого, круга существовал ещё и омоним, который был ещё и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным: ‘Гэбэ’ — Георгий Борисович — Г.Б. Фёдоров. „Вчера славно посидели у ГэБэ… У ГэБэ в экспедиции было замечательно… Звонил ГэБэ, зовёт к себе…” Многие звали его Жора, хотя он был немолодым, вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему ‹...› Георгий Борисович начинал очередной рассказ — о человеке, о событии, — всегда неожиданный, интересный, захватывающий подробностями. Не имею представления, какой он был историк-археолог, об этом другие расскажут, но вот что касается писательства его — он просто не мог не быть писателем: такое множество историй он знал, настолько богата была его жизнь людьми и событиями. И он мог часами перебирать бесчисленные сокровища своих воспоминаний. ‹...›
Слово ‘гэбэ’ всегда означало ‘госбезопасность’. Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: ‘гэбисты’, ‘гэбешники’). Но для некоторого, причём весьма широкого, круга существовал ещё и омоним, который был ещё и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным: ‘Гэбэ’ — Георгий Борисович — Г.Б. Фёдоров. „Вчера славно посидели у ГэБэ… У ГэБэ в экспедиции было замечательно… Звонил ГэБэ, зовёт к себе…” Многие звали его Жора, хотя он был немолодым, вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему ‹...› Георгий Борисович начинал очередной рассказ — о человеке, о событии, — всегда неожиданный, интересный, захватывающий подробностями. Не имею представления, какой он был историк-археолог, об этом другие расскажут, но вот что касается писательства его — он просто не мог не быть писателем: такое множество историй он знал, настолько богата была его жизнь людьми и событиями. И он мог часами перебирать бесчисленные сокровища своих воспоминаний. ‹...› В октябре 1929 года Мелинда и её сестры пошли в школу в Веве, недалеко от Лозанны, где их мать арендовала виллу, и провели каникулы в Жуан-ле-Пен во Франции. Мать Мелинды переехала в Нью-Йорк, выйдя замуж за Чарльза Данбара, дельца-писчебумажника, и привезла своих дочерей жить с ними в Манхэттен, где Мелинда училась в школе Спенс. После окончания учёбы она провела несколько месяцев в Нью-Йорке, затем вернулась в Париж, где поступила в Сорбонну для изучения французской литературы. Марк Калм-Сеймур позже описал её как „довольно симпатичную и жизнерадостную, но весьма сдержанную”. Она казалась немного чопорной, но всегда была ухоженной, с яркой помадой на губах, химической завивкой в волосах, двойным рядом жемчуга на шее. Её интересы, казалось, ограничивались семьёй, друзьями, одеждой и голливудскими фильмами.
В октябре 1929 года Мелинда и её сестры пошли в школу в Веве, недалеко от Лозанны, где их мать арендовала виллу, и провели каникулы в Жуан-ле-Пен во Франции. Мать Мелинды переехала в Нью-Йорк, выйдя замуж за Чарльза Данбара, дельца-писчебумажника, и привезла своих дочерей жить с ними в Манхэттен, где Мелинда училась в школе Спенс. После окончания учёбы она провела несколько месяцев в Нью-Йорке, затем вернулась в Париж, где поступила в Сорбонну для изучения французской литературы. Марк Калм-Сеймур позже описал её как „довольно симпатичную и жизнерадостную, но весьма сдержанную”. Она казалась немного чопорной, но всегда была ухоженной, с яркой помадой на губах, химической завивкой в волосах, двойным рядом жемчуга на шее. Её интересы, казалось, ограничивались семьёй, друзьями, одеждой и голливудскими фильмами.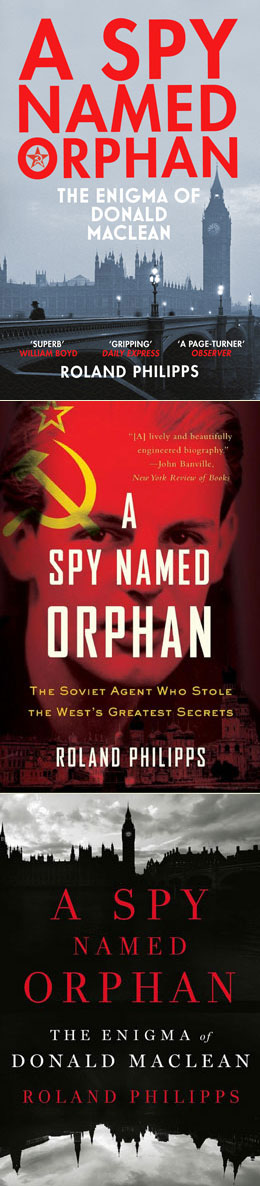 — будучи британским дипломатом, он мучился оттого, что в Египте вынужден поддерживать режим, при котором 99% населения живёт в ужасающей бедности;
— будучи британским дипломатом, он мучился оттого, что в Египте вынужден поддерживать режим, при котором 99% населения живёт в ужасающей бедности;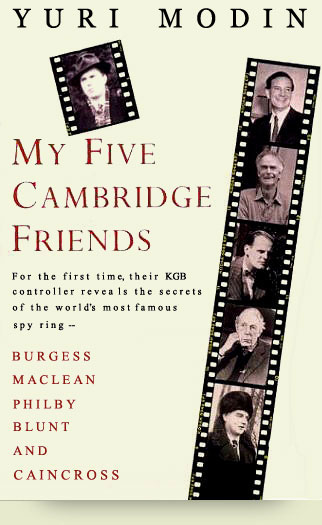 К счастью, её не было дома. Они протиснулись мимо остолбеневшей от страха экономки и устроили обыск.
К счастью, её не было дома. Они протиснулись мимо остолбеневшей от страха экономки и устроили обыск. Утром он первым садился за свой стол, чтобы прочесть ночные телеграммы, и последним, с набитым портфелем, уходил в 10 вечера. То, что не удавалось переснять, он помещал в свою бездонную память.
Утром он первым садился за свой стол, чтобы прочесть ночные телеграммы, и последним, с набитым портфелем, уходил в 10 вечера. То, что не удавалось переснять, он помещал в свою бездонную память. Между ними всё было достаточно хорошо, пока Ким Филби — мастер-шпион, который завербовал его ещё в Кембридже, — сам не бежал в 1963 году. Его жена Элеонора присоединилась к нему в Москве, и Филби и Маклины проводили много времени вместе, ходили на балет или просто ужинали и играли в бридж.
Между ними всё было достаточно хорошо, пока Ким Филби — мастер-шпион, который завербовал его ещё в Кембридже, — сам не бежал в 1963 году. Его жена Элеонора присоединилась к нему в Москве, и Филби и Маклины проводили много времени вместе, ходили на балет или просто ужинали и играли в бридж. Разве что ситцевые обои выглядели потёртыми.
Разве что ситцевые обои выглядели потёртыми. Филби продолжал часто встречаться с Маклинами. В ту зиму они вместе ходили кататься на лыжах. И тут между ним и Мелиндой завязался любовный роман. Я больше не встречался с Маклинами, но знал, что отношения между мужем и женой стали прохладными. Я думал, что Мелинда смирилась со своим замужеством, но ошибся.
Филби продолжал часто встречаться с Маклинами. В ту зиму они вместе ходили кататься на лыжах. И тут между ним и Мелиндой завязался любовный роман. Я больше не встречался с Маклинами, но знал, что отношения между мужем и женой стали прохладными. Я думал, что Мелинда смирилась со своим замужеством, но ошибся.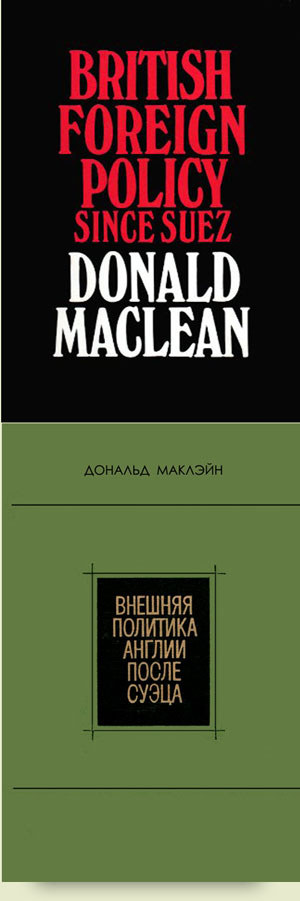 В институте быстро поняли, кто он на самом деле. Все западные СМИ, начиная с 1951 года, когда руководитель американского департамента МИД Великобритании Дональд Маклейн бежал в СССР, часто писали о нём, публиковали его фотографии. За десять лет, истекших со времени его бегства, на Западе было выпущено несколько книг о Маклейне и его кембриджских товарищах — Киме Филби и Гае Бёрджессе, тоже агентах советской внешней разведки. ‹...›
В институте быстро поняли, кто он на самом деле. Все западные СМИ, начиная с 1951 года, когда руководитель американского департамента МИД Великобритании Дональд Маклейн бежал в СССР, часто писали о нём, публиковали его фотографии. За десять лет, истекших со времени его бегства, на Западе было выпущено несколько книг о Маклейне и его кембриджских товарищах — Киме Филби и Гае Бёрджессе, тоже агентах советской внешней разведки. ‹...› Казалось, дни Корейской Народной Республики были сочтены, когда Сталин настоял на китайском вмешательстве. Мао колебался, опасаясь, что американцы могут перенести войну на территорию Китая и даже применить атомную бомбу против китайских войск и промышленных центров.
Казалось, дни Корейской Народной Республики были сочтены, когда Сталин настоял на китайском вмешательстве. Мао колебался, опасаясь, что американцы могут перенести войну на территорию Китая и даже применить атомную бомбу против китайских войск и промышленных центров. ора Фёдоров, иначе Георгий Борисович Фёдоров, и его жена Майя Рошаль, дочь двух видных сталинских кинорежиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой, сами вполне достойны подробного описания. Не менее достойна этого и их большая, сильно запущенная квартира, где всегда было полно народу, где с утра до ночи разговаривали и спорили, где двое хозяйских детей Вера и Миша жили каждый своей, совершенно отдельной жизнью. Так же как и мохнатый и грязновато-белый пудель. И где Жора и Майя являли собой образцовую, очень дружную и любящую семейную пару. ‹...›
ора Фёдоров, иначе Георгий Борисович Фёдоров, и его жена Майя Рошаль, дочь двух видных сталинских кинорежиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой, сами вполне достойны подробного описания. Не менее достойна этого и их большая, сильно запущенная квартира, где всегда было полно народу, где с утра до ночи разговаривали и спорили, где двое хозяйских детей Вера и Миша жили каждый своей, совершенно отдельной жизнью. Так же как и мохнатый и грязновато-белый пудель. И где Жора и Майя являли собой образцовую, очень дружную и любящую семейную пару. ‹...› Маклэйн жил в Москве в “сталинском” доме, из тех, что до сих пор ценятся за высокие потолки и добротность. Этот дом на Дорогомиловской, у самого Киевского вокзала, очень мне дорог и памятен. Но вместе с тем я всегда видела весь его неуют. ‹...› Дачу в Чкаловском мы с мужем посетили много лет спустя, но ещё в самые убогие времена. И тогда она поразила меня и своими крохотными размерами, и маленьким участком, и неказистостью.
Маклэйн жил в Москве в “сталинском” доме, из тех, что до сих пор ценятся за высокие потолки и добротность. Этот дом на Дорогомиловской, у самого Киевского вокзала, очень мне дорог и памятен. Но вместе с тем я всегда видела весь его неуют. ‹...› Дачу в Чкаловском мы с мужем посетили много лет спустя, но ещё в самые убогие времена. И тогда она поразила меня и своими крохотными размерами, и маленьким участком, и неказистостью. „Вместо того, чтобы стать алкоголиком, — говорил он о себе, — я стал трудоголиком”. ‹...› Несмотря на внушительный вид — шесть футов и шесть дюймов роста, он обладал мягким характером, у него для собеседника всегда были наготове доброе слово или улыбка. Все знали, что он внимателен к людям, и если обращались к нему за помощью, то никогда не получали отказа. ‹...›
„Вместо того, чтобы стать алкоголиком, — говорил он о себе, — я стал трудоголиком”. ‹...› Несмотря на внушительный вид — шесть футов и шесть дюймов роста, он обладал мягким характером, у него для собеседника всегда были наготове доброе слово или улыбка. Все знали, что он внимателен к людям, и если обращались к нему за помощью, то никогда не получали отказа. ‹...› Правая бровь чешется — к с искреннему собеседнику, левая — к лицемеру. Сроду (1954) не чесалась ни одна. Потому что не был знаком с Николаем Ивановичем Харджиевым (1903–1996). Слыхом не слыхивал о нём во времена своего почтения к сединам и неложного благочестия. Ещё не покрылся морщинами слона, и не бежала впереди худая слава — запросто можно было спроворить встречу.
Правая бровь чешется — к с искреннему собеседнику, левая — к лицемеру. Сроду (1954) не чесалась ни одна. Потому что не был знаком с Николаем Ивановичем Харджиевым (1903–1996). Слыхом не слыхивал о нём во времена своего почтения к сединам и неложного благочестия. Ещё не покрылся морщинами слона, и не бежала впереди худая слава — запросто можно было спроворить встречу. На всякого мудреца довольно простоты. Май Митурич не исключение, сейчас докажу: представил меня в самом выгодном свете любимцу и вероятному преемнику Харджиева. Преемник проявил любопытство и зазвал к себе.
На всякого мудреца довольно простоты. Май Митурич не исключение, сейчас докажу: представил меня в самом выгодном свете любимцу и вероятному преемнику Харджиева. Преемник проявил любопытство и зазвал к себе.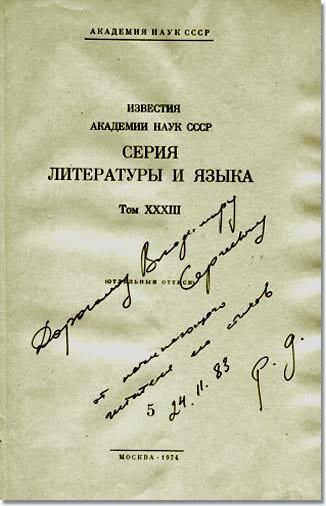 Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков.
Предстают безоговорочным образцом исполнения супружеского долга: не прервали беременность, сохранили плод. И до синевы захотелось раззадорить нашего брата северянина, хотя бы назло мне, надменному соседу. Запросто, кстати говоря, могу потягаться и с Аулбеком, и с Кишлакбаем: одиннадцать внуков. оловцы то воевали с русскими, то вступали с ними в союзы, то ссорились, то заключали браки, но неизменно в течение двух с лишним столетий оказывали огромное влияние на всю жизнь Древней Руси.
оловцы то воевали с русскими, то вступали с ними в союзы, то ссорились, то заключали браки, но неизменно в течение двух с лишним столетий оказывали огромное влияние на всю жизнь Древней Руси.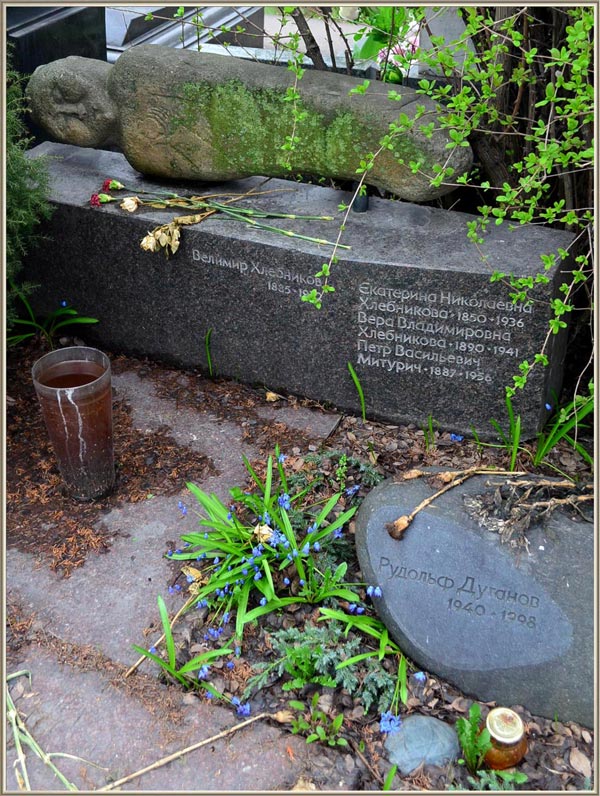 Близкая дружба связала Хлебникова с выдающимся русским художником Петром Митуричем. Митурич видел в Хлебникове не только необыкновенно одарённого поэта, обаятельного человека, но и учителя жизни, философские и художнические взгляды которого были чрезвычайно близки ему.
Близкая дружба связала Хлебникова с выдающимся русским художником Петром Митуричем. Митурич видел в Хлебникове не только необыкновенно одарённого поэта, обаятельного человека, но и учителя жизни, философские и художнические взгляды которого были чрезвычайно близки ему. ратья и сестры! Не раз и не два здесь, у этой могилы, я заявлял, что прах, доставленный в Москву с новгородского погоста, не принадлежит Велимиру Хлебникову. Я ошибался. Объяснюсь ниже, сначала о том, что подвигло меня на это выступление: наследникам Хлебниковых-Митуричей вчиняют иск об изъятии каменной бабы. Оказывается, этот замшелый камень — святыня жителей Тувы. Задним числом в полвека догадались. Уже их шаманы сулят судейским порчу до седьмого колена, посмей те препятствовать восстановлению справедливости. Суд неизбежно примет сторону оскорблённого чувства тувинских краеведов. Куда пойдёшь, кому что скажешь, говорила в таких случаях моя бабушка. Лично мне остаётся пойти с шапкой на пособие Вере Маевне: в одиночку изготовление слепка, перевозку бабы в предуказанное урочище и расходы на ваяние бабы-заместительницы ей не потянуть. Вношу лепту первым: сто восемь тысяч. Почему сто восемь?
ратья и сестры! Не раз и не два здесь, у этой могилы, я заявлял, что прах, доставленный в Москву с новгородского погоста, не принадлежит Велимиру Хлебникову. Я ошибался. Объяснюсь ниже, сначала о том, что подвигло меня на это выступление: наследникам Хлебниковых-Митуричей вчиняют иск об изъятии каменной бабы. Оказывается, этот замшелый камень — святыня жителей Тувы. Задним числом в полвека догадались. Уже их шаманы сулят судейским порчу до седьмого колена, посмей те препятствовать восстановлению справедливости. Суд неизбежно примет сторону оскорблённого чувства тувинских краеведов. Куда пойдёшь, кому что скажешь, говорила в таких случаях моя бабушка. Лично мне остаётся пойти с шапкой на пособие Вере Маевне: в одиночку изготовление слепка, перевозку бабы в предуказанное урочище и расходы на ваяние бабы-заместительницы ей не потянуть. Вношу лепту первым: сто восемь тысяч. Почему сто восемь? Перехожу к болезненному для меня, не скрою, признанию: да, я пребывал в заблуждении ровно столько, сколько медлили прозреть тувинские краеведы: более полувека. А ведь ход мысли удивительно прост: Май сначала побывал в Ручьях дикарём, доискался старожилов, заручился их согласием освидетельствовать останки Хлебникова, и лишь потом обратился в правление Союза писателей. Между тем, поездка государственной важности подразумевает не только подорожную и суточные, но и отчёт с приложением Акта вскрытия могилы. Акт общеизвестен, но, как говорится, бумага всё стерпит. При этом никто, включая меня, не удосужился доискаться отчёта по раскопкам. И вот читаю: пястные и теменная кости, более ничего. Ничего для того, кто в глаза не видывал ручьёвского погоста. Бывал здесь Николай Заболоцкий? Не бывал. И выдумывает новгородский ил. Никакого ила, торфа и даже суглинка: новгородцы испокон закладывают погосты на возвышенных местах, так называемых гривах. А это чистый ледниковый песок — раз, Хлебникова зарыли в этот песок на задах погоста — два. На задах, кстати, по сей день цела ограда из валунов. И вот очередная весна после долгой зимы с неизбежными снеговыми заносами. Где на погосте эти заносы наибольшие? У ограды. Пошли талые воды. Куда? По склону песчаной гривы. И вот у ограды из валунов воды по колено. А могила Хлебникова всеми заброшенная, провалилась — воды по грудь. И так тридцать восемь лет. Но и это не главный показатель маевой правоты. Чёрным по белому: обнаружены клочки шерстяной ткани в области грудной клетки. Вспоминаем Хлебникова на смертном одре: жилетка. Никого местные не хоронят иначе как в белых рубахах, преимущественно льняных, а тут предательские клочки в области дотла смытых в подстилающую глину рёбер. И трое старожилов единогласно, без всякого нажима со стороны сельсовета, подписывают Акт вскрытия могилы.
Перехожу к болезненному для меня, не скрою, признанию: да, я пребывал в заблуждении ровно столько, сколько медлили прозреть тувинские краеведы: более полувека. А ведь ход мысли удивительно прост: Май сначала побывал в Ручьях дикарём, доискался старожилов, заручился их согласием освидетельствовать останки Хлебникова, и лишь потом обратился в правление Союза писателей. Между тем, поездка государственной важности подразумевает не только подорожную и суточные, но и отчёт с приложением Акта вскрытия могилы. Акт общеизвестен, но, как говорится, бумага всё стерпит. При этом никто, включая меня, не удосужился доискаться отчёта по раскопкам. И вот читаю: пястные и теменная кости, более ничего. Ничего для того, кто в глаза не видывал ручьёвского погоста. Бывал здесь Николай Заболоцкий? Не бывал. И выдумывает новгородский ил. Никакого ила, торфа и даже суглинка: новгородцы испокон закладывают погосты на возвышенных местах, так называемых гривах. А это чистый ледниковый песок — раз, Хлебникова зарыли в этот песок на задах погоста — два. На задах, кстати, по сей день цела ограда из валунов. И вот очередная весна после долгой зимы с неизбежными снеговыми заносами. Где на погосте эти заносы наибольшие? У ограды. Пошли талые воды. Куда? По склону песчаной гривы. И вот у ограды из валунов воды по колено. А могила Хлебникова всеми заброшенная, провалилась — воды по грудь. И так тридцать восемь лет. Но и это не главный показатель маевой правоты. Чёрным по белому: обнаружены клочки шерстяной ткани в области грудной клетки. Вспоминаем Хлебникова на смертном одре: жилетка. Никого местные не хоронят иначе как в белых рубахах, преимущественно льняных, а тут предательские клочки в области дотла смытых в подстилающую глину рёбер. И трое старожилов единогласно, без всякого нажима со стороны сельсовета, подписывают Акт вскрытия могилы. Всё. Всё. Всё. Беспроглядный мрак. С точки зрения Николая Ивановича Харджиева.
Всё. Всё. Всё. Беспроглядный мрак. С точки зрения Николая Ивановича Харджиева. Второй ‹...› в своей охране памятника не признавал никаких моральных запретов. Поэтому не гнушался и прямых доносов. Нет-нет, он строчил не в карательные органы, а в поместья гораздо более “изящные”. Всяк посягнувший на Хлебникова сталкивался с письмами Харджиева, направленными в архивы, издательства, музеи (там они и сберегаются до сих пор). С живыми носителями каких-либо сведений о Хлебникове было и того проще: они получали от вездесущего Николая Ивановича безапелляционную аттестацию любого конкурента как сексота. Чем яростнее новоявленный “хлебниковед” пытался смыть пятно подозрений и оправдаться перед запуганными “информантами”, тем гуще сплеталась паутина наветов. Биография Хлебникова написана не была, а сам девяностолетний Харджиев одиноко и безнадёжно глупо закончил жизнь в роскошной амстердамской яме, которую неустанно рыл другим. ‹...›
Второй ‹...› в своей охране памятника не признавал никаких моральных запретов. Поэтому не гнушался и прямых доносов. Нет-нет, он строчил не в карательные органы, а в поместья гораздо более “изящные”. Всяк посягнувший на Хлебникова сталкивался с письмами Харджиева, направленными в архивы, издательства, музеи (там они и сберегаются до сих пор). С живыми носителями каких-либо сведений о Хлебникове было и того проще: они получали от вездесущего Николая Ивановича безапелляционную аттестацию любого конкурента как сексота. Чем яростнее новоявленный “хлебниковед” пытался смыть пятно подозрений и оправдаться перед запуганными “информантами”, тем гуще сплеталась паутина наветов. Биография Хлебникова написана не была, а сам девяностолетний Харджиев одиноко и безнадёжно глупо закончил жизнь в роскошной амстердамской яме, которую неустанно рыл другим. ‹...› орогой Давид Давидович!
орогой Давид Давидович!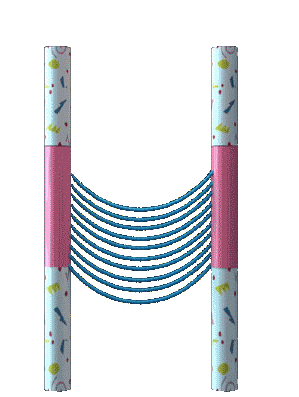 иколай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: „Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам”. Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.
иколай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы (что было бы ужасно!), если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил: „Это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам”. Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. Однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась.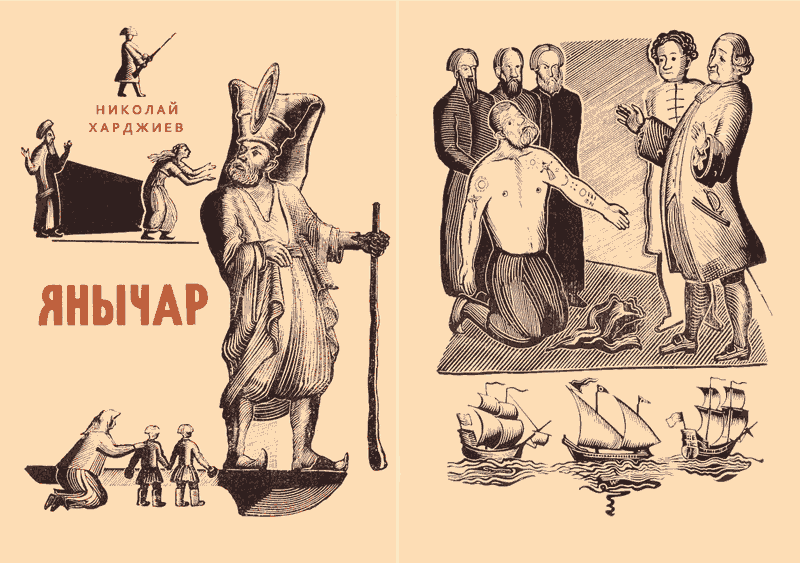
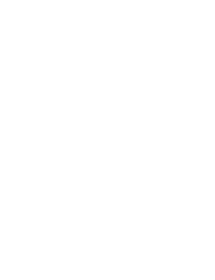 ерез две недели получаю открытку из Царицына. Писал Хлебников: — Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову.
ерез две недели получаю открытку из Царицына. Писал Хлебников: — Король в темнице, король томится. В пеший полк девяносто третий, я погиб, как гибнут дети, адрес: Царицын, 93-й зап. пех. полк, вторая рота, Виктору Владимировичу Хлебникову.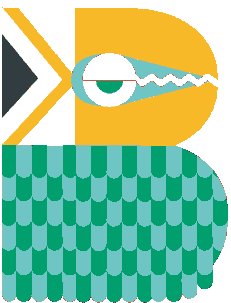 Гнесинском же институте некоторое время (в 1980-е годы) преподавал и Р.В. Дуганов.
Гнесинском же институте некоторое время (в 1980-е годы) преподавал и Р.В. Дуганов. Вначале я просто училась читать Хлебникова, потом начала писать статьи: каждая из них проходила “экспертизу” Р.В.
Вначале я просто училась читать Хлебникова, потом начала писать статьи: каждая из них проходила “экспертизу” Р.В.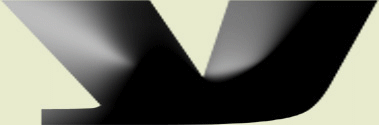 меня предвзятый подход к людям.
меня предвзятый подход к людям.  процессе экспериментально-психологического исследования я для изучения способности фантазии дал своему испытуемому три темы: охота, лунный свет и карнавал. В результате у меня оказалось три оригинальных произведения крупного художника слова, хотя и отмеченных печатью болезненного творчества. На первую была написана оригинальная сказка о зайце. Вторая тема явилась поводом для странного произведения, отмеченного, так сказать, кабалистическими увлечениями поэта. Третья тема даже вызвала к жизни небольшую поэму ровно в 365 строк. Автор выполнил её со свойственной ему виртуозностью в версификации, и указывает на это в следующих строчках: Сколько тесных дней в году, стольких строчек стройным словом я изгнанниц поведу по путям судьбы суровой. В оригинале, которым хранится у меня, эта поэма так и называется «Карнавал», и заканчивается ценным для меня посвящением. Как оказалось впоследствии, она была напечатана в собрании сочинений поэта под заглавием «Русалка». Во всяком случае, литературоведу, изучающему творчество Хлебникова, вероятно, будет небезынтересным узнать, как возникло это произведение. Что касается двух других, о которых я упоминал выше, мне неизвестно, чтобы они были напечатаны, и я позволяю себе их привести полностью, как образец патологического творчества. У меня имеются ещё три произведения поэта «Горные чары», «Лесная тоска» и «Ангелы».
процессе экспериментально-психологического исследования я для изучения способности фантазии дал своему испытуемому три темы: охота, лунный свет и карнавал. В результате у меня оказалось три оригинальных произведения крупного художника слова, хотя и отмеченных печатью болезненного творчества. На первую была написана оригинальная сказка о зайце. Вторая тема явилась поводом для странного произведения, отмеченного, так сказать, кабалистическими увлечениями поэта. Третья тема даже вызвала к жизни небольшую поэму ровно в 365 строк. Автор выполнил её со свойственной ему виртуозностью в версификации, и указывает на это в следующих строчках: Сколько тесных дней в году, стольких строчек стройным словом я изгнанниц поведу по путям судьбы суровой. В оригинале, которым хранится у меня, эта поэма так и называется «Карнавал», и заканчивается ценным для меня посвящением. Как оказалось впоследствии, она была напечатана в собрании сочинений поэта под заглавием «Русалка». Во всяком случае, литературоведу, изучающему творчество Хлебникова, вероятно, будет небезынтересным узнать, как возникло это произведение. Что касается двух других, о которых я упоминал выше, мне неизвестно, чтобы они были напечатаны, и я позволяю себе их привести полностью, как образец патологического творчества. У меня имеются ещё три произведения поэта «Горные чары», «Лесная тоска» и «Ангелы».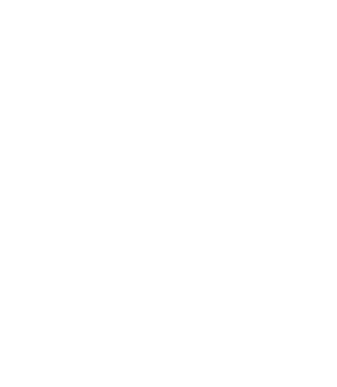 нфимовы появились в моей жизни почти одновременно, в 1983 году.
нфимовы появились в моей жизни почти одновременно, в 1983 году. А вот перечитывать заметки психиатра В.Я. Анфимова не тянет: В. Хлебников представлен в них образчиком Dejeneré supericur. При этом сам В. Хлебников считал В.Я. Анфимова не врачом, а сумасшедшим.
А вот перечитывать заметки психиатра В.Я. Анфимова не тянет: В. Хлебников представлен в них образчиком Dejeneré supericur. При этом сам В. Хлебников считал В.Я. Анфимова не врачом, а сумасшедшим.
 Беглецы унесли с собой высокие по тем временам понятия и познания: хатти имели развитую письменность и считаются изобретателями сыродутного способа выплавки железа.
Беглецы унесли с собой высокие по тем временам понятия и познания: хатти имели развитую письменность и считаются изобретателями сыродутного способа выплавки железа.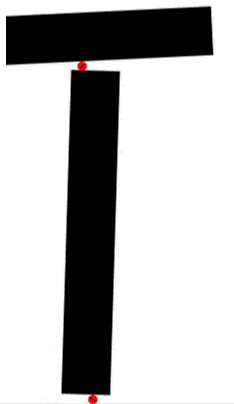 еоргий Борисович был драгоценный читатель, но мимоходом поминать его — всё равно что кукишем перекреститься, кощунство.
еоргий Борисович был драгоценный читатель, но мимоходом поминать его — всё равно что кукишем перекреститься, кощунство.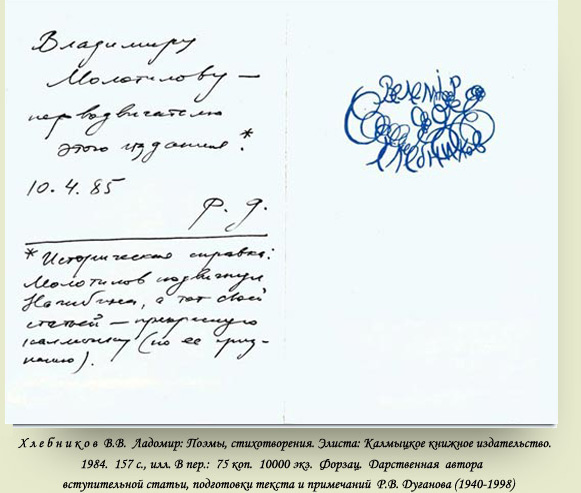 Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция.
Вышел сейчас толстый том — это ужасный хлам, чудовищная работа. Там такой Парнис, этот аферист вовлёк в эту историю всё-таки лингвиста Григорьева, который опозорил себя, потому что это чудовищное издание вышло через много лет после пятитомника Степанова, но через столько лет надо было приступить к изданию во всеоружии, умея и имея возможность исправить все ошибки Степанова. А они их повторили. Они пишут в предисловии, что это дело будущего. Но сейчас, через шестьдесят лет после издания, будущее уже настало. Так что это спекуляция на юбилее. К юбилею, кроме этого тома, вышло еще несколько мелких книжек Хлебникова, все они никуда не годятся. Это всё спекуляция. Это не вопрос, а игра в поддавки. Преткновение в другом: как поведёт себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?
Это не вопрос, а игра в поддавки. Преткновение в другом: как поведёт себя сотрудник ИМЛИ РАН Дуганов Р.В. на экспертизе арестованного 22.02.1994 в аэропорту Шереметьево багажа?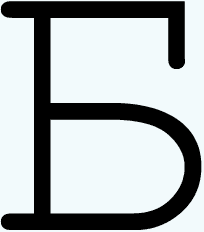 арбара Лённквист (Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku) на Хлебникова поле представлена исчерпывающе — раз, проложила тропу доброму десятку иностранцев — два.
арбара Лённквист (Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku) на Хлебникова поле представлена исчерпывающе — раз, проложила тропу доброму десятку иностранцев — два. огда-то Н.И. Харджиев подписал договор с ленинградским отделением издательства «Советский писатель» на подготовку тома Велимира Хлебникова в Большой серии Библиотеки поэта. Он потребовал, чтобы Н.Л. Степанов передал ему из рук в руки все чудом пережившие войну автографы, сохранившиеся у него после издания пятитомника. Работа предстояла сложная, и дотошный учёный мог обдумывать свои “окоёмные” прочтения (чтобы текст Велимира становился каноническим) только в тиши собственного крохотного кабинета. Если оставить в стороне пресловутую “каноничность”, в которую “наволочки” Хлебникова никто и никогда не осилит запихнуть, то я исследователя понимаю (дома работать куда сподручней).
огда-то Н.И. Харджиев подписал договор с ленинградским отделением издательства «Советский писатель» на подготовку тома Велимира Хлебникова в Большой серии Библиотеки поэта. Он потребовал, чтобы Н.Л. Степанов передал ему из рук в руки все чудом пережившие войну автографы, сохранившиеся у него после издания пятитомника. Работа предстояла сложная, и дотошный учёный мог обдумывать свои “окоёмные” прочтения (чтобы текст Велимира становился каноническим) только в тиши собственного крохотного кабинета. Если оставить в стороне пресловутую “каноничность”, в которую “наволочки” Хлебникова никто и никогда не осилит запихнуть, то я исследователя понимаю (дома работать куда сподручней).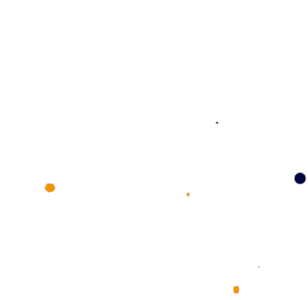 котоводам Ирландии скирды, стога и омёты из рукописей Вакха стояли поперёк горла: коров пасти негде, всё заставлено. Память у ирландцев хорошая, все песни Вакха они и так знали наизусть. Кто бы забрал — поможем вывезти, рассуждали пастухи и дояры.
котоводам Ирландии скирды, стога и омёты из рукописей Вакха стояли поперёк горла: коров пасти негде, всё заставлено. Память у ирландцев хорошая, все песни Вакха они и так знали наизусть. Кто бы забрал — поможем вывезти, рассуждали пастухи и дояры.