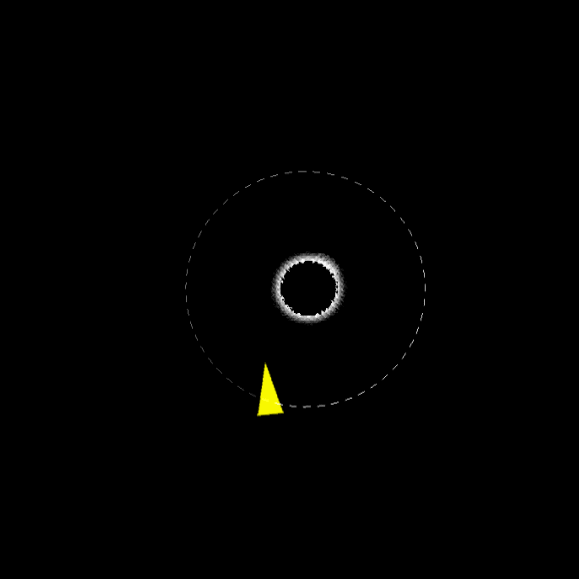В. Молотилов
Заступиться за Парниса
Продолжение. Предыдущая глава: 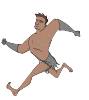
2. Святое семейство
(продума деебна)
Джону Э. Боулту
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
В. Маяковский. Во весь голос.
 ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь.
ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь. Какие такие пряжки, недоумеваю в ответ. Ни на мостике, ни под мостиком, а разинские челны не в счёт. Разин меня превзошёл, как Хлебников Пифагора: загранплавание, а не сухопутные турусы на колёсах.
И кого это Разин превзошёл в качестве тебя, язвит вопрошатель. Иван Грозный, отвечаю, был выблядок Елены Глинской от Овчины Телепнева-Оболенского, а меня царица Соломония в келье родила. И этот ни разу не рюрикович гонялся за мной, пока не издох от спинной сухотки. А я как заговорённый. Вот и прозвали Кудеяр.
Ладно, пошутили. Но служебная лестница действительно повисла в воздухе: мичман, капитаны III, II, I ранга, контр-адмирал, адмирал, адмирал флота, главвоенмор, Нептун. Другие по живому следу пройдут мой путь за пядью пядь, и кончим этот разговор. Лучше я спрошу тебя: что будет, если поженить Нептуна и Лилию Вьюгину? Затрудняешься? Ну так знай: как посмотреть на обледенение снастей, так и будет. «Фрам» Фритьофа Нансена вмёрз в ледовый плен, хорошо это или плохо? На взгляд из кубрика — хуже некуда, по мнению папанинцев — лучше не бывает: доказано широтное течение с востока на запад. Гегель именно такие заморочки называл отрицанием отрицания, дорогуша.
Отодрав от Лилии Вьюгиной влюбчивого Нептуна, перехожу к предмету всеобщего вожделения, правде-матке. Достоверность слегка о другом: нас возвышающий обман. Достоверность, достоевщина. Лилия Вьюгина скорее приземляет зрителя, чем тянет за уши. А вы пройдитесь по её сайту, пройдитесь. Ну вот, что я говорил: правда, правда и ещё раз правда.
Как все тут знают, Велимир Хлебников калёным железом выжигал из русской речи заёмные внедрения. Фильм → деймо, съёмки фильма → деебен, сценарий → продума, сценография с элементами балета → плясьмена, музыкальное сопровождение → свистогрёз, режиссёр → указуй, кинозал → созерцог, просмотр фильма → созерцины, кинокритик → судри-мудри. Что слышит русское ухо в заёмном внедрении режиссёр? Слышит жидкий обсёр (Ю.М. Нагибин о воплощении его продум) и сворачивается в трубочку, продолжая неотрывно глазеть на указуевы затеи, о чём битый век бьёт в набат часовой у русского подъезда:
Языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал.
В. Хлебников. Предложения. 1915, ‹1918›
Волнующий общеазийский разум, который должен выйти из тупиков наречий, и связанная с ним победа глаза над слухом ‹...›
В. Хлебников. Ка2. ‹1916›
Вьюгинские затеи предварю мнением об указуях, лично мне доверительно знакомых: Вера Павловна Строева (1903–1991) и Марианна Григорьевна Рошаль-Строева, она же Рошаль-Фёдорова (1925–2022). Мать и дочь. Дочь подослала к матери под видом передачи гостинца, отдарок вышел боком: потеряла рукописи из архива Романа (Рудольфа) В. Дуганова (1940–1998). Выдано для передачи важному лицу, а я вверил Вере Павловне. Случай описан в «Исправлении имён» столбиком, пересказывать не хочу и не буду, а воспроизведу выдержку из пояснительной записки.
‹...› Да, вот ещё по какому завету Чернышевского жили на Большой Полянке: безотказно помогай всякому, кто знает наизусть хотя бы пару строк Бориса Леонидовича Пастернака.
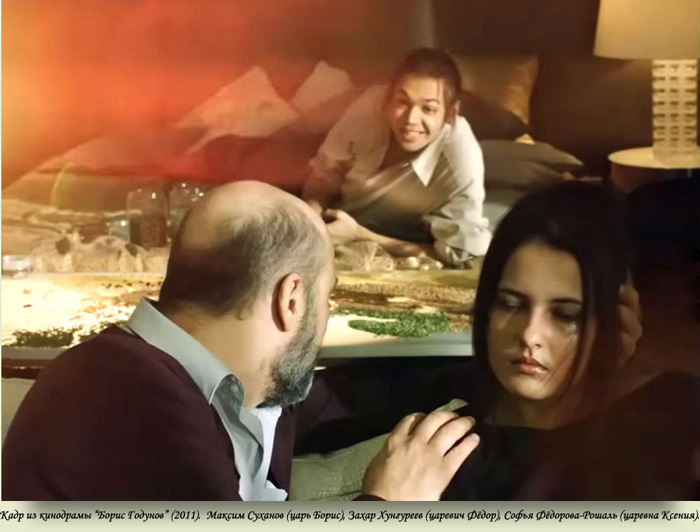
Велимира Хлебникова допускалось не знать и пары слов, достаточно склонить голову перед его светлой памятью. И вот однажды Дуняша отпирает дверь на звонок, а там табор не табор, но довольно-таки много чемоданов, баулов и корзинок в придачу к трём незнакомцам — семье, судя по наличию ребёнка. Пустите, говорит глава предполагаемой семьи, пожить на полтора месяца, нам больше некуда податься.
Привычная Дуняша зовёт хозяйку: вот, полюбуйтесь. Понаехали тут. Но Вера Павловна неожиданно приглашает незваных гостей внутрь среды обитания: отмывайте паровозную гарь. Вдруг, говорит, и узнаю кого-нибудь. Ба, да он Пастернака читал мне в Астрахани. Гриша, поди сюда. Появляется не весьма довольный разговорчиками в передней дважды лауреат Сталинской премии: тружусь не покладая рук над государственного значения
деймом, прошу не вредительствовать. Гриша, он Пастернака читает не хуже Яхонтова, хочешь сравнить? И так верю, бурчит Рошаль голосом Карлсона, который живёт на крыше, и порывается скрыться в работу: мало ли кто читает Пастернака не хуже Яхонтова. Сейчас, думает, я покончу с этим сумбуром — и возвращает Вере Павловне её вопрос: а Хлебникова он тоже читает не хуже Яхонтова?
И тут у приезжего голова рывком падает на грудь: срезался, думает. Где я вам в этой Астрахани возьму Хлебникова, днём с огнём не сыскать. Но Григорий Львович вдруг подлетает к нему заключить в порывистые объятия, даже целует. О причине говорено выше, повторяться не буду. И незваные гости превращаются в званых, чуть не родственников.
В. Молотилов. Исправление имён. Из книги «Велимир-наме».В доверенные лица Марианны Григорьевны я попал через её мужа Георгия Борисовича Фёдорова (1917–1993) на даче в Климовске, где они тихо доживали остаток дней своих. Оба похоронены в Лондоне, как ни странно. Это дяде с улицы странно, вскоре объясню. Никто, включая Юлия Кима, не доложил о чете Фёдоровых-Рошалей в подробностях. Дело поправимое.
‹...› поминать его мимоходом — всё равно что кукишем перекреститься: кощунство. Но когда речь идёт о воспитании подрастающего поколения, нужны примеры и образцы. Временно беру свои слова про кукиш назад.

Георгий Борисович постоянно рассказывал мне о людях, с которых стоит делать жизнь, просто жизнь. Или жизнь учёного. Или жизнь борца с несправедливым общественным устройством.
Жизнь обличителя самовластительных злодеев, например, стоило делать с Прокопия Кесарийского (ок. 500–после 562). ‹...› Тоже борьба с несправедливостью, но шляпу с головы почему-то не сдувает. Георгий Борисович преклонялся перед бойцами с открытым забралом — Ильёй Габаем (1935–1973) и Вадимом Делоне (1947–1983), но сам шёл дорогой Прокопия. Хороша дорога, кабы не ухабы. В общем, заставили поднять забрало ‹...›
Когда мы познакомились, Георгий Борисович уже складывал из кусочков главную свою книгу «Неимей Сторублей». Этот Неимей где только не бывал, кого только не знавал. Вот он состарился, безвылазно сидит на даче и вспоминает былое. Вслух. Слушателей полон дом, особенно летом. На них былое обкатывается, а потом ложится на бумагу.
Гостей полон дом, но слышно, как муха пролетит. Затаив дыхание. Небывалый устный рассказчик. Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990) значительно уступает, значительно.
Я пробовал записывать на ленту — не то. Ума не приложу. Шелест привода отвлекал? Затаить дыхание звукозаписывающее устройство не может: стрелки дёргаются, и всё такое. Целую бобину Георгий Борисович наговорил. Проверяем качество. Тишина вместо качества: я забыл нажать кнопку записи. Ничего страшного, утешает слегка понурый сказитель, есть повод ещё разок обкатать.
И повторил свою сагу «Donald Maclaine». Дословно или нет, не берусь утверждать. Было стыдно за своё разгильдяйство и страшно: а ну и на этот раз облом. Больше я к нему с этим делом не приставал, довольствуясь чужими записями: воспоминания о Всеволоде Иванове из их числа.
В общем, не давали Георгию Борисовичу житья любознательные бездельники вроде меня. Когда, спрашиваю, вы вообще пишите-то? C утра пораньше, отвечает, когда все спят.
Лично я видел, что с утра пораньше гости рассаживаются якобы завтракать, и это надолго. Затаив дыхание, муху летом слышно. Я встаю в пять, но совесть надо иметь, вытерпи хотя бы до девяти. В девять садились завтракать со всем вытекающим.
И всё-таки не верилось, что в Лондоне Георгий Борисович развернётся со своим Неимеем. Развернулся, ещё как. Смена языковой среды: они же англичане. А кто ценит устные сказания, почему-то моет посуду в пабе.
Развернулся, ещё как. Давно надо было уехать. Гоголь где писал «Мёртвые души»? В Риме, где по-русски говорила одна-единственная живая душа, художник Александр Иванов.
Жить бы да жить в Лондоне. Дома у Георгия Борисовича восемь раз мертвела и рубцевалась сердечная мышца, девятый вал накрыл на Темзе. Двух лет не поработал в полную силу как писатель.
В. Молотилов. Лора Воспоминатели дружно замалчивают крестик на всегда распахнутой груди.
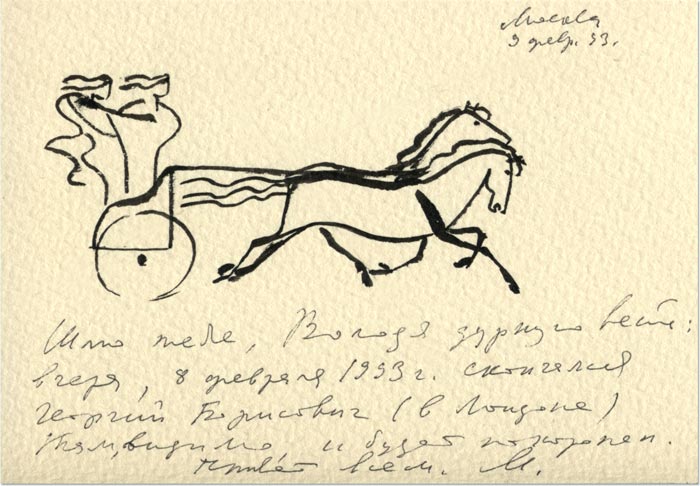
Помню даже два крестика разом — один кипарисовый, из Иерусалима. ‹...›
За непочтение к портянкам с тараканами окрестили его истиннорусские люди жидо-масоном. Если враг не сдаётся — его уничтожают.
Дачный лесок. Тихое место, по совету врачей (eight old myocardial infarction and two pulmonary edema). Заборчик от зайцев. Да это же Куликово поле, догадались истиннорусские люди.
Двое молчаливых парней в телогрейках и резиновых сапогах ничуть не мешали моему последнему свиданию с другом. Добровольная охрана. Без оружия. Единоборцы у-шу. Литые бахилы легко стряхнуть с ног. Слово ‘ножны’ вдруг заиграло новым смыслом.
Младший был волосат и губаст, старший — вызывающе русоволос. Огнестрельное оружие имелось, но только у хозяина дома. Он сказал мне, что дёшево жизнь свою не отдаст, и показал ракетницу. Начальник Прутско-Днестровской археолого-этнографической экспедиции списывал не одни лопаты и спирт, чего уж там ‹...›
Юрий Дружников. Тайна погоста в Ручьях (возражения В. Молотилова)Свёл нас Май Митурич (образчик почерка см. выше), но благословил мир иной. Дело было так. Вот я проник в Новодевичье, приник к губам каменной бабы над останками Велимира Хлебникова и описал ощущения столбиком. Проник не то слово: проследовал. Май доверял мне и не такое, ребятки. Возвращаю пропуск, и он спрашивает:
— Знаете, Володя, чьих рук дело эта каменная баба?
— Половецких, — отвечаю.
— Я не о том, чьими трудами?
— Ну и чем же, — спрашиваю спустя ответ, — этот археолог Фёдоров нынче занимается?
— А ничем, раков ловит.
— Зимой?
— Ну вот, — улыбается, — и найден повод наведаться, вызнать и доложить.
Даёт позывные, звоню, и понеслось. Археолог Фёдоров тотчас признал во мне родственную душу (поминальная песнь Соломону Михоэлсу много тому способствовала) и уверил себя, что разделю судьбу если не Вадика (чуть ниже), то Эмки (терпение, мой друг) уж точно. Стихи же оценил как-то снизу вверх: это всё останется. Ещё как осталось: отыскал-таки, роясь в окаменевшем дерьме.
| Здоровый образ жизни | Письмо в Климовск | |
| | | |
| Пустая чаша дом, доступный всем, | Не кривляка по строчечной сути — |
| Кто не вступает с властью в сделки. | Просто женщина милостью божией. |
| Блюдут гэбэшные досье | Дорогой мой, не обессудьте, |
| Свободу стопки и тарелки. | Я давно не Лукреция Борджиа. |
| | Рубинштейн мне образчик Ида, |
| Единогласно дрябла б кожа, | Бёдра только вот не нагие |
| Да наособицу рубец. | И другое в глазах — обида: |
| Рубец не дрябнет, с ним ты чуть моложе. | Ваши гостьи — мои врагини. |
| Омоложенье шрамами сердец. | Я не Ида, не Ева, мой милый, — | |
| | Ни серьги, ни сурьмы, ни румян щеки. | |
| А у него таких отметин восемь. | И пускай умыкают силой | |
| Он молод сердцем, это не слова. | Наглецы, подлецы и обманщики: | |
| Жена и тут была права: | Всё равно я тургеневской девушкой | |
| | Нàзло Вам собираюсь топиться. | |
| Кровоснабженье удалось им | Сочинительство? этому ... где уж ... Кой |
| Наладить не трусцою вовсе — | Мне чёрт пить из козья копытца. |
| Там отрицаньем зла трясётся голова. | Ну пришлите что-нибудь резкое! |
|
| 1990 | Мозг заласкан так, что одряб. |
| | И тоскует в нём деревенское, |
| | Городского не оборя. |
| | Напишите. Тогда Валькирией |
| | Кладенец нацеплю мечину, |
| | Ох пойдут слова — волоки, реви! |
| | Я люблю Вас, чужой мужчина. |
| | 1984, 1988 |
Дружили семьями, даже в моё отсутствие. В один из таких непарных наездов Георгий Борисович под видом бывальщины о судьбе Ирины Белогородской-Делоне (род. 1938) подарил слушательнице костыль на хождение по мукам: жена поэта — труднее доли не сыскать, Таня.
В декабре 1966 г. я был отправлен на несколько недель в психбольницу

за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провёл в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. ‹...›
21 августа утром я узнал, что советские танки вошли в Прагу. Невыносимым было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну. На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья — жгли самиздат, ожидая обысков…
25 августа с моими друзьями я вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и снова был арестован. На этот раз я был приговорён к трём годам уголовных лагерей. ‹...›
Я жил в Москве, но не у себя дома, скитался по квартирам друзей. За мной по пятам ходили то наряды милиции, то работники психдиспансеров. Я не хотел, чтоб они терзали моих родных бесконечными расспросами о том, что я делаю и с кем встречаюсь. В Москве в любом отделе кадров немедленно обращали внимание на особую отметку в паспорте — судимость.
Я уезжал на раскопки в археологические экспедиции, оформлялся уже на месте в глухих местах, дабы не подводить рекомендовавших меня знакомых учёных (разрядка моя. —
В.М.). Все исхищрения эти нужны были, чтобы представить в милицию справку о том, что я тружусь на благо социалистической родины. Отсутствие такой справки могло незамедлительно повлечь за собой арест и год лагерей по статье о так называемом тунеядстве.
Вадим Делоне. Портреты в колючей раме.
https://www.vadim-delaunay.org/prose Летом 1972 г. совершенно чудесный человек Георгий Борисович Фёдоров отправил нас с Вадимом в археологические экспедиции в Молдавию и Карелию.
Ирина Белогородская-Делоне. О жизни в России
https://www.vadim-delaunay.org/about Я познакомился с Вадимом в 1967 году в Институте этнографии АН СССР на вечере поэта и драматурга Юлия Кима. Именно Юлий и свёл меня с Делоне.
21 июня 1968 года я повёз Вадима в Красную Пахру на дачу к Твардовскому, где многолюдно отмечался день рождения Александра Трифоновича, в те годы ещё возглавлявшего «Новый мир». После застолья, когда гости разбрелись по участку, немногословный Твардовский кивнул Вадиму и сказал: „Читай стихи”. Вадик, запинаясь от волнения, прочёл несколько своих стихотворений. Александр Трифонович произнес: „Поэт”, — и величественно удалился. ‹...›
Перед отъездом Вадим заходил к нам с женой прощаться. Он метался по комнате, плакал, читал последние свои стихотворения.
Из воспоминаний Г.Б. Фёдорова
https://www.vadim-delaunay.org/about
А Таня блудит как мартовская кошка, и в разгар бесхлебья середины 90-х бросает меня с двумя детьми на руках: здравствуй, Канада. Осуждать и не подумаю, но даже спустя четверть века мороз по коже: хотела, говорит, я соблазнить твоего Митурича, да Ирину пожалела.
Так вот, Марианна Григорьевна поначалу держала меня за ордынского баскака, но это поначалу. Поняв, что под видом сбора дани лезут в подоплёку, забеспокоилась. Муж после шестого (или седьмого, не суть) по счёту рубца на сердечной мышце, а туда же: немедленно приезжай и гости, сколько душа вместит. Лиле Вьюгиной понравилось бы такое? Указуихе-то? До того Марианну Григорьевну мои наезды достали, что как-то зимой в мороз велела ходить на двор, удобства переклинило, дескать. Ходил как миленький, у Марианны Григорьевны не забалуешь. И это правильно, судя по ученице.
Динара Асанова (1942–1985). Начинала у М.Г. Рошаль-Фёдоровой монтажницей. Вот с кого следовало бы делать жизнь указуям на всамделишную бывальщину — с Динары. Стыковка правды и выдумки — но так, чтобы зритель эти стыки проморгал. Как двадцать пятый кадр, но без проплаченного коварства.
В Сети десятки дублей послужного списка Марианны Григорьевны, низкопробная отсебятина до единого. Не верите Гайве — поверьте Альбиону:
Этим вечером вам представится уникальная возможность встретиться с режиссёром и писательницей, свидетельницей и активной участницей развития отечественного кинематографа времен Эйзенштейна, хрущевской “Оттепели” и брежневского застоя.

Рошаль-Строева Марианна Григорьевна, всего на год старше нашей королевы Елизаветы II, родилась в Москве в творческой семье режиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой.
В 1942 г. поступила на режиссёрский факультет ВГИКa, на время войны эвакуированный в Алма-Ату, Казахстан. Становится ученицей Сергея Эйзенштейна.
Окончив ВГИК в 1948, несколько лет посвящает созданию хроникальных и научно-популярных фильмов. В 1949–1954 годах — режиссёр киностудии «Моснаучфильм» и аспирантка Института истории искусств.
После смерти Сталина появляется возможность снимать художественные картины, и в 1954 году на Мосфильме и Одесской киностудии по рассказу Куприна снимает фильм «Белый пудель».
В общей сложности Марианна
сняла 30 документальных (разрядка моя. —
В.М.) и несколько художественных фильмов.
С 1967 г. занимается журналистикой, литературными переводами, совместно с Г.Б. Федоровым написала роман «Игнач Крест». Член Гильдии кинорежиссёров и Союза писателей России.
С 1991 г. живет и работает в Лондоне.
Анонс живого диалога с Наташей Рубинштейн,
Anglo-Russian culture club.
Видите этот мешочек с биркой? Не ломайте глаза, вот пояснительная записка:
По возвращении в Москву, Сергея Михайлович закончил съёмки второй серии «Ивана Грозного». Он ещё надеялся на успех. Он даже подарил мне 42 прекрасные большие фотографии кадров из фильма в роскошном парчовом бюваре.

На первой фотографии была надпись красными чернилами „Дорогой Маечке в наш общий день рождения. С любовью” и дата — 1945. Однако в Москве его ждал один удар за другим. Мало того, что вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, а негатив приказано было смыть (только отчаянная смелость Фиры Тобак, монтажёра фильма, помогла спасти одну копию, которую она спрятала у себя дома), Эйзенштейна заставили публично покаяться в том, что он искажал историю, очернял опричников. Его лишили права преподавать во ВГИКе. В результате первый инфаркт. Я в это время снимала свою дипломную работу по мотивам пьесы американских драматургов «Глубокие корни» о дискриминации негров, героев второй Мировой войны, что очень напоминало разгул антисемитизма у нас в те годы. Узнав об этом, Эйзенштейн прислал мне в подарок американскую открытку с изображением улыбающегося негритёнка и надписью „В знак глубоких корней нашей дружбы”.
23 января 1948 года Эйзенштейн плохо себя чувствовал, и мы с мамой приехали поздравить его с днём рождения к нему домой. Сергей Михайлович заранее приготовил для меня подарок — старинную бисерную сумочку, к которой ленточкой была привязана его американская визитная карточка. На ней он написал: „Дорогая сверстница! не в пример учителю никогда не мечите!” Я строго соблюдала его завет и никогда не метала бисер перед свиньями.
М.Г. Рошаль-Строева. Война и эротика в рисунках Эйзенштейна 1923–1948.
Вестник Европы, №25, 2009
Так вот, бисера вразмёт я не видывал до тех самых пор, пока Марианна Григорьевна не уверовала. Не знаю как в молодости, а на излёте жизни Георгий Борисович был мало сказать православный — человек святой жизни, праведник. А любимая (так и называл) — афейка. Если не подтрунивала, и на том спасибо. И вот я нагрянул к ним в очередной раз — родная мать не всякого так встретит. Уверовала. Подробности опускаю, потому что пришла пора объяснить Лондон: чёрная сотня приговорила Г.Б. Фёдорова к смерти. Уже было на врезке, но без важной подробности: стоило афейке уверовать — ангелы-хранители тут как тут. Под видом парней в резиновых сапогах на босу ногу, чтобы мигом скинуть и вмазать пяткой в пятак. И всё бы хорошо, кабы ангелы не отлучались круглые сутки, а соглядатаи притупили бдительность. Пришлось податься в Лондон. Как тот Герцен, который не Копылов.
А в августе 1969 года мы с папой съездили в археологическую экспедицию, и это было здорово!
Но надо сначала пояснить, что это были за археологи. Был такой Георгий Борисович Фёдоров, тогда уже ему было около пятидесяти, а умер он — да будет память его светла! — году в 2000, на девятом или десятом инфаркте. За пару месяцев до его смерти я навещал его в больнице, так что лет тридцать мы поддерживали отношения. Он ещё и писал, и его сборники археологических рассказов около десятка раз выходили в разных издательствах, а сборники были классные!

Они назывались «Дневная поверхность», «Возвращённое имя» и ещё как-то. Может, кто-нибудь помнит? ‹...›
Так вот, Коржавин (или Эмка Мандель, как его неизменно называл Георгий Борисович), был студенческим другом ГБ (так неизменно называли Георгия Борисовича). Именно он открыл длинный счёт тем гонимым, которые находили приют в экспедициях ГБ: как начальник Приднестровско-Молдавской экспедиции, он имел право набирать любых рабочих и специалистов, то есть избавлять массу достойных людей от клейма тунеядцев и увозить их почти на полгода от внимания органов. Можно было работать рабочим, а можно — любой гуманитарий за это брался — лаборантом или архивариусом. Художники-абстракционисты и концептуалисты — строили планы разрезов и вырисовывали находки в профиль и фас. А совсем чудесное чудо я наблюдал в конце августа, когда сезон сворачивался, и к одному ничем не приметному человеку, приехавшему с нами из Москвы, начальники всех раскопов снесли весь найденный массовый костный материал (кучи обломков костей — размерами от 2 до 10 см), и он за полчаса раскидал их в пять кучек по принадлежности — овцы, козы, коровы, олени, бобры. Берёт осколочек размером со спичку, пролежавший в земле 800 лет, вертит его в пальцах, и кладёт в кучку зайцев.
Это было нужно для наведения статистики — чем в основном питались древние тиверцы, одно из славянских племен 11–12 веков, которых открыл ГБ — и потом все кости смели в отвалы, но такую чёткую работу остеолога я видел в первый и последний раз в жизни. А кто он, отчего был гоним, почему провёл весь месяц, работая землекопом — как говорится, ignoramus et ignoramibus (то бишь, не знаю, и никогда не узнáю).

В экспедицию! В экспедицию — и мы приехали из Дубны на Савёловский вокзал с тяжёлыми рюкзаками, взяли такси до дома ГБ, и когда я спросил, далеко ли он, папа твёрдо сказал, что очень далеко. А это был академический дом на Университетском проспекте, между Ленинским и Вавилова, и мимо него я потом проезжал почти каждый день, теперь это почти центр Москвы.
У этого дома стоял грузовик ГАЗ-66, его нагружали ящиками с окованными краями и рюкзаками, суматоха. Грузовик очень интересный: у него кузов под брезентовым навесом открыт спереди, и две или три поперечных доски тоже в передней части кузова, а все грузы навалены сзади. Мы сидим и смотрим вперёд, и ветер бьёт в лица, и до Молдавии три дня такой дороги.
Чем больше я сейчас вписываюсь, тем чётче воспоминания. Едем ещё по Москве, я — большой энтузиаст железных дорог — вижу вдали поезд и тихонько говорю папе: „Смотри, поезд”. И тут же, как будто услыхав, ГБ поворачивается к папе и говорит: „Не экспедиция, а детский сад!”. Я вспыхиваю от обиды, тем большей, что она совершенно заслужена — потому что я понимал в одиннадцать лет, что моя страсть к поездам есть пережиток детскости, атавизм… Как неловко я выдал себя! Какой он издеватель, этот грузный, хотя и симпатичный человек!
А он имел в виду и меня, и несколько студентов, и своего сына Мишку Рошаля (впоследствии художника-нонконформиста, автора “железного занавеса”, снимавшегося у Соловьёва в «Ассе» — занавес снимался, занавес, а не Мишка). Мишке уже 14–15, он абсолютно недоступен для общения с пухлым ребёнком, глазеющим на поезда на горизонте, он едет с подругой ослепительной красоты, на которую я, кажется, всю экспедицию не смею глаз поднять (тем более, что я понимаю обострённым восприятием, что не просто она ему школьная подруга). Мать его — кинорежиссёр, дочь классика советской кинематографии Григория Рошаля (то, что он классик 30-х гг., я знаю, конечно, только из рассказов старших).
Добравшись до Ясной Поляны, мы идём на могилу Толстого (в следующий раз я попадаю туда только в 2003 г.), а ночуем под Орлом, в танковом окопе — их много ещё осталось в тех местах от Курской битвы…
Копылов, Геннадий Герценович (1958–2006). Об археологической экспедиции
с Г.Б. Фёдоровым (неоконченное)
Никогда не спрашивали, где добываю телесное пропитание, а надо бы: подозрительно часто бываю в столице, и свободного времени навалом. Уже не боялись засланных казачков? И Дуганов не сообразил удивиться, с какой стати Молотилов битый месяц баклуши бьёт в Реутове. В челомеевском Реутове! А ведь к Дуганову именно я и был засланный казачок, именно я. Подробности значительно ниже, ибо возвращаюсь к вьюгинскому сайту-визитке.
Рука бойцов колоть устала: Юло Соостер, Александр Годунов, Илья Кабаков, Евгений Клячкин, Геннадий Шпаликов, Вероника Долина, Наталья Медведева, Владимир Высоцкий, Йонас Жямайтис (Витаутас), Алексей Макарович Смирнов. Алексей Макарович матюгами на подземников Жямайтиса крышку гроба разнёс к чёртовой матери, не то Георгий Борисович: рука братской помощи народам Прибалтики, как же, как же, помним, помним.
Внимание: в Лондоне (Рим Николая Васильевича Гоголя, не отрекусь) Георгий Борисович доверил-таки бумаге свои бывальщины о самой жуткой поре молодости, боестолкновениях в Литве. Если уж на мне чуть не каждый вечер обкатывал, что говорить о Юлике или Саше. Но Юлик укатил в Палестину, а Саша, хотя и не повторил судьбу Федотова и Врубеля, но вроде того: Георгий Борисович резко возражал на моё заступничество. Не весьма искреннее, признаться: припозднились мы как-то наверху (пол недавно перебран молдаванами, замечу впрок), так этот Саша до утра бодрил возвратно-поступательными подробностями своих амуров и ужастиками о попытках отравить его и маму, согласно которой он вправе махнуть вслед за Юликом на гораздо более законных основаниях. Никуда не махнул — раз, доктор биологических наук и профессор — два: Георгий Борисович как в воду глядел.
Подначиваю Лилию Васильевну Вьюгину на фёдоровский деебен, давным-давно смекнули догадливые проницатели. Предлагаюсь даже как голос за кадром для раскрытия подлинной причины убытия в Англию. Засвеченные воспоминатели менее осведомлены, сейчас докажу.
В последние годы своей жизни в России я подружился с замечательной семьёй. Глава её, Георгий Борисович Фёдоров, среди своих — ГэБэ, был известным археологом и писателем, автором многих книг, из которых самой популярной была в то время «Дневная поверхность».

В аннотации к последней прижизненной книге Георгия Борисовича «Басманная больница», вышедшей в 1989 году, когда я уже давно жил в Израиле, говорится: „Доктор исторических наук Георгий Борисович Фёдоров посвятил свою жизнь истории Подунавья и Приднепровья, участвовал в раскопках древнего Новгорода”. Эту книгу он прислал мне с оказией в Иерусалим с трогательной надписью: „Любимому другу Боре Камянову сквозь годы, тысячи километров, границы и всё остальное с неослабевающей любовью”.
ГэБэ был, возможно, первым абсолютно свободным внутренне человеком из всех встреченных мною в жизни. Он брал с собой в экспедиции, на раскопки, гонимых властью знакомых и незнакомых людей, в том числе освободившегося из лагеря Наума Коржавина, опального историка Александра Некрича, диссидентов Илью Габая, Вадима Делоне, Веру Лашкову, что спасало их от преследований по обвинению в тунеядстве. Работал у него одно время землекопом и Саня Тихомиров. ГэБэ дружил с открытыми противниками режима, подписывал письма протеста; на кухне его просторной квартиры недалеко от метро «Академическая» можно было встретить самых разных людей, которых объединяло одно: они были интересны хозяевам, любимы ими и отвечали им взаимностью. ‹...›
Когда я познакомился с этой семьёй, Майя уже оставила работу в кино и занималась переводами: в начале войны Георгий Борисович был тяжело контужен, впоследствии перенес какое-то неправдоподобное количество инфарктов — что-то около десятка, он сам перестал вести им счёт — и в годы моего общения с ним нуждался в постоянном уходе. ‹...›
Георгий Борисович и Майя в начале девяностых годов перебрались в Лондон, куда ГэБэ был приглашён читать лекции студентам. 7 февраля 1993 года он скончался. Майя осталась в Англии, я пытался установить с ней связь, но безуспешно.
Борис Камянов. Из будущей книги // Иерусалимский журнал, №38, 2011. В последние годы Учитель отошёл от активной археологии. Вначале его грубо отстранило от экспедиций московское академическое начальство, затем ушли своими жизненными путями его молдавские ученики ‹...› Учитель много писал уже как профессиональный писатель.

А “гений Алчедара” не исчезал — им был наполнен его дом в Москве, затем в подмосковном Климовске.
И о тех людях, что продолжили экспедицию, ни разу не побывав в ней — друзьях Учителя всех возрастов, — надо писать отдельно, писать очень серьёзно, ибо его дом был подлинным очагом русской культуры весь долгий сезон безвременья и социальной слизи, окутывавшей нашу жизнь.
Последний раз я видел Учителя 15 мая 1990 года — на его дне рождения. Он сидел во главе сколоченного из досок длинного “экспедиционного” стола. Стол был шумным и весьма нетрезвым; несмотря на все ухищрения его жены Майи, Учитель не упустил и свои “пару глотков свободы”.
Ему исполнилось семьдесят три года, за плечами было восемь инфарктов (а может, и десять; Учитель сам сбивался со счёта, припоминая их по годам), инсульты, фронтовая контузия с травмой позвоночника, жестокая почечная болезнь... В тот год Фёдоров отпустил усы. „Зачем это, Учитель?” — воскликнул я, увидев седую и сердитую щёточку под носом. „Стоят ещё монастыри в Гвадалахаре!” — горделиво ответил он, мушкетёрским жестом пытаясь подкрутить кончики этой щёточки. Фраза была из его исторического романа, который в те дни он заканчивал вместе с Майей.
Потом Учитель уехал в Англию — читать лекции. Спустя год я получил от него посылку с книгами великих русских мыслителей, философов, историков, издание которых было немыслимо в СССР. Учитель организовал их издание “там”. Подобные посылки пришли многим.
А потом он умер — от девятого, десятого или одиннадцатого инфаркта. Умер в Англии, и теперь уже никогда не умрёт в России.
Владимир Левин. Дневная поверхность памяти.
Насчёт молдавских учеников ещё будет сказано, вот предварение:

чень просто пронюхали: черезъ нашего крота въ Лондон
ѣ. Заднимъ числомъ нетрудно угадать осв
ѣдомителя. Кимъ Филби до 1949-го находился въ Стамбул
ѣ, а потомъ пере
ѣхалъ въ Вашингтонъ — сей отпадаетъ; Дональдъ Маклейнъ до 1950-го работалъ в Каир
ѣ — отпадаетъ. Остаётся Гай Бёрджессъ, чиновникъ по особымъ порученiямъ Foreign Office, агентъ лондонской резидентуры ИНО НКВД съ 1935 г.
Кима Филби Георгiй Борисовичъ терп
ѣть не могъ за моральную нечистоплотность: воспользовался безпробуднымъ пьянствомъ соотечественника и увёлъ красавицу-жену. Съ досады московскiе друзья вырвали Дональда изъ объятiй Бахуса. Оказалось не такъ и трудно: Бахусъ безъ грудастыхъ подавальщицъ и козлоногихъ виночерпiевъ слабенекъ. Не то что нашъ зелёный змiй, вопреки всему и вся живородящiй неизбежную белочку. Филби остался на бобахъ: изм
ѣнница и новоявл
ѣнный трезвенникъ возсоединились ко всеобщему ликованiю.
И всё это благодаря пережиткамъ общиннаго сознанiя даже у потомственныхъ (Өёдоровъ-дедъ выслужилъ генерала казачьей управы) россiйскихъ дворянъ: въ чопорной Англiи не принято вм
ѣшиваться въ личную жизнь ближняго, а въ Россiи-матушк
ѣ этому предаются по любому поводу и безъ мал
ѣйшаго зазр
ѣнiя сов
ѣсти. „Ваша безцеремонность спасла мн
ѣ жизнь”, — отчеканилъ Дональдъ Дональдовичъ, надписавъ Жор
ѣ Өёдорову «British Foreign Policy since Suez», только что изданную на родин
ѣ.
У нихъ такъ: уличёнъ ещё не значитъ изобличёнъ. Н
ѣтъ приговора суда — н
ѣтъ преступленiя. И управляющiй лорда Маклейна безпрепятственно переводилъ ренту отъ насл
ѣдственнаго шотландскаго пом
ѣстья въ Москву на имя Mарка Петровича Фрейзера, и тотъ получалъ ея въ чекахъ Внешпосылторга.
Вотъ я прикинулъ на ладони в
ѣсъ указаннаго выш
ѣ перла издательскаго вкуса и такта (припечатка мелкимъ кеглемъ „suspected in espionage in favour of USSR”), и предлагаю Георгiю Борисовичу омыть звуковыми волнами твёрдый носитель, благо принадлежности заблаговременно прiобр
ѣтены.
— Давай, — въ сей же часъ соглашается тотъ, и я включаю лентопротягу.

Замри, мгновенье. Надо пояснить, что значитъ заблаговременное прiобр
ѣтенiе: утромъ ходили покупать. На мои, плохого не подумайте. Да ему и не продали бы. Помните дождевикъ, въ которомъ Орестъ Верейскiй засталъ археолога Өёдорова времёнъ хрущёвской оттепели? Горбачёвской перестройке сп
ѣли отходную, а плащъ тотъ же. И беретикъ. Горьковскiй типажъ изъ «На дн
ѣ», откуда у такого деньги. Ни за что не продали бы.
Балагурю въ самомъ приятномъ расположенiи духа, и вотъ почему. Прiобр
ѣли принадлежности звукозаписи, двинулись в обратный путь. Георгiй Борисович впереди, я замыкающiй. Вдругъ тихонько такъ за спиной: простите, это не профессоръ Өёдоровъ? Согласно киваю. А вы его сынъ? Прекращаю дозволенныя р
ѣчи, возвращаюсь къ прибою памяти о твёрдый носитель.
Готово, пров
ѣримъ качество записи. Обратная перемотка, пускъ. И шелестящая тишина: впопыхахъ я перепуталъ запись и стиранiе.
— Это былъ черновикъ, сейчасъ переб
ѣлимъ, — какъ ни в чёмъ не бывало заявляетъ сказитель. Но уже потомки недосчитались кой-какихъ подробностей, какъ то: гонораръ отъ английскаго изданiя авторъ перечислилъ въ фондъ помощи госпиталямъ Вьетнама и мн.др.
Даже самый разс
ѣянный читатель раскусил нехитрый мой — всё-таки Герцена, съ удовольствiемъ уступаю пальму первенства — приёмъ чередовать былое и думы. Думы доморощенные, былое — взаймы и только взаймы. Ну что вы, какъ это безъ отдачи.
В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 2. Готөическая Русь
Георгия Борисовича, кстати говоря, однажды посулили запечатлеть не только с покашливаниями, но и с шевелением губ. А потом полный назад: тремор. Непроизвольные подёргивания шейных мышц волею головного мозга: кровоснабжение любой ценой. Но как голос за кадром сойдёте, мол. Ещё бы не отказался: недоверие к его умению собрать волю в кулак выводило Фёдорова из себя. Но вы не забывайте эти раздутые слёзные мешки у переносицы: во время съёмки он сощуривался в монгола, чтобы казаться благообразнее. Но вот Георгий Борисович сощурился в монгола, а толку-то: непроизвольное постукивание зубов. Говорит, говорит — и клац челюсть о челюсть. Страшновато с непривычки.
А теперь черёд молдаван, обязанных всей своей археологией доктору исторических наук Г.Б. Фёдорову.

ёдоров Г.Б. из анналов молдавской археологии стёрт не указующим окриком, а тихой сапой. Провокатор, фальсификатор и тому подобные приятности вдогонку. Марк Ткачук (род. 1966) мэтра на раскопе не застал, но вскочил-таки в уходящий поезд: подпольщики-фёдоровцы свели юношу с основоположником, зачинателем, первопроходцем, добрым гением и всё такое. Молодёжи вокруг Георгия Борисовича всегда было хоть отбавляй, но дух веет, где хочет: сегодня “евангелие от Марка” — лучшее curriculum vitae моего незабвенного друга. ‹...›
Евангелист Марк преувеличивает: совместная с Л.Л. Полевым «Археология Румынии» увидела свет ещё до разгона Прутско-Днестровской экспедиции. Относительно дальнейшего соавторства — да, имело место быть.
Георгий Борисович постоянно жил на даче, и вот я приехал погостить. Просторная мансарда с отоплением от газового котла, голубая мечта Рудольфа и Мими. Встаю по привычке в пять утра, хозяева спят до девяти. Как бы не разбудить. Ступаю по одной половице. По одной, по двум, по трём. Не скрипят. Чудеса. Дача видала виды, котёл наддаёт жару — положено рассохнуться полу. За обедом (бессолевой рыбный супчик и макароны с таком) Георгий Борисович спрашивает:
— Хотите (так и не перешёл на ты) выпить, Володя? Есть бутылочка молдавского вина.
Отказываюсь, конечно. Ему же нельзя ни под каким видом, а я, чего доброго, войду во вкус.
— Да, славные ребята молдаване. Привозят статью: поправьте перед отправкой в печать. Читаю — да её заново надо писать. А у меня наверху пол рассохся. И вот они пол перебирают, а я статью. Славные ребята.
«Археология Румынии» стояла на книжной полке в гостиной обложкой вперёд (рядом был задорный снимок молодого Кима в тельняшке, вот и запомнилась), а «Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э.» затерялось в сплотке корешков. Главная книга не того Георгия Фёдорова, что печатается в «Детской литературе», а столпа отечественной археологии. 300 страниц убористой печати, 100 страниц иллюстраций.
В. Молотилов. Валамиръ. Гл. 4. Вѣци Трояни
Кое-какие фёдоровские бывальщины ушли в свободный доступ на Хлебникова поле, но руку братской помощи народам Прибалтики у меня заслушали с концами. Не велика беда: пронзительные рассказы Георгия Борисовича не только изданы в Англии, но и украшают мировую Сеть иждивением Владимира Владимировича Шахиджаняна (род. 1940), приёмного сына Григория Львовича Рошаля.
Не поручусь, но это признание Фёдорова в печать, кажется, не просочилось:
— В стычках с литовскими партизанами я не только стрелял поверх голов (иначе трибунал), а прямо хотел, чтобы меня убили.
Ба, Лилия Васильевна Вьюгина родом из Литвы, некоренная приблуда. Понятненько. Исконной туземке так объёмно лесных батьев не выяснить: хочется (борцы за свободу) и колется (зверства над мирняком). То самое отрицание отрицания, то самое. Пока ищу в оглавлении «Брусчатки» нужный рассказ и припоминаю, в каком номере «Даугавы» впервые напечатали фёдоровского «Дезертира», доложу-ка человечеству пренеприятную для себя лично подробность последней встречи Георгия Борисовича Фёдорова (1917–1993) и Наума Моисеевича Коржавина (1925–2018).
Фёдоровский Эмка (восемь лет разницы, уменьшительное уместно) решился-таки продышаться родимым осинничком (не намёк) после самоизгнания. При чём здесь Шемякин и белы руки Собчака, не говорите глупостей. Михаила Михайловича Шемякина (род. 1943) о ту каменюгу на распутье самую малость не размозжили: самолёт в Париж, психушка или мордовские лагеря; Эмка же убоялся ссыльно-поселенчества на повтор и убыл добровольно. И вот он совершает мягкую посадку в Перестрочёвье — перестроечно-горбачёвской химере, где старые писарчуки строчат новые правила жизни, а зелёная молодёжь клюёт с руки академика Сахарова «Один день Ивана Денисовича» и тому подобные зёрна и перлы. Бешеный успех у просвещённой прослойки московского бекона, чего гость ну никак не ожидал, ну никак. А вот скупая слеза старинного друга (загодя и весьма кстати вытвердил эмкины стихи: обыск, изъятие, Караганда) Жоры Фёдорова подразумевалась. Так оно и вышло. А потом прохладное прощай. Разрывом не назову, но близенько. Разрыв шаблона. Когнитивный диссонанс? ещё не хватало, за такое Велимир Хлебников даже не накостыляет, а уморщит.
Как узнал? Очень просто узнал: Георгий Борисович сообщает о видах на приезд друга первой молодости, пишу мадригал, но возникаю в Климовске с опозданием: Эмка (следуют подробности бешеного успеха у просвещённой прослойки московского бекона) днями убыл восвояси. Так перешлите ему, говорю. А ну, дайте. Читает, меняется в лице и говорит: нет уж.
Что за притча. Допытываюсь у Марианны Григорьевны, пока у отказника адмиральский час. Прямо, говорит, сцепились. И чем же, любопытствую, вызвано. Литвой, отвечает. Жора было ликовать, Эмка в ответ: непоправимая ошибка. Ещё, дескать, намотают сопли на кулак. Тоже мне, пророк!
А сама в 1947 году сняла фильм об отважной литовской партизанке, Герое Советского Союза Марите Мельникайте, но я вам этого не говорил.
Ага, нашёл-таки. Дополненное переиздание всё того же «Дезертира», что и в перестроечной «Даугаве».
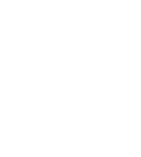
средних и малых литовских городах (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т.д. Первые этажи на ряде улиц целиком состояли из магазинов (на вторых этажах часто жили хозяева). Продукты были необычайно свежи, разнообразны, вкусны, неправдоподобно дёшевы. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины «Майстас», стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины эти ломились от всех видов мяса — от фасованного до целых, висящих на крюках туш, ветчин, колбас, других мясных изделий, свежайших или копчёных птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран.
Неодинаковость и многообразие товаров в разных магазинах делало их особенно манящими и даже таинственными. Теперь о ценах. Мне они показались неправдоподобно низкими. В Литве в обращении были литы, состоящие из 100 центов, в Латвии — латы, состоящие из 100 сантимов. Лат и лит считались равноценными нашему рублю. Так вот, у нас сливочное масло стоило 26 рублей за килограмм, а в Литве — 2 лита за фунт (4 руб. 50 коп. за кг). Костюм из местной ткани стоил 30–40 лит, из английской — 70. Цены на одни и те же продукты и товары варьировались в различных магазинах. Например, в больших магазинах, со стеклянными витринами до пола, цены были несколько выше, зато в маленьких можно было найти совершенно неожиданные, диковинные товары.

Там цены были пониже, да ещё можно было поторговаться, выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.
Ну, а зарплата? Крестьяне вообще мало что покупали, и на это, а также, чтобы при желании провести субботний вечер, ночь и воскресенье в городе — денег им вполне хватало. Квалифицированный рабочий получал в среднем 400 лит в месяц. Все остальные цены и соотношение их с доходами и зарплатой были соответствующими.
Части Красной армии, вошедшие в Литву и Латвию (в Латвии я побывал в Риге и Даугавпилсе) местные жители встречали в основном очень хорошо, тем более, что наши солдаты, находившиеся на советских военных базах с конца 1939 года в трёх прибалтийских государствах, в соответствии с навязанными Сталиным пактами о дружбе и взаимопомощи, ничего особенно плохого не делали, да и в большинстве были полностью изолированы от местного населения.
Так что, когда в июне 1940 года пришли мы, чтобы установить в Прибалтике советскую власть, нас встретили даже радостно. Над Литвой и другими прибалтийскими государствами нависла гитлеровская Германия, наглая, бесцеремонная во всём. Так, например, когда Гитлеру что-то не понравилось, он разорвал экономические отношения с Литвой. Произошло страшное затоваривание: Литва поставляла Германии много продовольствия. И вот какое-то время в городах рабочим и служащим пришлось часть зарплаты выдавать, к их ужасу, копчёными гусями. Так что нас встретили хорошо и с надеждой на избавление от угрозы со стороны национал-социалистической Германии. Этому особенно способствовала передача Литве её древней столицы — Вильнюса и округа, входивших после первой мировой войны в Польшу, а после раздела её Гитлером и Сталиным в сентябре 1939 года отошедших к СССР.

Но вскоре энтузиазм у литовцев поубавился. Германия ещё в марте 1939 года захватила Клайпеду — по существу, единственный порт Литвы на Балтийском море — а также Клайпедский край. Гитлеровцы тут же нарекли Клайпеду на старонемецкий лад — Мемельсбург — и ввели там свои порядки. Здесь между СССР и Германией проходила не граница, а демаркационная линия, на которой происходили различные драматические события. Довольно длительное время немецкие и советские солдаты находились тут в тесном и дружественном контакте, прерванном, впрочем, очень резко и заменившимся открытой враждой. Довелось и мне послужить там, но это особый рассказ.
Очень топорно и нагло был сработан захват Литвы Советским Союзом. 15 июня 1940 года вторглись сюда советские войска. Оккупационные власти разогнали законный литовский сейм. Срочно, без всяких выборов, создали новый из послушных нашим властям людей. Марионеточный “сейм” проголосовал за присоединение к СССР. Президенту Литовской республики Антанасу Сметоне предъявили ультиматум, требуя утверждения этого “решения”, и дали ему на размышления всего несколько часов. Ребята-танкисты говорили мне, что в сад президентского дворца прямо по цветочным клумбам был под окна Сметоны введён советский танк. Водитель его время от времени заводил мотор, чтобы „прочистить президенту мозги”, как выразился рассказчик.
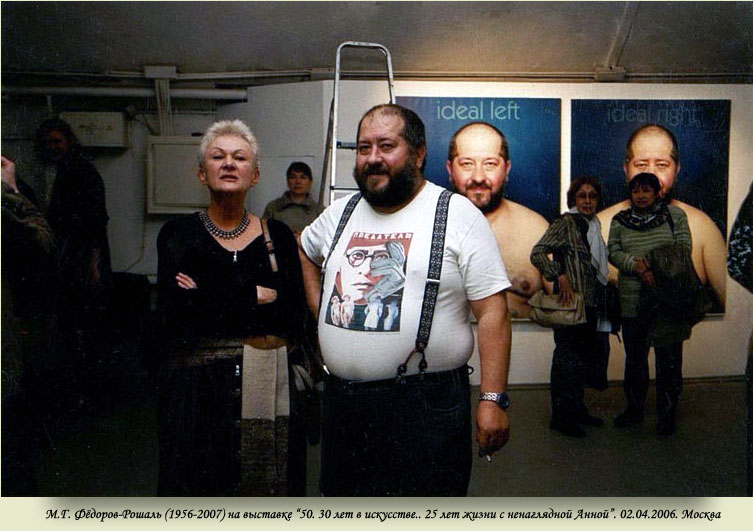
Литовскую армию наши части разоружили моментально, большинство офицеров арестовали, и они потом сгинули. Это была маленькая 25-тысячная армия (да откуда взяться большой — население 2 млн 300 тысяч человек), предназначенная для почётных караулов ‹...› Разоружая, мы не встречали сопротивления, только сами удивленно таращились на знакомые только по кино и театру погоны и множество больших медных пуговиц, сверкающих на амуниции.
Литовцы сначала радовались: Германия больше им не угрожала, они получили свою историческую столицу — Вильнюс, в 1940 году Гитлер вернул (уже Литовской ССР) и Клайпеду. Граница между СССР и Литвой продолжала оставаться закрытой для всех, не имеющих специальных пропусков, так что грабеж был относительно ограничен. В Литве хождение имели только литовские литы и центы. Цены хотя и поднялись, но не слишком высоко. Потом пришла растерянность — многие советские солдаты и командиры вели себя разнузданно.
А вскоре растерянность уступила место другим чувствам. НКВД начало аресты ксёндзов и вообще уважаемых людей (ходили слухи об их расстрелах). Всё большее количество жителей Вильнюса и других литовцев арестовывали, ссылали в Сибирь, бросали в концлагеря и тюрьмы. Многие хутора беспощадно уничтожали: засыпали колодцы, рубили яблони, растаскивали баграми строения… приучайтесь, дескать, жить в коллективах — пока хотя бы по деревням.
А 13 ноября 1940 года стал одним из самых чёрных дней в жизни Литвы. В этот день наряду с литовскими деньгами (их вскоре вообще изъяли из обращения) получили право хождения и советские. До того наши командиры получали в литах только небольшую часть жалованья. Остальное — в рублях — шло на сберкнижки.
Денег там скопилось немало. Началась безумная вакханалия. Я возненавидел тогда наших командирских жён, “боевых подруг”, как их напыщенно официально именовали. Вечно озлобленные пренебрежительным отношением жён командиров, имевших более высокие звания, чем их мужья, издёрганные частыми передислокациями, убогостью армейской жизни, в которой им оставалось только дрожать за судьбу мужей, стирать, готовить, в самодеятельных хорах фальшиво и безголосо прославлять великого Сталина и мудрую партию большевиков да заводить скотские романы с другими командирами, а с опаской даже и с солдатами, — они, наконец, получили свой шанс. И не упустили его. Сняв деньги со сберкнижек, эти стаи хищниц кинулись по магазинам. Они хватали всё, что попадётся, и в огромных количествах.
Растерявшиеся хозяева магазинов переходили от радости (оборот рос) к отчаянию — всё исчезало молниеносно. Советских покупателей, а тем паче покупательниц, стремительное повышение цен ничуть не смущало и не останавливало. Как раз в тот день я получил увольнительную. Из любопытства зашёл в ювелирный магазин. Толстая рыжая жена начальника штаба полка властно приказывала продавцу завернуть все украшения, лежавшие под стеклом на прилавке. Когда тот было замялся — пригрозила комендантским патрулём. Вне себя, я выскочил из магазина.

К концу дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на другие товары — даже в несколько десятков раз. Но и это не спасло большинство торговцев от банкротства. ‹...›
Но главное всё же заключалось не в этом, а в геометрической прогрессии нараставших репрессий. Стерпеть их твёрдая в своей вере, не потерявшая человеческого достоинства Литва не могла и не хотела. Народ восстал — прежде всего крестьянство, а оно составляло более 80 процентов населения Литвы. Чувство справедливости и собственного достоинства людей, владевших землёй и на ней работающих, заставило крестьян, в особенности хуторян, взяться за оружие.
Прав был Петр Аркадьевич Столыпин, когда делал ставку на хуторян в своих планах реформ в России. Прав был, со своей точки зрения, и наш “великий кормчий”, когда, едва достигнув единовластия, он первый уничтожающий, сокрушительный удар обрушил именно на крестьянство…
Аресты населения и т.д. в Литве совершали не мы — не армия. Это делали войска и оперативники НКВД. Мы служили резервным прикрытием. Всё чаще не успевали наши славные чекисты ворваться в дом ксёндза или окружить хутор, как начинали греметь выстрелы. Из леса появлялись защитники, часто в деревянных башмаках-клумпасах и в соломенных шляпах, украшенных вечнозелёным цветком — рутой, которая стала их символом. Тут происходило нечто вроде шахматной рокировки. Доблестные чекисты отступали, а мы выдвигались вперёд и ввязывались в бой с партизанами. Господи, сколько раз я хотел быть убитым в этих перестрелках! Конечно, если бы я сам не стрелял, то об этом непременно донесли бы, и меня тут же расстреляли чекисты, а от их рук умирать очень уж не хотелось. Могли отправить и в штрафной батальон — та же смерть, только более растянутая и мучительная. Вот только не целился я в людей ни разу. Такие стычки становились всё чаше, не раз сопровождаясь многокилометровыми бросками по лесам и болотам.
Георгий Борисович Фёдоров. Дезертир // Брусчатка. Лондон. 1997.
Из Лондона вскоре по приезде Георгий Борисович отправил на Гайву полупудовую посылку с антисоветчиной. Красный террор, советская номенклатура и тому подобное. Не в коня корм, и замнём этот разговор.
Да, вот ещё: Марианна Григорьевна прислала газету с заметкой. Сообщаю о последствиях.
30 марта 2018.
Я имел счастье дружить с Г.Б. Фёдоровым. Как Вы знаете, незадолго до кончины он с женой уехал в Лондон, где и похоронен. Уже после смерти мужа Марианна Григорьевна переслала мне газету с Вашей заметкой «Дорогой наш ГэБэ».

Однако выйти на неё никак не получалется. Вот и вчера получил от В. Шахиджаняна (вырос в семье её родителей) весточку: звоню и звоню в Лондон, но трубку никто не берёт. При этом пишет в своём блоге, что Марианна сейчас гостит у дочери в Израиле.
Дочь в Израиле зовут Dvora Roshal. Как-то Марианна Григорьевна поручила мне переслать ей письмо. Не поручусь, но вроде бы в Хайфу.
15 мая прошлого года Георгию Борисовичу исполнилось 100 лет. Достойно отметить на сайте (www.ka2.ru) не удалось: в марте слегла моя мама, до сих пор я у неё сиделка. Но льщу себя надеждой устроить тарарам задним числом.
В числе прочего, для этого нужно разрешение Марианны Григорьевны на переиздание её повестушки «КГБ и археология» (https://www.proza.ru/2011/05/12/891), переложения на бумагу бывальщин мужа.
Если у Вас есть выходы на Лондон или на Веру Георгиевну, дайте знать.
Молчанием не обидите.
Юлий Ким (род. 1936) воспользовался моей смиренной сговорчивостью, тогда как Владимир Владимирович Шахиджанян, да продлятся дни его, вскоре сдался, сообщил позывные сводной сестры. Но переиздание документальной повести «КГБ и археология» — враки во благо: мой карман оттягивали неведомые человечеству «Вредная химера» и «Психология рабства» — фёдоровский самиздат середины 80-х, включая три толстенных скоросшивателя отстуканной этими вот перстами «Басманной больницы». Делается так: Георгий Борисович вверяет рукопись, набиваю через две копирки, бледнейшую оставляю для самостоятельного предусмотрения («Психология рабства» подвисла, никак не соберусь) и — бегом на почту, если поездку в Климовск подстроить не удалось. Почему такое доверие? Потому что потому.
| Сопутствующие обстоятельства | | |
| Г.Б. Фёдорову | |
| 1 | 7 | |
| Колёса глаз совы. | На заседании правления Союза |
| А крылья носа | Предложено, пока не поздно, |
| С клёкотом пикассовым | Покаяться — и в общий кузов, |
| Искали лба-утёса. | Не то | |
| Это поминки | Как дòлжно будет воздано. |
| По Браку, Леже, Метценже и Вламинку. | Кончай с развесистою клюквой, |
| 2 | Сбрей патлы, воссияй благим нулём! |
| Опять рагу из таракана, | И на все пуговицы правильный |
| Сэр в лавочке не верит в долг, | Басина хрюковый |
| Нельзя на паперть к англиканам: | Как в лужу пёрнул: |
| Нелепый Лондон городок! | — А проверим-ка его рублём. | |
| 3 | 8 |
| Лазурь — противнейшая краска, | Учил Конфуций: так и так протянем ноги.* |
| Тьфу на берлинскую лазурь. | Доказано, в пост мухи не стареют. |
| Ура! Тевтон снимает каску | Ценим он знатоками, пусть немногими, |
| И ноги якобы разул. | И чтобы не помог еврей еврею? |
| 4 | Но тàк |
| Что ни мазилка — частный пристав, | Печать отверженности |
| Оплот себе подобных скряг. | Чётка, |
| Надрыв миланских футуристов | Тàк фиолетова была в те дни, |
| Сбивается на сытый кряк. | Что и друзья, и дядюшка, и тётка, |
| 5 | Что разом отвернулись все они. |
| — Домой! В разруху так в разруху. | И только умница золотосердый Вовси, |
| До встечи, Хаим. Никаких прощай. | Известный более как Соломон Михоэлс, |
| В своём уме. На воблу и макуху. | Играть не стал в “мы-не-знакомы-вовсе”, |
| Подумаешь, морковный чай. | Не выронил очки с глазами в тазик, моясь. |
| Домой! в бродило, в самый кипень! | 9 |
| Ну почему на шабаш к ведьмакам? | Он рано умер. Дать ему сто лет — и это мало. |
| За русский бунт мы таки выпьем. | Такому бы творить века веков. |
| Бессмысленный? Не каркай. Ну, пока. | Недавно я бродил по выставке, |
| 6 | Где суете и шуму |
| Марке одобрил: | Был противопоставлен |
| — Здесь не навонял чиновник. | Шелест |
| И у товарища из ВОКСа расцвели глаза. | Подносимых мной венков. |
| Марке одобрил: | |
| — Здесь не красный дурачьёвник, | 1982, 1991 | |
| Я потрясён. Матиссу б показать... | |
| Сотрудник Общества культурных связей с заграницей | |
| Поёжился: | |
| — Месье Марке, становится свежо. | |
| Через три года снег стучал в его зеницы: |
| Связными занялся нарком Ежов. | |
————————
* — А если бы, — спросил Цзыгун, — пришлось вдруг ещё от чего-то отказаться, так от чего в первую очередь?
— От пищи, — сказал Учитель. — Ведь издревле повелось, что люди так и так умирают. А вот когда народ не доверяет — государству не устоять.
Луньюй. Из гл. XII.
————————
| Чердынь | |
| | |
| Овидий опорочил Томы, | О Томах, где трусов купальных купы, |
| Знаток устроил суд над ним. | Не знает Кама, где медузы из коры. |
| Дороже истина, стоим на том мы. | — Как, бишь, его ... еврейчик щуплый ... |
| Я вижу не столпы, но пни. | Он выпал из окна — и взяли в топоры! |
| | |
| О Томах и о Мандельштаме, | Не плюй в колодец и в отдушину изгоя, |
| О роке, что сильней богов, | Шлёт Август или горец — всё равно. |
| Нашевели во мне листами, | Да, море было море гноя, |
| Растение болиголов. | И в Томах желчь, а не вино. |
| | |
| Ввезли безвременник на Каму, | Ты прав, ромей. Но Мандельштаму, |
| Воткнули в ледяной песок. | Когда в степи уже дышать нельзя, |
| Так, говоришь, не имут сраму? | Подумалось: перенестись на Каму... |
| Три года срок, чтобы иссох. | О ней, о Каме, написал: „Уж лучше б вынес я...” |
| | |
| | 1986, Климовск |
Всё то же окаменевшее дерьмо, нарыл вот приспособить в наглядные пособия. Но Маяковского строкой не шибануло, да? Тогда чем.
Тогда наволочкой. Которая видала виды и головы, а Марианне Григорьевне ночных гостей ввек не обстирать. Именно тогда велела ходить в будочку на двор. И не только, сейчас нажалуюсь.
Недавно я без всякого удовольствия признался, что лет до сорока не знал ни строки Осипа Эмильевича Мандельштама. Преувеличение на восемь лет, судя по «Чердыни». Дело было так. Вот я понаехал тут, и Георгий Борисович пользуется случаем расширить мой кругозор: парижский сборник Вадима Делоне с дарственной Иры Белогородской. Не вздумайте переписать или проболтаться (см. разрядку в отрывке из повести «Портреты в колючей раме»). Не очень-то и хотелось, отвечаю внутренним голосом, а в ответ на шемякинские укоризны с уклоном в мордобой (см. парный снимок 1977 года) коварно вопрошаю: какого мнения о Делакруа был Энгр? Написано пьяной метлой. Но говорю так даже не в пространство, а тем же внутренним голосом.
Не получив даже намёка на одобрение, Георгий Борисович идёт ва-банк: мюнхенский двухтомник Осипа Эмильевича. Переснятый, разумеется. Я этот кирпич утаскиваю наверх и прячу от нескромных взоров под подушкой с той самой наволочкой, смрад которой призван меня отпугнуть. Не на того напала. Через неделю запускаю руку — кирпича нет как нет. Последнее китайское предупреждение хозяйки: сматывай удочки, дружок. И я откланиваюсь, так и не добравшись до мандельштамовской прозы.
Но «Чердынь» уже не только сложилась в голове, но и отстукана через копирку, см. выходные данные. На росстани дарю верхний оттиск. И слышу такое, что волосы дыбом: проза Мандельштама лучше его стихов. Как сговорились они с Нагибиным: Лермонтов — основоположник русского рассказа. И ни гу-гу про «Мцыри». Фёдоровы-Рошали, кстати говоря, проживали в дачном посёлке по улице Лермонтова, а предисловие к «Возвращённому имени» написал всё тот же Нагибин, сосед Твардовского (вспоминаем благословение Вадика на изящную словесность) по Красной Пахре. И эти странные сближения Нагибина с Фёдоровым повелись ещё со времён Беллы.
Я чувствую, я всегда чувствую, когда меня хотят расколоть. И принимаю меры. Алла пыталась угадать, чем пахнет продолжение знакомства со мной. Налицо новая ступень человеческих отношений: уже не переписка, а личная встреча. Как-то себя поведу. В смысле борзых щенков, да. Взяток не берём, а вот щенками — премного благодарны. Содействие в становлении молодого писателя, вот именно.
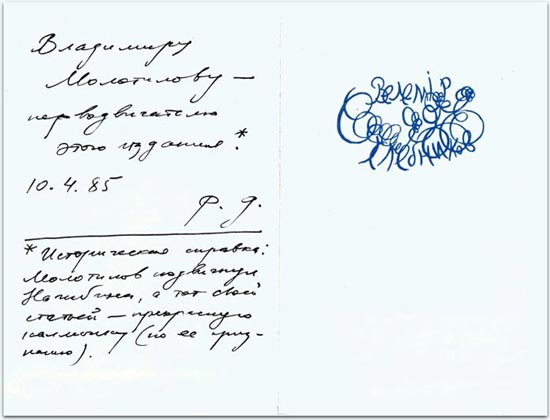
Вообще-то следует знать, как я принимаю чью-либо помощь. Никак, если не бегут впереди паровоза. То есть угадывают малейшее моё желание. Если не хватает ума угадать, всё делаю сам. Аминь.
Алла казалась квёлой, мягко говоря. Принесла кофе и села напротив, мямлит пустяки. Я то же самое. То есть оба выжидаем удобный миг, когда собеседник подставится. Подставилась Алла. Куда ей против подпольщиков с детства. Слушайте, как выдала себя: „Юрий Маркович много помогает начинающим”. Стремительный ответ: „Это не наш случай”. Обмен улыбками. И тут звонок в дверь: сам.
‹...› даже мебель в белых чехлах. Напыльники на всём, кроме трёх кресел и столика в прихожей. Алла — это вам не Белла.
Про эту распустёху рассказывал мне Георгий Борисович Фёдоров такую байку. Привозим Беллу на Черняховского, а Юры дома нет. Хвать — и ключа нет. Пробуем открыть своими. Пока пробуем, Белла сидит и курит на ступеньках. Покурила и говорит: „Да-а-а. Города-то вы открываете, а дверь открыть вам слабó”.
Доктор наук, археолог Фёдоров. Ну и что доктор наук, всё равно заело. Чего только нет в бардачке: ракетница обязательно. И тому подобное для земляных работ. Запалы от тротиловых шашек, например. И замка больше нет, прошу к нашему шалашу.
В. Молотилов. Веха. Гл. 3. Юрий Маркович
О Юрии Марковиче Нагибине (Фрумкине) писать да писать, кабы не Наум Коржавин (Мандель): как там эмкины грехи молодости, покрытые Георгием Борисовичем Фёдоровым (Өёдоровымъ) корой головного мозга, дабы не изъяли при обыске? А так: иной грех шибает не Багрицким, а (внимание, дальше ужас какой-то) Гумилёвым. Все до единого издания которого Жорой Фёдоровым приобретены. И, со всеми ятями и запятыми, покрыты всё той же корой головного мозга. А Гутенберг изнывает от нетерпения пойти в скупку по случаю свадебного путешествия Жоры Фёдорова и Майи Рошаль (Юрий Маркович называл её только так).
Торгового предприятия Жоры не понять ни Харджиеву, ни Парнису, ни даже мне. Почему ни даже мне? Потому что Май Митурич однажды сказал эдак невзначай: от книг нужно избавляться, Володя. А как же совместное с Г.Б. Фёдоровым издание «Илиады» Гомера, только что мне надписанное? подумалось впришиб. Отдельный разговор, замнём.
Так вот, согласие правообладателя на «Вредную химеру» я получил. Слышимость как телица аргентинская, но дорог перевоз: поиски карандаша, переспрашивание позывных сайта — и лимит исчерпан, обрыв связи.
Итак, на январь 2019-го бледный оттиск «Вредной химеры» пылился в моём шкафу тридцать лет и три года. Ни разу не перечитывал. Зачем. Разбудите ночью — поддержу разговор: тайной войной принято называть шпионаж, а Г.Б. Фёдоров братает с ним потаённую борьбу во имя исторической справедливости. Возможно, Г.Б. Фёдоров ближе к истине. Насколько. На «Тайную историю» Прокопия Кесарийского. Да разве этим истина не достигнута? Нет. И завалюсь храпеть дальше. ‹...›
И ещё: тратить время жизни на «Вредную химеру» я предполагал исключительно ради памяти о друге.
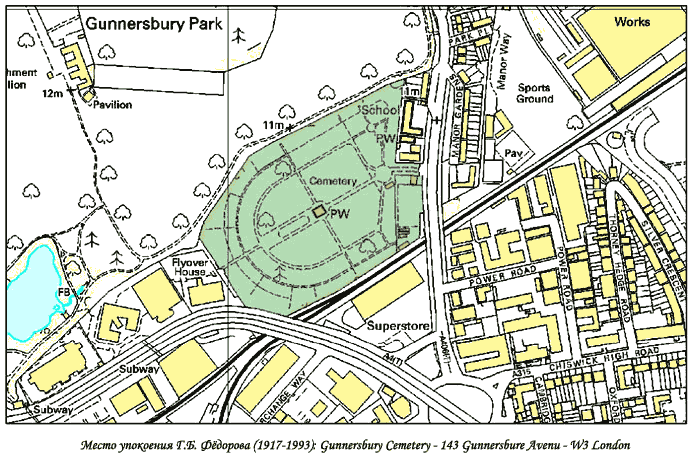
Выправить, вывесить — и выкинуть из головы.
И вдруг целый день ушёл только на вводную картинку. Зачем эти жертвы. А вот.
* * *
На исторический факультет МГУ ровесник Октября Жора Фёдоров поступил в 1935 году. Врождённая склонность счастливо совпала с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая 1934 года, которое предписывало незамедлительно восстановить исторические факультеты Московского и Ленинградского университетов. Жориным однокурсникам довелось застать на ИФ МГУ его первого декана, презренного наймита иностранных разведок Григория Самойловича Фридлянда (1897–1937) и матёрого саботажника Петра Фёдоровича Преображенского (1894–1941). Наймита расстреляли сразу, а саботажника спустя четыре года лагерей: если враг не сдаётся, его уничтожают.
Странным образом пресечение преступной деятельности этих шакалов от науки совпало с выходом в свет первого номера журнала «Вестник Древней истории».
Жорин папа, член РСДРП с 1905 года, работал заместителем директора Партиздата, поэтому на излёте 1938-го в семейной библиотеке стояли рядышком все четыре тома ВДИ (в 1937 г. вышел единственный, далее строго по четыре в год). Из каждого торчали закладки. Дело рук Фёдорова-младшего, у главы семейства едва хватало времени на передовицы. Ждали пятого тома.

Дальше можно не нагнетать: в качестве приложения (с. 273–356) там оказался русский перевод «Arcana Historia» Прокопия Кесарийского. В следующем году ВДИ порадовал читателя новым свидетельством незаурядного дарования византийского историографа — в отличие от предыдущего образчика, бесспорного с любой точки зрения: «О постройках».
Жорин папа окончил Санкт-Петербургский университет и даже какое-то время совмещал подпольную борьбу с преподаванием латыни, но к делу это относится не весьма. Речь о гимназическом курсе обучения. С незапамятных времён история была в нём обязательным предметом — раз, Закон Божий — два. Нечего и говорить, что заместитель директора Партиздата имел отчётливое понятие о гражданской и церковной ипостасях объекта нападок Прокопия: юристы до небес превозносят свод законов Юстиниана, православные празднуют память святого императора и его царственной супруги.
При этом в святцах чёрным по белому: сильная половина святой пары — славянское отродье: святой Юстиниан, император Византии, был славянин: он родился в селении Вердяне, близ города Средца, в нынешней Болгарии. Его дядя Юстин, уроженец тех же Вердян, пешком в одном тулупе пришёл в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, не только возвысился, но и сделался даже императором. В Константинополь он перевёл вслед за собой из Вердян свою жену Лупкиню с её сестрой Бегляницею, матерью Управды. Этот Управда, по смерти Юстина, и занял византийский императорский престол под именем Юстиниан. ‹...›

Произведение Г.Б. Фёдорова имеет полное право произрастать на Хлебникова поле: любой мало-мальски сведущий его посетитель знает, что В. Хлебников страшно гордился происхождением святого императора — раз, дорожил тайным братством законодателей — два. ‹...›
Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709) вместил бурную жизнь Феодоры в одно предложение. Коротко и ясно: распутную молодость искупила непорочным дожитием после раскаяния. Христос, кстати говоря, пришёл спасти отнюдь не праведников, даже обидно за тихонь и чистюплюев. Рассказ Прокопия о детстве, отрочестве и юности будущей императрицы — порнография в полном смысле слова, извращённые виды соития перечислены едва ли не все. Узнаём, например, что Феодора, пока не достигла половозрелости, в самые горячие минуты умудрялась сохранять девственность.
Отомстила, разумеется: одним из эдиктов её супруг повелел принародно оскоплять доказанных мужеложцев, и кровь лилась рекой. ‹...›
От Прокопия же узнаём, где Феодора возродилась к новой жизни: Египет. Сразу на память приходит Мария Египетская, и точно: в той же самой Александрии угораздило выслушать проповедь истинного подвижника (называют александрийского папу Тимофея IV) Христа ради. Глагол возжёг сердце блудницы, и она оставила богомерзкое ремесло. В Царьград вернулась уже не продажная тварь, но добропорядочная пряха (римские матроны коротали досуг исключительно прядением шерсти).

Познал Юстинан Феодору до убытия красотки в Египет или духу не хватило — темна вода во облацех, но влюблён был ещё с тех пор. И вот она перед ним вновь. То же изящество и остроумие, но уже недоступна ни-ко-му. ‹...›
Чрезвычайно рискованное предприятие такой брак. За тылы Родиона Раскольникова и Владимира Ивановича Симонсона можно не беспокоиться: Соня торговала собой малых детушек ради, Катюшу довело до борделя преступное легкомыслие Нехлюдова. А если угораздит жениться на шлюхе по призванию? ‹...›
Итак, Юстиниан-вероучитель. Кое-кто у нас порой пеняет императору Петру Великому за вмешательство в дела церкви. Возможно, не стоило упразднять патриарха, но Духовный Регламент 1721 года — рачок-бокоплав рядом с кашалотом нормативного вероисповедания Юстиниана.
Наибольшей по объёму и самой насыщенной по содержанию признаётся новелла CXXXIII «О различных церковных вопросах» (546 г.). Все сорок четыре её главы достаточно любопытны для воцерковленных мирян, а ведь это лишь краткая сводка предыдущих предписаний, о чём уведомляется в преамбуле. ‹...›

Буде мне позволено высказать личное мнение, без малейшего сомнения заявлю, что глава XLIV согласована с Феодорой, да и кое-какие из предыдущих она поправила. Устно, разумеется: едва ли шлюха из борделя владела пером в достаточной для законотворчества степени — раз, во время создания новеллы СХХIII её поедала раковая опухоль — два.
Императрица почила во Господе спустя два года, царственный супруг пережил её на семнадцать лет. Воздерживаясь от переедания, разумеется. И в постели не залёживался по-прежнему. Вдовствуя при этом непорочно, как того требовал от диаконисс. ‹...›
Обнародование статьи Г.Б. Фёдорова согласовано с его супругой, Марианной Григорьевной Рошаль-Фёдоровой (род. 1925). Позвольте не распространяться, чего стоило раздобыть её позывные, ибо закругляюсь. Напоследок пара замечаний.
Первое: чета Фёдоровых была и остаётся для меня образцом просвещённого равноправия супругов. В молодости я пробовал им подражать, и потерял жену. Но вторую выбирал себе под стать, не Галатею. На старости лет пытается пресечь мои уклонения от православия. Открыто сочувствую несторианам, учение Фёдора из Мопсуестии не кажется мне ложным, а вот Кирилла Александрийского не переношу. Солоно покажется на Страшном Суде, но сердцу не прикажешь.
Замечание второе: Георгий Борисович Фёдоров задумал поделиться с читателем полученными в молодости знаниями на излёте 60-х годов прошлого века. «Тайную историю» отнюдь не спешили переиздавать, только в 1993-м приписываемое Прокопию сочинение вышло приемлемым тиражом, но речь не об этом: Георгий Борисович времён «Вредной химеры» ещё не уверовал.
Мы познакомились зимой 1983-го, и это был образцовый христианин. Тогда ему исполнилось 65, сейчас мне 64. Но другого, кто бы так истово строил жизнь по Нагорной проповеди Спасителя, пока не встретил.
Придётся нарушить распорядок действа: замечание третье.
Святые — наши небесные заступники. Кому и когда молиться, знает любая бабушка-прихожанка. Позвольте внести свои семь копеек.
К лику святых причислены императоры Константин I, Феодосий I, Феодосий Юнейший и Юстиниан I. Понятия не имею, о чём просить первых трёх. Но хорошо знаю, чем докучать святому Юстиниану и его супруге.
Вы сами или кто-то из ваших близких полюбил девушку не самых строгих правил. Полюбил, сделал предложение, получил согласие. На этом прекращаю дозволенные речи.
Г.Б. Фёдоров. Вредная химера. Пояснительная записка В. Молотилова
Так вот, «Бумажным человеком» (2024) Лилия Васильевна Вьюгина разродилась не с кондачка: «Подпольное искусство. Бульдозерный передел» (2006) и «Харджиев. Последний русский футурист» (2020). Налицо неспешное развитие навыков монтажа от литовских подземников к советским подпольщикам. Относительно бульдозеристов приходится проявить скромность: доступ к ролику закрыт; ограничусь двумя иносказаниями. Иносказание первое: после Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Шарля Гуно, Руджеро Леонкавалло и Пьетро Масканьи осталась не просто пустыня, а выжженная земля.
Иносказание второе: не в свои сани не садись. А коли села, знай:
Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален) языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), — заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: Го, оснег, Кайт и т.д.). Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия — прекрасна, но безобразно слово “Лилия”, захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию „еуы”, и первоначальная чистота восстановлена.
А. Кручёных. Декларация слова как такового. 1913.
Называется не прикол, а прибаутка: чужая отсебятина. Вопрос в другом: чем вздымают волну цунами? Подвижкой плит над поверхностью Мохоровичича, извержением подводного вулкана или подрывом «Посейдона» в устье реки Потомак. А что такое первый русский авангард, как не подвижка сознания умнечества, разбуженного Герценом?
Если же есть те, кому я должен приписать бóльшую, решающую долю участия в моём труде, то это те люди с незначительными, немного утомлёнными, но всегда хорошими честными лицами, сгорбившиеся от трудов и лишений, в тулупах жёлтых, живущие в курных избах и всю свою жизнь проводящие за сохой. Их-то, русских крестьян в жёлтом тулупе, со спутанной шапкой волос на голове, я считаю главными своими соучастниками, исключительно им я обязан своим трудом, так как они за меня пахали землю, сеяли, пекли хлеб, они же приносили его мне, а я сидел и ничего этого не делал, а только ел ими испечённый хлеб, и ел досыта, и смотрел, как они приходили ко мне и робко отдавали свой хлеб, не пытаясь отнять его у меня и самим наесться досыта. Им я посвящаю этот труд, как слабое доказательство тяготеющего надо мной долга и его огромности, невыполнимости.Велимир Хлебников. Посвящаю русскому крестьянству. 1904 // Харджиев Н.И. Статьи о Хлебникове
Но не забудем важную подробность: одновременно с просвещённой прослойкой проснулся русский мужик. Отмена крепостного права землицы пахарю не прибавила, самое время вспоминать бабушкины сказки про Кудеяра, Стеньку и Емельку. Вот мужик проснулся, встрепенулся — тут его картавый ловец человеков и посадил на кукан.
Бросаем испытующий взор на русский авангард второй волны: подвижка сознания разбуженного Солженицыным умнечества налицо, народ безмолвствует: на кукане даже не кукарекнуть — рыпнуться смерти подобно. И чем при таком раскладе гнать волну?
Ветром перемен, я тоже так подумал. А из чего состоит ветер перемен, будь он хотя бы и дуновеньем уст умирающего Андропова? Из воздуха свободы, отскакивает от зубов Лилии Вьюгиной, на ваших глазах обобранной до еуы чистоплюйством русского авангарда первой волны.
Но шутки в сторону: поговорим о воздухе свободы не вообще, а применительно к даче Георгия Борисовича и Марианны Григорьевны в подмосковном Климовске.
Такая, например, подробность: по сходной цене приобретена у отставного колымского царька, начальника лагпункта. Потому и по сходной, замечу в скобках, что с придачей московской прописки для сожительницы продавца. Предыдущих насельников не выбирают, я тоже так подумал. Но Хлебников иного мнения:
Особенно доказательный пример даёт опыт сельского хозяйства. Собственно, каждый севооборот, будет ли он многопольный или простой, основан на отношениях метабиоза между злаками. Известно также в лесоводстве предпочтительное вырастание на месте исчезнувшей лесной породы какой-нибудь определённой другой.
Точно так же в “Верую” воинствующего пангерманизма входят отношения метабиоза между славянским и германским миром.
Деятельность бактерий, изменяющая почву, связывает метабиозом мир низших и растений.
Здесь может быть высказана смелая гипотеза, что сущность смены одних животных царств другими в разные времена жизни Земли также сводится к метабиозу.
Метабиоз объединяет поколения кораллов внутри какого-нибудь атолла и поколения людей внутри народа. Смерть высших, не исключая и Homo sapiens, делает их связанными метабиозом с низшими.Велимир Хлебников. Опыт построения одного естественнонаучного понятия (о симбиозе и метабиозе). 1910.
Следуя вождю будетлян, зловоние на даче Георгия Борисовича и Марианны Григорьевны вполне могло застояться по углам теневой стороны дома ещё до покупки, не так ли.
Не так. Это и есть воздух свободы, колымский начсостав не при делах. Никто из очевидцев словом не обмолвился о виновнике торжества: Петька, ирландский волкодав. Пока вникаете в описание породы, скажу так: зимой воздух свободы на даче Фёдоровых-Рошалей был густ как никогда в оттепель. Хоть топор вешай. Или зови к нему Русь, на выбор.
Предполагается, что ирландские волкодавы произошли от египетских борзовидных собак, завезённых в Ирландию кельтскими племенами более двух тысяч лет назад. Кельтам собаки были нужны для защиты домашнего скота от волков, поэтому продолжали род наиболее крупные особи, и уже на стыке III и IV вв. н.э. по острову разгуливали огромные, похожие на грейхаундов собаки, с лёгкостью одолевавшие любого хищника.

Как и полагается рабочим породам, прародители ирландских волкодавов красотой не блистали, зато повергали в трепет грозным видом и замечательной подвижностью. Так, например, в конце III века н.э. “ирландцы” выступили на арене римского цирка, где выказали необыкновенную удаль в битве со львом. Что же касается успехов на охотничьем поприще, то к 1780 году волки в Ирландии были полностью истреблены.
Со времён Средневековья и вплоть до XVII века ирландские волкодавы нежились в лучах славы. Их дарили послам и восточным вельможам, преподносили в качестве мзды за оказанные услуги, рассылая во все уголки Западной Европы и даже Азии. Конец благоденствию породы положил Кромвель: в 1652 году лорд-генерал строжайше запретил вывоз волкодавов из Ирландии, тем самым обрекая их на вырождение.
С середины XIX в. интерес к этому типу борзых в Ирландии нарастает; в 1885 г. открывается даже клуб любителей породы под руководством капитана Г.А. Грэхема. ‹...› Кстати, сам Грэхем не чурался скрещивания волкодавов с датскими догами и дирхаундами.
В СССР об “ирландцах” заговорили в конце 80-х, когда из польского питомника «Сагиттариус» было импортировано несколько чистокровных производителей. На российских выставках ирландские волкодавы появляются в начале 90-х, после обогащания породного генофонда племенными особями из Венгрии, Германии и других стран Запада. ‹...›
Ирландский волкодав — самая крупная из собачьих пород. Древние ирландские волкодавы, по мнению знатоков, были ещё более рослыми.
Их часто называют “Эйнштейнами” собачьего мира. Они активны, быстро обучаемы и настолько выносливы, что могут утомить самого спортивного хозяина.
В средневековье порода разрешалась к заведению исключительно королевскими и дворянскими семьями.
https://vk.com/wall-87726029_4058————————
Сегодня ирландские волкодавы пользуются неизменной любовью во всём мире, благодаря добронравию, преданности и трепетному отношению к семье хозяина.

Нежные гиганты — вот кто они такие. Конечно, теперь их редко используют по прямому назначению, но в качестве компаньонов заводят часто и охотно. Если, конечно, позволяет жилплощадь.
Ирландский волкодав соперничает с немецким догом за звание самой высокой собаки в мире. Шутка ли, его рост в холке превышает метр! Немецкая овчарка рядом с таким верзилой кажется карманной собачкой.
Это гармонично сложенные импозантные собаки с высокими стройными лапами и прямой спиной. Несмотря на внушительные размеры, грузными отнюдь не кажутся ‹...› Шерсть жёсткая, грубая; на морде брови, усы и борода. Окрасы допустимы однотонные: самый типичный — серый ‹...›
Добрые, ласковые, преданные — таковы ирландские волкодавы. К людям относятся крайне бережно, боятся им навредить, что делает этих собак отличными няньками для детей. В этом качестве их использовали ещё в раннем средневековье, кстати говоря.
Эти псы очень любят общество не только членов семьи, но и незнакомых людей, поэтому в охранники не годятся. Испугать злоумышленника они могут разве что своим ростом: если этот гигант встанет передними лапами на плечи даже рослого человека, жаркое дыхание нависшей пасти устрашит кого угодно. ‹...›
Главная сложность в содержании ирландского волкодава — его колоссальные размеры. Согласитесь, не всякая квартира способна вместить пса ростом с ослика. Хотя, надо сказать, волкодав не нуждается в длительном выгуливании. Это вполне квартирная собака, главное, чтобы нашлась мягкая лежанка там, где пёс никому не мешает. Дело в том, что чувствительные суставы не позволяют волкодаву спать на жёсткой поверхности. Как ни странно, в помещении ирландцу более комфортно, чем во дворе.
https://www.kp.ru/family/domashnie-zhivotnye/irlandskij-volkodav-sobaka/
Не далее как вчера узнал эти подробности. Породу Георгий Борисович озвучил с толком и расстановкой, но я, грешным делом, не поверил от слова совсем — дворняга и дворняга. Относительно клички подумалось: какой-то шутник присоветовал под смешики-смеюнчики про Чапаева, а Георгий Борисович возьми да и поддержи:
— С эдаким Петькой могу и Академию наук возглавить, только вот штаны подтяну да у Рыбакова холуяжа принайму.
Член КПСС, разумеется. Иначе кто бы ему землекопов доверил.

риключения Коржавина в ссылке и наши отношения во время и после неё — отдельная история, на этом останавливаться не буду. Скажу только, что зачисление в экспедицию состоялось после его возвращения. Официальный статус был нужен позарез, он ещё не был восстановлен в Институте ни материально, ни морально. Поэтому работа в экспедиции для него имела один деликатный момент: в сталинский период — да и после, особенно до ХХ-го съезда (хотя, насколько я могу судить, и после съезда ничего не изменилось) — в любую крупную экспедицию обязательно внедряли стукача, сотрудника КГБ. Кадрового или добровольного — уж как получится. И вот я подумал: зашлют невесть кого, ещё какую-нибудь сволочь отпетую. Дай-ка я сам подберу себе человека. Подходящий у меня на примете был: киевский археолог профессор Виктор Платонович Петров.
Историю его я знаю в общих чертах. По моим данным, Виктор Платонович родился и вырос в Киеве, получил классическое историко-филологическое образование, блестяще знал греческий и латинский языки, увлёкся археологией и стал дельным и толковым археологом. В конце 20-х и начале 30-х годов, когда украинского интеллигента могли запросто упечь за решётку по обвинению в национализме, его посадили. Но, поскольку тогда ещё мало-мальски вникали, кто и за что сидит, через два года выпустили. Всё-таки чистокровный русский не очень-то родня украинскому националисту. Но пятно есть пятно: отсидел два года за политику.
И его оставили на оккупированной немцами Украине. Официально Виктор Платонович числился исполняющим обязанности редактора газеты Харьковского бургомистра, а неофициально имел два задания: связь городского подполья с партизанским движением и, главное, подготовка покушения на Гитлера, ставка которого находилась в Виннице. Надо полагать, свои негласные обязанности Петров исправно выполнял, но покушение на Гитлера сорвалось. Гестапо расстреляло большинство его участников. Виктор Платонович бежал и попал в партизанский отряд имени Берия, составленный из харьковских энкаведешников. Он показывал мне своё удостоверение тех времён. Оно было напечатано типографским способом на белой шёлковой ленте. Наверху “Смерть фашистским оккупантам!”, ниже — фамилия, имя, отчество и так далее. На шёлке потому, что лента вшивалась в одежду и прощупыванием не обнаруживалась. После войны он вернулся к своей работе археолога, но продолжал числиться за Комитетом Государственной Безопасности. Причём одной моей ученице, по её рассказу, случайно попался на глаза документ, из которого следовало, что Виктор Платонович — генерал КГБ. Или генерал-майор. Не поручусь, так это или нет. Я, кстати, узнал об этом совсем недавно, через много лет после его смерти. Во всяком случае, мне было известно, что он каким-то образом связан с КГБ, но человек порядочный, образованный, опытный археолог.

И я пригласил его в экспедицию. Он охотно согласился. Я назначил его даже не начальником отряда, а начальником раскопа в одном из отрядов экспедиции.
А Коржавин работал в этом отряде землекопом. И однажды, когда отряд находился в Белгород-Днестровском, я туда приехал, а Виктор Платонович мне и говорит:
— Георгий Борисович! У меня к вам конфиденциальный разговор.
— Пожалуйста.
Мы ушли на берег Днестровского лимана, и там продолжили.
— Видите ли, наш уважаемый Эмма, — Наума Коржавина все звали Эмка, но Виктор Платонович из деликатности называл его Эмма, — ставит меня в крайне затруднительное положение.
— А что такое?
— Понимаете, он не только пишет и читает вслух, но и всюду теряет свои стихи отнюдь не ортодоксального содержания. Вот, извольте полюбопытствовать.
И протягивает мне два исписанных очень характерным, круглым, детским Эмкиным почерком листка. Я прочёл и ужаснулся. Но виду не подал.
— Виктор Платонович, голубчик, вы не расстраивайтесь, не волнуйтесь, я всё улажу!
После чего иду к Эмке.
— Слушай, ты, что ты всюду разбрасываешь свою антисоветчину?
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, вот это, например.
И показываю те два листка, что мне дал Виктор Платонович. Эмка выхватил их и буркнул:
— Эти стихи не имеют ко мне никакого отношения.
И положил их в карман. А потом говорит мне сердито:
— Что ты вообще ко мне привязался? Здесь все свои!
— Ну, как тебе сказать… не совсем так. У нас всё-таки есть сексот в экспедиции.
— Кто такой? — встрепенулся Эмка.
— Виктор Платонович Петров.
— Витька-партизан (так они его между собой прозвали) — стукач? В жизни не поверю!
— Нет, придётся поверить!
— Ах, так! Ну, тогда иду на сближение! Переведи меня к нему на раскоп!
Так я свёл двух киевлян, влюблённых в русскую поэзию. А уж дальше они сами сошлись накоротке. И на работе, и после трудового дня их то и дело видели вместе — было чем питать разговор.
Как говорится, произошёл перелом в отношениях. Виктор Платонович стал всячески опекать Эмку, даже пригласил жить в свою палатку. С его стороны это был настоящий подвиг: Эмка — довольно-таки безалаберный человек, а Виктор Платонович — аккуратист и чистюля, даже на раскоп выходил при галстуке и в крахмальном воротничке. Но ведь ужились!
КГБ и археология. Воспоминания археолога и писателя Георгия Фёдорова в записи Марианны Рошаль-Фёдоровой.
Возвращаюсь к поименованию щенка под смехуёчки (есенинский отдарок «Заклятью смехом» Велимира Хлебникова) про Анку, Василия Ивановича и Петьку. Поддержал с каменным лицом, даже не вопрос. Первая заповедь народного сказителя: ни-ни. Упаси бог снизойти до соучастия, хотя бы слушатель уже не сглатывал слезу, а ревел в три ручья, а не то икал от смеха.
Довёл, разумеется, даритель-собачар до сведения Георгия Борисовича и предание о нежном друге самодержцев: подарок с намёком. Каган бывальщины, падишах предания, эрцгерцог притчи, конунг саги, и всё такое. Всё такое переводится потомственное дворянство: Фёдоров-дед выслужил генерала, перешло по отцовской линии чин-чинарём, не прикопаешься. Так что собачар угодил даже с перехлёстом.
Дворняга дворнягой, повторяю. В ограде ли круги нарезал, на улицу ли перемахивал — не ведаю. Лежит, бывало; вдруг встрепенулся, подхватился — только и видели. Вопрос в том, где Петька лежит. Иной раз на полу, не спорю. Если хозяйка расположилась на диване, обязательно Петька на полу: совесть надо иметь.
Марианну Григорьевну не упомню без передника, хоть четверо суток прижмуривайся. Чёрная водолазка, чёрная душегрейка, чёрные шаровары, черевики чёрного войлока и немаркой расцветки передник. Передник-выручалочка: только присела — из воздуха возникает кошка, прыг в уют. Но это передник. Исследуем задник, то бишь накидку на диван. Лично мне хватило полуприседа ... кошма кошмара!
Слабые суставы? А этот прыжок из-под стола, стоит хозяйке отлучиться на кухню? Где петькина миска благоухает такой отдушкой, что геенна позавидует?
Нагнетаю, сам скажу. Потому что последний мой наезд и Петьку-волкодава память не совмещает. А ведь мог постоять за хозяев на задних лапах, мог. Отравили? Справиться бы у проф. А.Е. Седова (1954–2016), да какое там. Саша, кстати говоря, этих рукопашных бойцов на дачу и подогнал. Переговорить бы на предмет имён и судеб. Включая судьбу Мишки Фёдорова-Рошаля (1956–2007).
Отставить. Этот сам за себя похлопочет, а я подпою.
После погрома советскими спецслужбами «Первого осеннего просмотра картин на открытом воздухе» в Беляево (названного “бульдозерной выставкой”) пути его участников разошлись. Не только в смысле географии — многие эмигрировали, — но и “художественно-стратегически”: одни вошли в предоставленную властями резервацию нонконформистов, в Горком графиков, другие предпочли независимый и более рискованный путь. Среди последних, оставшихся в СССР, был Михаил Фёдоров-Рошаль.
— Ты был самым молодым, не считая Александра Рабина, участником «Бульдозерной выставки». Почему ты принял в ней участие?
— Я тогда был очень общительный, и в какой-то момент узнал об этой акции, наверное, от Виталия Комара и Александра Меламида.

Но они, кстати, были против, говорили: ты ещё молод, зачем тебе проблемы.
— Так как же всё происходило?
— Поле в Беляево выбрали, во-первых, потому, что это было открытое, свободное пространство — рядом ни дороги, ни метро. А во-вторых, неподалеку проживал Виктор Тупицын, и я потом понял, что у него был некий штаб, куда частично свозили работы. И вот, мы спускались с картинами по лестнице и столкнулись нос к носу с тремя гэбэшниками. Секундная пауза — и мы пошли дальше. Я полагаю, что ещё не было дано команды — что с нами делать; они нас спокойно пропустили, но очень внимательно посмотрели, запоминая.
Мы отправились на поле. Все были готовы к тому, что последуют какие-то действия со стороны властей, но никто не ожидал столь бурной реакции. Кстати, “бульдозерная выставка” на самом деле — не совсем “бульдозерная”: бульдозеров-то не было, потому что медленные бульдозеры не смогли бы туда добраться вовремя. А были “мобильные отряды” поливальных машин ЗИЛ-130. Но когда такая машина едет на тебя со своими ковшами-ножами, полное ощущение, что это бульдозер.
Я даже не знаю, кто что показывал, потому что сама выставка была минутным делом. “Рабочие” отряды не дали возможности большинству участников даже распаковать картины! Правда, они не ожидали подобного наплыва зрителей. Полагаю, что художники тоже не думали, что приедет такое количество людей. Сначала была небольшая кучка, но очень своевременно об этом событии передали “голоса”, и через полчаса народ повалил валом. Помню картинку: день был серый, и вдруг — луч солнца, на пригорке стоит толпа, а в центре толпы — подъехавший только что на такси, в жёлтом пиджаке и синем галстуке, актёр Лев Прыгунов, популярный в то время персонаж. Неожиданный для властей шум поднялся из-за того, что какому-то западному корреспонденту разбили сначала камеру, а потом физиономию. Кто-то из “садоводов” проявил слишком много инициативы! А грузовики с саженцами — это был реальный театр абсурда! Естественно, никто ничего не высаживал, машины ездили, месили грязь, гоняли народ.
— С какой работой ты пришёл туда?
— У меня были две картинки: «Дадим угля сверх плана!» и «Музыка на холсте», документирующая мой предыдущий хэппенинг. Но я даже не смог их развернуть, только палец поранил, разрезая верёвки! Вот Алик с Виталиком успели показать двойной автопортрет в стиле мозаики, который кто-то из “серой братии” взял и закинул потом в огромный грузовик с землей.
— Александр Глезер в своих мемуарах пишет, что специально перед этим, условно говоря, перформансом было обговорено, что не будет никаких политических вещей, которые бы смогли раздражить власть. Двойной же профиль Комара и Меламида — это явно политическая вещь.

— Такая договоренность тогда, наверное, была. Тем более, что за подобное выступление можно было вполне угодить за решётку. Но этот портрет — вещь относительно безобидная, на нём только было написано „Известные художники ХХ века”. Да и гэбэшникам было плевать, что мы притащили! Им мероприятие надо было провести. Это потом уже стали очень внимательно следить за содержанием искусства.
— Может, такое развитие событий тебе было в масть? Ведь ты, по большей части, художник-перформансист?
— Я не могу сказать, что я перформансист, но иногда мы делали перформансы, акции, хэппенинги. Действительно, моя основная творческая деятельность началась с этого государственного “перформанса”.
— А были какие-нибудь лозунги с требованиями со стороны художников?
— На моей памяти, нет. Было подготовлено некое программное письмо, которое собирались отправить в высшие художественные инстанции, но его дальнейшая судьба мне неизвестна.
— Какую, в конечном счёте, цель преследовали организаторы?
— Цель была простая — показать, что в этой стране существует параллельная система культурных ценностей, что есть не только соцреализм, но ещё и довольно большое количество художников, не согласных с данной концепцией.
— Но до этого ведь тоже были выставки нонконформистов в разных клубах, на квартирах?
— Квартирных ещё не было. Помню одну выставку Рабина в каком-то клубе, из которого после этого выгнали директора. Потом была практически официальная экспозиция кинетистов. В принципе, так могло и продолжаться — от нашей выставки земля бы не разверзлась, а коммунистическая партия продолжала бы существовать.
— Вероятно, застрельщики хотели просто заявить свои права на нормальную экспозиционную площадку для современных художников, что, в конечном счёте, года через два вылилось в организацию живописной секции при Горкоме графиков? Об этом говорили?
— Конечно. Ради этого, в том числе, всё и делалось. Просто нигде в документах и воспоминаниях, касающихся “бульдозерной выставки”, об этом ничего не сказано. Что там делала инициативная группа, я, честно говоря, не знаю. Но подразумевалось, что люди выходят ради самой выставки. В конечном счёте, тут же последовал результат: через две недели, 29 сентября, была выставка в Измайлово, а на следующий год — на ВДНХ.
— А как ты думаешь, не было ли у инициативной группы идеи устроить чисто диссидентское выступление с тем, чтобы поставить власть перед дилеммой: если мы вам не нужны, вышлите нас, как Солженицына.

— Во-первых, выслали одного только Солженицына, других писателей не высылали. Поэтому смешно думать, что за границу отправили бы пятнадцать членов инициативной группы. Никто не хотел эмигрировать просто так, все стремились показывать себя здесь.
— Эта мысль появилась у меня потому, что в скором времени уехали Оскар Рабин, Лидия Мастеркова, Валентин Воробьёв, Комар и Меламид...
— Рабина действительно выслали, хотя он не хотел уезжать. А Алик с Виталиком собирались уехать, но, когда это случилось в 1977 году, всё было не так спокойно. С одной стороны, они были как бельмо на глазу, но к этому времени уже состоялось несколько их выставок. Так что до конца не было ясно, отправят их на Запад, или на Восток. Для начала их разделили, выпустили с промежутком в год: сначала Алика, потом Виталика. С другой стороны, у всех была каша в головах, и я думаю, что даже инициативная группа не была уверена в результатах. Они действовали, как Бонапарт: главное — ввязаться в драку, а там посмотрим. Я думаю, здесь присутствовало всё: и момент яркого эпатажа власти, и стремление показать свои картинки, и желание получить площадку. Кстати, никто из собратьев-гуманитариев не добился такого “успеха” — ведь сразу начались какие-то “подвижки”, подъём художников, хотя впоследствии всё это всё равно утонуло в болоте.
— Потом, сразу же, начали выставляться массами, уже не по пятнадцать человек — в павильоне «Пчеловодство», в ДК ВДНХ...
— Да, в той выставке участвовало сто шестьдесят человек. Меня поразило, что накануне выставки в ДК инициативная группа сообщила нам, что власти не разрешают выставлять «Гнездо». При этом присутствовало человек сорок художников, потом подошли ещё, и они дружно сказали, что снимут свои работы, если не будет «Гнезда»! И его оставили! Это был первый и последний раз, когда проявилась такая солидарность среди художников. А власть вынуждена была пойти на уступки!
— Кто был среди зрителей? Илья Кабаков, Никита Алексеев?
— Наверное, были. Я тогда многих ещё не знал. Впрочем, в то время народ боялся “светиться”: подуй ветер чуть в другую сторону — человек десять вместо Горкома графиков рисовали бы совсем в других местах. Я-то ничего не боялся по молодости-дурости, да и потому, что всегда эту власть ненавидел и готов был с ней бороться!
— А на тебе это как-то отразилось? Или сошло с рук?

— Да я и не знаю. Меня никто никуда не забирал. Единственное, что я получил ранение от собственного ножа, когда хотел распаковать картинки, чтобы показать их. Тогда взяли в участок Сашу Рабина, Оскара, Надю Эльскую. Ночь продержали, наутро выпустили.
— А Комара и Меламида?
— Их помяли хорошо.
— То есть, эти “поливальщики” толком не знали, кто из инициативной группы, а кто нет?
— Видимо, не знали. Там же были какие-то стажёры, и никто им фотографии художников не показывал, да это было и не важно. Мне, при всей моей молодости, было ясно, что с властью случился конфуз, она попросту обгадилась! Это было смешно до истерики: “рабочие” в навозе и грязи, саженцы, поливалки... Настроение у меня было замечательное. Забавно, что секретарь местного райкома носил фамилию Чаплин, и ведь все происходившее было настоящей чаплиниадой.
— В конечном счёте, ближайшая цель этого перформанса была достигнута. Через две недели в Измайлово состоялась роскошная выставка, через год — выставка в ДК ВДНХ.
— Да, важно, что тогда мы реально узнали свои силы. Раньше всё было как в тумане — ну, существовали какие-то “другие” художники, а выяснилось, что очень даже неплохие по качеству. Потом стали приезжать художники из других городов, в первую очередь, из Ленинграда. 1975–1976 годы были фантастическим временем. Квартирные выставки, разбросанные по всей Москве, создавали впечатление, что “наши” есть везде!
— Кстати говоря, а кто из участников “бульдозерной выставки” потом сотрудничал с Горкомом?
— Комар и Меламид были его членами уже в 1974 году. Сергей Бордачёв. Владимир Немухин. Наверное, ещё кто-то. Меня, к моему величайшему изумлению, не приняли сами художники. Объясняли это тем, что мои работы не имеют ничего общего с живописью (где ты, полный солидарности сентябрь 1974-го?!)
Один очень известный художник, милейший человек, говорил: „Миша, когда Вы устраиваете свои хэппенинги, Вы ведь не приглашаете нас участвовать. Ну, как же мы можем пригласить Вас?”

— Так ты в Горкоме не участвовал?
— Я не был членом “секции живописи”. Через пару лет вступил на общих основаниях в секцию book-design. Это важно было, чтобы не повязали за тунеядство. Был у власти такой способ борения с инакомыслящими.
— Так или иначе, эта акция была показательна в том смысле, что в ней участвовали художники самых разных группировок и направлений, они впервые образовали такое сообщество. Как ты думаешь, куда следует вписать “бульдозерную выставку”: в историю нашего современного искусства или в историю так называемого “другого искусства”, андеграунда? Согласись, что эти вещи не тождественны, потому что нонконформисты, андеграунд — художники, которые делают не так, как в официозе. Современный художник — это несколько другое.
— Вопрос в том, что называть современным искусством. Для того времени и Той Страны это искусство было современным, хотя и не мирового уровня, конечно. За исключением нескольких художников, которые уже тогда работали в контексте мирового постмодернизма, и искусствоведов, которые успели прочитать несколько статей на эту тему, народ даже не подозревал о том, что происходит в мире искусства, знания заканчивались на поп-арте.
— А тебе лично и уже потом твоим друзьям по группе «Гнездо» “бульдозерная выставка” дала что-то, какое-то ощущение свободы?
— Мне “бульдозерная выставка” дала много, хотя я думаю, я бы всё равно занимался тем, чем занимаюсь до сих пор, — соцарт, концептуализм и так далее... Насчёт свободы — да, это был заряд на всю жизнь! Этот дух меня уже никогда не оставлял. А для кого-то, наверное, это сыграло ещё бóльшую роль: люди поняли, что можно не так бояться. То есть бояться, но не настолько! С другой стороны, власти увидели, что не стоит страшиться художников, потому что в них ничего крамольного нет. Сам факт осознания ими того, что есть и другие художники, которые при этом не так-то уж портят воздух, позволил потом появиться Горкому.
— А насколько этой “разрешённой свободы” хватило для дальнейшего движения современного искусства?
— Я считаю, что она ощущается до сих пор. Другое дело, что были взлёты и падения. Чистой же свободы хватило до 1976 года. Потом была Венецианская биеннале 1977 года с павильоном неофициального советского искусства, и мы принимали в ней участие. За это уже тогда Гена Донской попал в дурдом. Кто-то ещё, наверное, пострадал. Потом пошёл другой виток: начали придавливать кого-то больше, кого-то меньше. Потом посадили Славу Сысоева. Горком со временем стал официозной показухой, а “актуальным” художникам всё равно негде было выставляться.
Тут-то и собрались мы с Никитой Алексеевым и Свеном Гундлахом и придумали «Apt-ART».
Беседовал Михаил Боде.
Искусство, №4, 2004
Есть люди, которые знают о «Продаже душ» всё и даже больше, следующая врезка для них вода водой.
— Но это как подогреть, — подсказывает Лилия Васильевна Вьюгина, — или вдруг окажешься в пустыне Такла-Макан. Макнём?
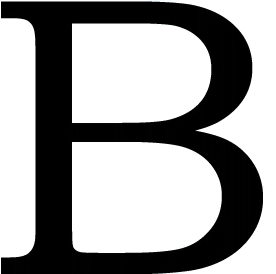
стреча с Уорхолом была культурным шоком. Я впервые оказался в мастерской классика поп-арта. В столовой висела гигантская картина Курбе. Его мастерская была одновременно редакцией журнала «Интервью» и клубом, через который проходило огромное множество удивительно красивых мужчин и женщин. Они шли мимо, кивали нам, махали ручкой. Это была совершенно не та обстановка, которую ты ожидаешь увидеть в мастерской, где художнику нужно сосредоточиться и работать.
Уорхол знал нас. Мы сделали серию работ, посвящённую шедеврам поп-арта, в том числе и его работам. Идея была в том, чтобы посмотреть на современное нам искусство глазами людей будущего. С помощью различных техник мы превратили яркие полотна Уорхола в тёмные, потрескавшиеся, частично обожжённые. Фельдман рассказывал, что, стоя перед ними, Уорхол буквально позеленел. Он действительно увидел, как его работы могли бы выглядеть, скажем, после ядерной войны или каких-то других катастроф.
У нас установились с ним очень тёплые, человеческие отношения. Он даже послал нам два своих рисунка: один — Алику, другой — мне. Я прекрасно знал, что и по тем временам они стоили больших денег. Когда я попросил его принять участие в нашем проекте «Души», он с готовностью подписал контракт о бесплатной передаче своей души корпорации «Комар и Меламид».

Известный коллекционер русского искусства Нортон Додж продал нам свою душу за 70 центов. Какая-то проститутка продала свою, кажется, за 40 долларов. Но были такие, кто серьёзно относился к нашему предложению и требовал миллионы. Они понимали, что совершают большой грех, и хотели получить соответствующую компенсацию. У нас таких денег не было, поэтому мы поменяли тактику. Мы сказали, что можем, как это делают галерейщики, брать души на комиссию. В случае продажи мы готовы были делить доход пополам. Это была обычная практика галерейного бизнеса. Художник писал картину, вкладывая в неё всю свою душу. Потом галерейщик брал себе 50% от продажи этой души, а художник — другие 50%. Мы просто упростили процесс, сразу перейдя к продаже душ. И вот тут души на нас просто посыпались. Соглашение оформлялось на красном бланке, каждый человек мог затребовать за свою душу столько, сколько считал нужным.
В 1979-м или в 1980 году наши ученики устроили аукцион в московской мастерской Михаила Одноралова. Распродали всё. Рекорд стоимости поставила душа Нортона Доджа. Её продали, кажется, за 70 рублей. А душу Уорхола купила за 30 рублей московская художница Алёна Кирцова. Сейчас Фонд Энди Уорхола предлагает ей за неё 50 тысяч долларов, но она отказывается, надеясь, что внуки смогут выручить больше.
Торговля душами дохода нам не принесла, зато принесла известность. Вайль с Генисом рассказывали, как они раз ехали по Таймс-сквер и вдруг увидели огромную светящуюся надпись: „Комар и Меламид: покупаем и продаем человеческие души!” Они опешили. Они знали о нашем проекте, но не могли себе представить, что он получит такую огласку.
Виталий Комар. Нью-Йорк, 1970-е.————————
В нашем собрании находится работа Комара и Меламида «Душа Нортона Доджа» (1978–1979) из проекта «Корпорация по покупке и продаже душ». В 1978 году Виталий Комар и Александр Меламид, приехав в Нью-Йорк, создали свой первый “капиталистический” арт-проект — корпорацию по покупке и продаже душ. Сначала желающих продать душу было немного. Энди Уорхол продал свою душу за 0.00 долларов, а Нортон Додж — за 98 центов. Аукцион душ, который вели Рошаль, Скерсис и Донской, состоялся в Москве 19 мая 1979 года и был, наверное, первым художественным аукционом в СССР — задолго до «Сотбис» 1988 года. На московском аукционе душа Нортона Доджа стала самым дорогим лотом. Моя мама, Татьяна Колодзей, купила её за 140 рублей — сумма для того времени большая, а за душу Энди Уорхола было заплачено 30 рублей. В 2008 году, через тридцать лет после продажи душа Нортона Доджа возвратилась в Нью-Йорк и стала символом выставки «Москва — Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры. Из коллекции Kolodzei Art Foundation» в художественном музее Челси в Нью-Йорке. Нортон Додж, пришедший на выставку, поблагодарил нас за изумительную сохранность его души.
Наталья Колодзей. Арт-фонд Kolodzei.
https://artinvestment.ru/news/artnews/20111111_dodge.html————————
Приезд Комара и Меламида в США ознаменовался масштабной акцией «Первая беспошлинная торговля между США и СССР. Мы продаём и покупаем души» (1978–1983). Акция сопровождалась рекламной кампанией, финансируемой галерей Фельдмана. Художники выпустили серию плакатов от имени торговой корпорации Komar & Melamid Inc., и по стилистике эти плакаты мало отличались от подлинной рекламной продукции. Художники начали использовать коммерческий стиль так же, как в своё время осваивали стиль коммунистической пропаганды. Христианские мотивы на постерах — например, яблоко в сочетании со змием — прозрачно намекали, что речь идёт о той самой продаже души, известной как сделка с Дьяволом. После продажи “товар” помещался в клетку для мелких птиц — опять же традиционная метафора человеческой души, известная со времён Средневековья. В ходе акции Комару и Меламиду удалось разместить свой “рекламный” ролик на Таймс-сквер — на большом электронном табло, которое предоставляется фондом Public Art специально для художественных проектов ‹...›.

Публика приняла игру: за несколько месяцев художники скупили несколько сотен американских душ, и часть из них приняли на комиссию. Каждый продавец получал от корпорации соответствующий сертификат — белый квиток. 6 февраля 1979 года Комар и Меламид встретились с Энди Уорхолом, который охотно продал им свою душу. В том же году квитки попали в Москву через дипломатический канал, и в американском посольстве были переданы участникам группы «Гнездо», которые устроили первый “аукцион американских душ” в мастерской Михаила Одноралова.
Телефонные переговоры с Комаром и Меламидом вёл Михаил Рошаль. В конце 1970-х контакты участников группы «Гнездо» с их бывшими учителями не прерывались и даже поддерживались через “незримое присутствие”: например, 5 октября 1978 года группа устроила медитативную акцию под названием «Получасовая попытка материализации Комара и Меламида».
Клетки, которые продавались на аукционе вместе с сертификатами, были куплены на птичьем рынке — судя по сохранившемуся образцу из собрания Третьяковской галереи, это были садки для мелких птиц, раскрашенные в стерильный белый цвет и снабжённые надписью SOS. ‹...› Участники «Гнезда» попытались также организовать приобретение советских душ для последующей продажи на американском аукционе, но не получилось. Тем не менее, проект Комара и Меламида по созданию фиктивной корпорации на самом деле начал приносить прибыль. В истории современного искусства это был один из самых ярких опытов по дематериализации художественного произведения, когда авторы сознательно отказываются от делания вещей в пользу взаимодействия и свободного обмена информацией.
Кирилл Светляков. Комар и Меламид: сокрушители канонов.
https://kino.rambler.ru/other/42081598-kirill-svetlyakov-komar-i-melamid-sokrushiteli-kanonov/————————
В 1978 году эмигрировавшие из СССР художники Виталий Комар и Александр Меламид, перебравшись из Израиля в Нью-Йорк, приступили к осуществлению одного из самых смелых и необычных проектов советского концептуального искусства, который получил название «Продажа душ» или просто «Души» (Souls), или — наиболее полное — «Первая беспошлинная торговля между США и СССР. Продажа душ».

Оказавшись в США, художники создали фиктивную корпорацию Komar & Melamid, Inc., от имени которой запустили рекламную кампанию по скупке человеческих душ. Реклама включала печать полиграфической продукции — серии абсурдистских плакатов („We Buy and Sell Souls” — „Мы покупаем и продаём души”) с клишированными и нарочито серьёзными слоганами: „A Soul is the Best Investment” („Душа — лучшая инвестиция”), „Over Five Thousand Years Experience” („Больше пяти тысяч лет опыта”), „No One Else In This World Pays Cash For Nothing” („Никто больше в этом мире не платит за ничто”), „Your Soul is in good hands with us” («Ваша душа с нами в надёжных руках»). Кроме того, был сделан ролик для медиаэкрана на Таймс-сквер — главной рекламной площади Нью-Йорка.
С ноября 1978 по май 1979 года художники купили или приняли на комиссию несколько сотен душ. Владелец подписывал типовой красный контракт о продаже. Так, художник Энди Уорхол передал свою душу за ноль долларов, а коллекционер советского неофициального искусства Нортон Додж получил 70 центов. Далее Комар и Меламид по дипломатическим каналам передали сертификаты своим друзьям — художникам из группы «Гнездо» Геннадию Донскому, Михаилу Рошалю и Виктору Скерсису. Они, в свою очередь, купили на птичьем рынке деревянные клетки, выкрасили их в белый цвет, сопроводили красными надписями „SOS” — „Save Our Souls” („Спасите наши души”) и поместили туда красные квитанции.
19 мая 1979 года в мастерской художника Михаила Одноралова состоялся аукцион американских душ. Лот № 0344 — душа Нортона Доджа, был описан следующим образом: „Душа, гармонично сочетающая в себе сугубо рациональные и чисто сентиментальные качества. Она напоминает структуру ещё не упавшего с дерева ореха: мягкая внешняя оболочка, затем твёрдая скорлупа, далее снова нежная и питательная начинка”. При стартовой цене 6 рублей 86 копеек душа Нортона Доджа ушла с молотка за 60 рублей.
Таким образом, Комар и Меламид, сделав предположение, что „каждый предмет, который содержит душу индивидуума, является произведением искусства”, осуществили „первую открытую распродажу американского искусства в Москве”. В истории современного искусства эту акцию можно рассматривать не только как яркий пример дематериализации художественного произведения, но и как политическое высказывание в разгар холодной войны между США и СССР.
https://lavrus.tretyakov.ru/publications/10-proizvedeniy-rossiyskogo-sovremennogo-iskusstva-kotorye-nuzhno-znat/
А вот и обещанная подпевка.
— А, так давеча Молотилов горло полоскал! — осеняет догадливого проницателя из молодых да ранних. — На врезке, где яйца усохли в ноль!
Коротко и ясно, мне бы так. Не умею, да. Но могу: жизнь задом наперёд. И умер.
Отставить. Испанский сапог и прокрустово ложе — отставить. Всё-таки между передом и задом полтинник промежности. Мирного сосуществования, то бишь. Хотя бы и со мной, почему нет. Поехали.
Судя по дарственной на «Дневной поверхности», подпал дорогой Владимир Сергеевич обаянию ненаглядного Михаила Георгиевича 27 января 1983 года. Отчётливо помню, что уже поддался на молчаливый укор Марианны Григорьевны и подумывал о последней электричке на Москву, как Мишка вваливается с предпоследней на Подольск. Или я на предпоследнюю, он с последней, не поручусь. А вот запах врезался намертво: ни-ни. Какое пивом — даже кефиром. Неизъяснимое благоухание — вот чем овеяно явление М. Фёдорова-Рошаля народу.
Знаете, какого роду-племени самые красивые девушки России? Сахаларки: мать якутка, отец русский. Непререкаемая очевидность, якуты даже завели обычай: породнился — имеешь право не работать, берём на содержание.  Совсем не то иудеи: на кой нам гой. Поэтому и больные суставы, как у ирландского волкодава при Кромвеле. Поднимаем родословную М. Фёдорова-Рошаля: Строева (Рихтер), Рошаль (рабби Шломо Лурье), Фёдоров (Өёдоровъ).
Совсем не то иудеи: на кой нам гой. Поэтому и больные суставы, как у ирландского волкодава при Кромвеле. Поднимаем родословную М. Фёдорова-Рошаля: Строева (Рихтер), Рошаль (рабби Шломо Лурье), Фёдоров (Өёдоровъ).
Давно живу на свете, но краше молодца не встречал: Авессалом с лицом фараона. Доскональный знаток «Аиды» подхватит и разовьёт: египетские фараоны и фараонши пудрились впрозелень, что безоговорочно выдаёт в них пришельцев с Нибуру. Так держать, знаток.
Возвращаюсь к М. Фёдорову-Рошалю времён явления народу: причёска библейского Авессалома, нибуро-египетское лицо и белый свитер крупной вязки под горло. Ослепительно белый: петькину бороду помню, мишкину — хоть убей. На это и рассчитывал, кстати говоря, Сезанн, оставляя пробелы: денег на краски в обрез, а подальше отойти — мазки сливаются в экстазе. Хотите проверить? Делается так: заворачиваем Карла Маркса в простыню, заливаем лицо зелёнкой, делаем шаг вперёд и два назад. Бороды как ни бывало.
Спаленка хозяев проходная в кабинет, исследована от и до: вхож. Налево лежанка Марианны Григорьевны, направо Георгия Борисовича. Легко понять, почему направо: отход ко сну не на том боку, где сердце с восьмью омертвелостями. А при такой расстановке топчанов кровотоку льгота и противоположная стена перед глазами: умиляйся и засыпай в приподнятом настроении.
Чем умиляйся? Этюдом в полторы ладони: осенняя дорога и одинокий телеграфный столб. Столб скорее угадывается, чем въяве.
Справляюсь у благодарного зрителя: чьей кисти это чудо? Не мишкиной же, отвечает. И, на выдохе:
— Всё не распишутся.
Таки расписались, см. пригласительный билет на усохшие в ноль яйца. Это к тому, что Лиле Вьюгиной без архива Святого семейства не обойтись. Вот позывные: ул. Дм. Ульянова, д. <...>, спросить ненаглядную Анну.
И хотелось бы не разглашать, но придётся: одна и та же беда — что у Георгия Борисовича, что у Мая Петровича. Но у того поблажка: не родная кровь.
Незабываема боль, с которой Май поделился этим горем. Звать Андрюша. Занимается стрижкой. В руке ножницы, открывает водопроводный кран. И чак струйку воды. Чак-чак. Ч-чак. Чак-чак-чак. Ча-а-ак. Ччак-ччак-ччак. И вот вчера пришлось вызвать. Увезли. Прижимая к себе Евангелие.

В Кащенко или что-то в этом роде, уже не помню.
Тридцать лет не было повода справиться о дальнейшей судьбе водяного стригаля. ‹...› Смотрим в Википедии семейное положение Маевны: замужем. Справляемся у супруга, как он к этому относится. В той же Википедии.
Ни гу-гу о жёнах, но дочь Мария налицо. Переводим с эзопова языка на гомерический: Пенелопа на Итаке, Одиссей у Каллипсо. Или гордое одиночество первопроходца.
Собираем сведения о землях, открытых благодаря его порывам, дерзновениям и хитроумию. У добрых молодцев, например, положивших каркалыгу поперёк Невы. Ровнёхонько до середины русла. Разводной мост, да. Дело к ночи, каркалыга ка-ак заторчит. Кто надоумил? Основоположник, отвечают разводилы. И такой загибают панк-молебен Андрюше, что гоголевский Вий требует опустить ему веки.
Но всё это будет потом, тридцать лет спустя. А сегодня звонит Май Петрович и спрашивает, в котором часу я обычно заваливаюсь на Брянскую. Потому что завтра днём помещение займёт Вера. Завтра и так далее, пока не управится. Объяснение такое: великий почин, первая самостоятельная книжка. Очень важно сосредоточиться, чтобы не ударить лицом в грязь. Так что завтра не удивляйся прекрасной незнакомке.
С какой стати незнакомка, дотла изучил милые черты. Делает вид, что смотрит в книгу, и всё это фирменной штриховкой Петра Митурича.
Я вам не Пигмалион, чтобы влюбляться в изображение. Зачем эти страсти-мордасти. Для продолжения рода Хлебниковых совсем не обязательно терять голову. Скорее, наоборот. Холодный расчёт — необходимое условие зачатия сына, утверждает Младшая Эдда.
Делается так: на голове завязанная по-сталинградски шапка-ушанка, надеваем рукавицы, под подушку кладём топор. Древние скандинавы хлопотали о пополнении своих шаек бойцами, женщины — дело наживное.
В. Молотилов. Веха. Гл. 10. Две Веры
А с родной кровью так: никто за язык не тянул хвост о личном вкладе в бульдозерную выставку распускать. Таки распустил: «Дадим угля сверх плана!» Знали бы вы, через какие муки совести предъявляю. Теперь подо мной уголёк стопудово черти будут шуровать, не отвертишься. Но хартия — не главный подвох. И не двоеперстие. И не золотой нимб. Тогда что. Тогда контрактура, она же стягивание букв посредством титла. По левую сторону нимба титло, и по правую титло. Мусульманин затруднится, православному грамотею — пара пустяков: М<ихаи>л Ф<еодоро>в. И слышим от побуревшего в свеклу грамотея:
— Мразь!
Думаете, Филиппу Денисовичу не доложили? Доложили в лучшем виде, с придачей цветного снимка. И что сказал Филипп Денисович? Ничего не сказал, только плюнул в сердцах. Но Юрия Владимировича улыбнуло. И Филипп Денисович без промедления отчеканил:
— Есть готовить доклад!
На этом и поставить бы жирную точку, но нет.
Когда у меня в квартире проходил обыск, я был на даче. В ордере было указано дело Сысоева, его номер и имя. Мне позвонил Юра, первый муж Лены Романовой: „У тебя обыск”. Я почему-то решил сначала, что это шутка такая дурацкая. Дома были моя мама, жена Аня, потом ещё много народу пришло — всех впускали, никого не выпускали. Так продолжалось до позднего вечера. У Никиты обыск проходил в тот же день, так они его однокомнатную квартиру, где всё было убрано для выставки, часа за три перерыли. И ему сказали: „Никому про обыск не говори”.

И первое, что сделал Никита, когда они ушли, пришёл ко мне, ему открыл дверь тот же дядька, который у него только что был: „А, — говорит, — знакомые люди, проходи-проходи…” Так Никита до 10 вечера с остальными и просидел у меня, кто-то портвейн принёс, гости выпивали и веселились.
Из последствий обыска самое неприятное то, что они унесли работы, не составив списков. У меня стоял ящик с работами “мухоморов”, мне Никита принёс его накануне. Вот его сгребли, не посмотрев толком, что в нём лежит, описи не было. Мои работы — портреты Сахарова из сахара и Солженицына из соли — висели на стене, никто на них и внимания не обратил сначала. Один жук у мамы спросил, дескать, кто это. Она сказала: „Какие-то греческие или римские герои”. Так они и висели, только под конец кто-то сказал — то ли кто-то из присутствующих, то ли кто-то специально пришёл, не знаю. Может, и ещё что-то забрали по мелочи, не помню.
Потом меня вызвали на Лубянку совершенно диким образом. Мне позвонил какой-то незнакомый человек и говорит: „Меня просили вам передать, чтобы вы в четверг зашли в КГБ, дом такой-то, подъезд такой-то”. Я говорю: „Бросьте шутки”. И не пошёл никуда, естественно. Прошла пятница, потом суббота и воскресенье. А в воскресенье мы выпивали, конечно же. В понедельник в 8 утра звонок в дверь: „Это почта”. Я ещё спал в дальней комнате, слышу всё сквозь сон, потом говорю: „Дайте хоть одеться”. Раздвигаю шторы (живу-то я на 1-м этаже), а там стоит человек с фиксой абсолютно блатного вида и смотрит ухмыляясь. Ну вот засунули меня в чёрную «Волгу» и повезли по-царски — по середине улицы, с мигалкой, с сиреной, со всеми почестями. Я им говорю: „Слушайте, вот пивнушка, дайте хоть пива выпить”. А они: „Щас, будет тебе пиво и всё, что хочешь”. Допрос шёл 4 часа. Никита мне тогда сказал, что и у него допрос длился 4 часа. Мы решили, что пленка у них стандартная, рассчитана на 4 часа. Но там про APTART практически не спрашивали, в основном про Тода Блудо, обо всех его делах. Вообще, о чём шла речь, я в деталях не помню, для меня это просто мучение было — 4 часа разговаривать с похмелья. Я помню только, какое облегчение испытал, когда оттуда вышел и отправился в рюмочную по соседству.
https://artguide.com/posts/2408?page=10
Сличаем даты: дорогой Владимир Сергеевич убыл с дачи Фёдоровых-Рошалей вечером 27 января, тютя в тютю с прибытием туда Фёдорова-младшего, а выемку на Дм. Ульянова в присутствии М.Г. Рошаль-Строевой произвели 15 февраля. Три недели подозреваемый не имел возможности спрятать концы в воду, неотлучно подменяя мать у одра Фёдорова-старшего.
— Ахтунг! да он чекист, майор разведки!
Бери выше, и не подумаю отпираться: осанна Филиппу Денисовичу любого наведёт на подозрение. Даже частушку один такой догадливый на шконке накорябал:
в перми на улице лубянке
висел у фимы кителок
бальшие на плечах жистянки
с приветом хлебников и блок.
И большие звёзды, и дача в четыре жилья, и мерс, и пирс, и катер на воздушной подушке, и личный лесок — всё при всём. Не прогулка по Гайве — купание в лучах: доброе утро, Ефим Ильич! здравия желаю, Ефим Ильич! как там наше гелионарное оружие, Ефим Ильич? почему тянем с победой палестинского народа, Ефим Ильич? И зальёшься, бывало, воронёной трелью: noblesse oblige.
Положение обязывает, например, ответить на вопрос: почему Филипп Денисович плюнул в сердцах, обозревая двоеперстие, хартию и титлы обочь нимба. Очень простой ответ: потому что воевал, ранен и уцелел. Три неложных признака истинно верующего, любой пономарь подтвердит. Во-вторых, Леонид Ильич тоже воевал, ранен и уцелел. И что, превращать ковровую дорожку в плавательную?
Вот когда поймёшь, как полезно быть завсегда с народом по имени Федорчук:
— Мне бы, Виталий Васильевич, запись прослушки того православного грамотея. Как стёрта? А кто записывал? Иванов? Погиб на задании? И какое последнее слово? Разъ<...>и?
Поэтому-то и шваркнул Филипп Денисович двоеперстного карбонария генсеку на стол, не раскрывая рта: заветное слово уже сидело на языке. А ну как выпрыгнет с отрыжкой. Но слово сидело, сидело и сидело. Всему положен предел: последние тучи рассеянной бури умчались, пора.
— И я того же мнения, Леонид Ильич. Разъ<...>и!
А Леонид Ильич, хотя и не метит в отцы народов, без малого пастырь человечества: светлое-то будущее не за горами. Отпускает Филиппа Денисовича с миром и вызывает Суслова для внушения под видом обмена мнениями:
— Человек у нас высшая ценность или нет?
— Высшая, дорогой Леонид Ильич!
— У этого разъ<...>я образование высшее?
— Высшее, дорогой Леонид Ильич!
Ну, думает, высшая мера молодчику мёдом покажется. Но плохо вы знаете Леонида Ильича:
— Вот и не препятствуйте зачислению М. Фёдорова-Рошаля в секцию book-design, раз высшее.
Ладно, пошутили. В другой раз представлюсь Colonel du DGSE Viam de Boisguilbert. Готовьте сменные трусики.
Как ни странно, в указанном пастырем человечества направлении действовал и отец М. Фёдорова-Рошаля: пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Не иносказание, увы: зубная боль за грудиной раз, зубная боль за грудиной два, зубная боль за грудиной три, отёк лёгких четыре и далее по списку.
Зная подоплёку, не приходится удивляться, что художником «Возвращённого имени» писателя и археолога Г.Б. Фёдорова значится М. Фёдоров. Ответственно заявляю: обложка на пятёрку. Откидываем на карандашный портрет писателя. Ответственно заявляю: ни малейшего сходства. Да он рисовать не умеет, этот М. Фёдоров. Чем позориться, вклеил бы лучше М.Е. Салтыкова-Щедрина, две капли воды с Георгием Борисовичем.
Но как же не умеет рисовать, когда обложка на пятёрку. А так же: умеет, но не любит. Читаем показания юнейшего бульдозериста: картинка, картинка, картинка. Что-то я не слыхал от Мая Митурича таких самооценок. И вдруг догадываешься: кто не любит рисовать — ни дурки тому, ни ссылки, ни высылки.
Тут бы и поставить жирную точку. Но нет. Простой вопрос: что такое мишкины затеи с точки зрения Максима Горького? Безумство храбрых или понты? Нет ответа. Сузим постановку вопроса: кому наследуют эти затеи?
На святках нам достали маскарадные костюмы. Хлебников выбрал костюм римского патриция.

Когда ему застегнули на плече тогу, обнажив худые, вялые руки и жилистую шею, вид у него стал совсем жалкий. Но вот у него на голове лавровый венок, и вдруг с Хлебниковым происходит нечто неожиданное: он выпрямляется и кажется очень высоким, лицо стало властным, глаза — твёрдыми и холодными.
А когда мы все вместе поднимались по лестнице женского Медицинского института, Хлебников внезапно шагнул со ступенек на пьедестал, приготовленный для какой-то скульптуры, величественно поднял руку и замер. Настоящая мраморная статуя: ни один мускул не дрогнет в лице!
Так Хлебников, не шевелясь, простоял несколько часов. Только когда маскарад закончился, он сошёл с пьедестала и как был, в тоге и сандалиях, пошёл по Большому проспекту.
Было холодно, но Хлебников, почти босой, с обнажённой грудью, надменно шагал по снегу. Изумлённые прохожие шарахались от него, но римский патриций не замечал ни их, ни мороза, ни порывистого ветра.
Полицейские арестовали его. У Нерона не оказалось никакого вида на жительство, ничего, кроме тоги и лаврового венка. Его посадили в каталажку. Утром поэта пришлось выручать. Михаил Васильевич сначала съездил в Медицинский институт за его шубой, потом — в участок. На все расспросы Хлебников молчал.
Ольга Матюшина. Призвание
И напоследок скажу так: позор всякому, кто помянет М.Г. Фёдорова-Рошаля (1956–2007) не тем словом. Какое то? Подхватил святое знамя, вот какое. Сдуру или поручено свыше — не нам судить. Аминь.
Отставить. А продума деебна? Томить читателя не в моих правилах. Как следует разогреть — да, имею такую привычку. Мозги кипят? Будет вам под горку и с ветерком. Погнали.
Стоять. Простой вопрос: каково покажется дорогому Владимиру Сергеевичу, если дражайшая Лилия Васильевна вздумает учить его расстановке запятых? Затрудняешься? Идём от противного: как далеко пошлют дядю с улицы, вздумай тот лезть указую под руку на последнем прогоне? Но это последний прогон; а если предстоит продума деебна?
Плохо вы знаете дорогого Владимира Сергеевича, вот что. Владимир Сергеевич поставит стул на стол и подсадит на сооружение дядю, а сам примостится на полу: слушаю внимательно. И стали мы с дядей братья Гонкуры.
Но это свой брат с улицы, не указуй. Стук-стук Лилия Васильевна Владимиру Сергеевичу в стальной ставень; присаживайтесь, вам кофе или чайку? Я мигом. А сам на мерс — и ходу. Или на пирс. Только и видели. Владимир Сергеевич сроду не сядет в чужие сани, вот почему.
Только и видели Владимира Сергеевича с продумой деебна под корой головного мозга. Набрать и ознакомить — день работы. Разве чужие сани предыдущему паровозу не двоюродный плетень?
Окончание 
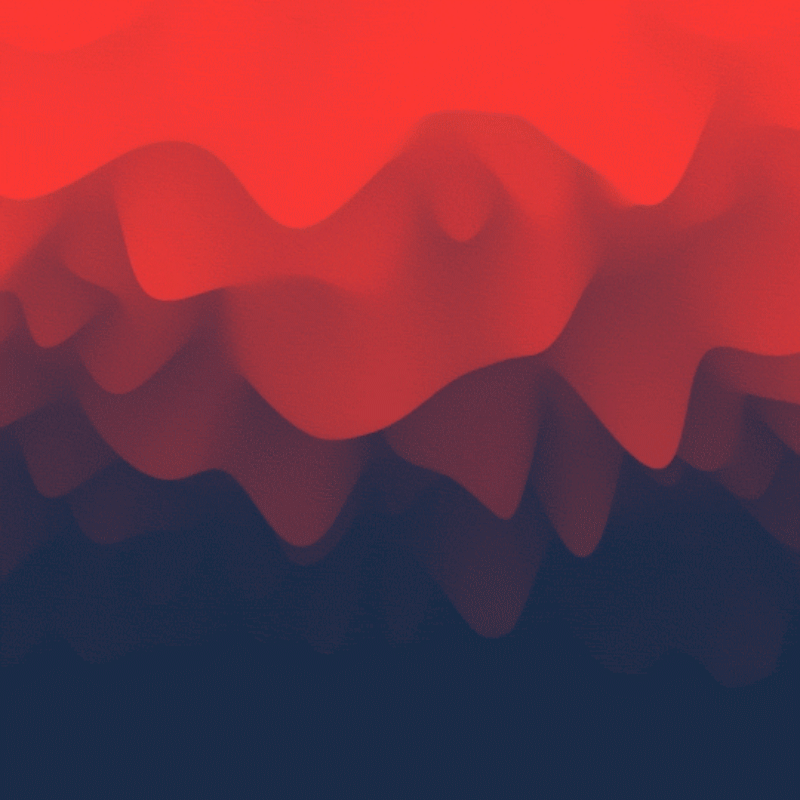
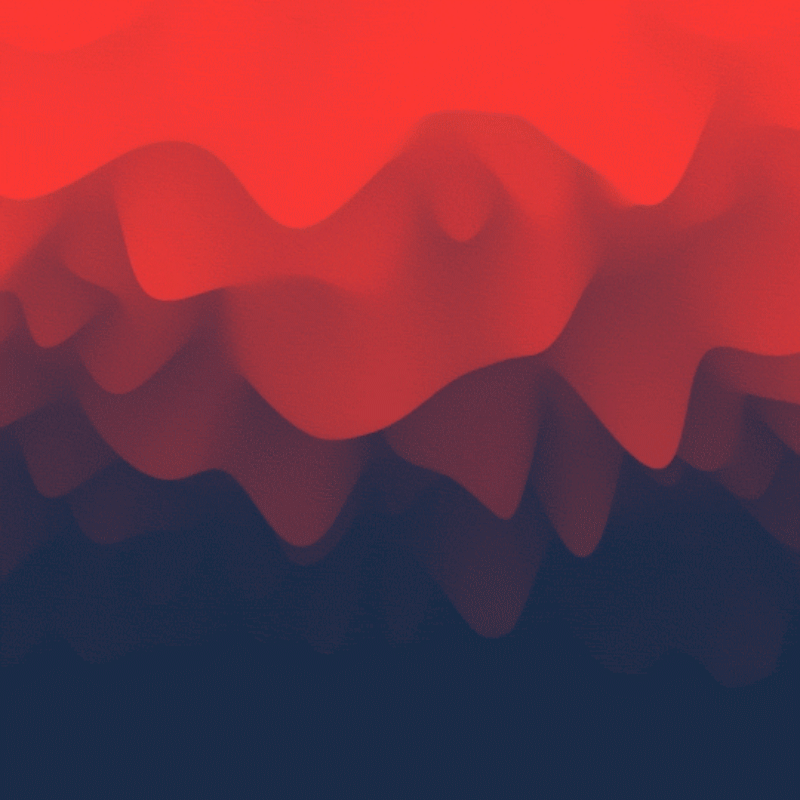
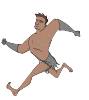
 ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь.
ак в воду глядел: началось. Ну ты и возомнил о себе. Хлебников, мол, Борея принанял паруса упружить, а на мостике Виам де Буагильбер в башмаках с золотыми пряжками. Лично я главстаршину Парниса понимаю только так. Покайся, сволочь. 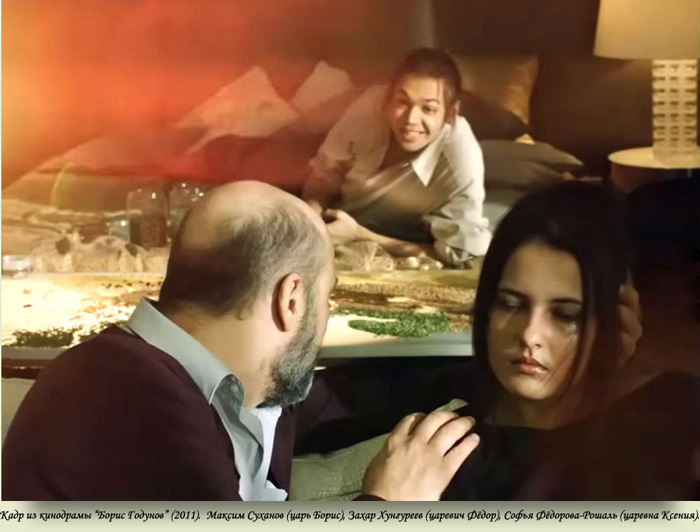 Велимира Хлебникова допускалось не знать и пары слов, достаточно склонить голову перед его светлой памятью. И вот однажды Дуняша отпирает дверь на звонок, а там табор не табор, но довольно-таки много чемоданов, баулов и корзинок в придачу к трём незнакомцам — семье, судя по наличию ребёнка. Пустите, говорит глава предполагаемой семьи, пожить на полтора месяца, нам больше некуда податься.
Велимира Хлебникова допускалось не знать и пары слов, достаточно склонить голову перед его светлой памятью. И вот однажды Дуняша отпирает дверь на звонок, а там табор не табор, но довольно-таки много чемоданов, баулов и корзинок в придачу к трём незнакомцам — семье, судя по наличию ребёнка. Пустите, говорит глава предполагаемой семьи, пожить на полтора месяца, нам больше некуда податься. Георгий Борисович постоянно рассказывал мне о людях, с которых стоит делать жизнь, просто жизнь. Или жизнь учёного. Или жизнь борца с несправедливым общественным устройством.
Георгий Борисович постоянно рассказывал мне о людях, с которых стоит делать жизнь, просто жизнь. Или жизнь учёного. Или жизнь борца с несправедливым общественным устройством.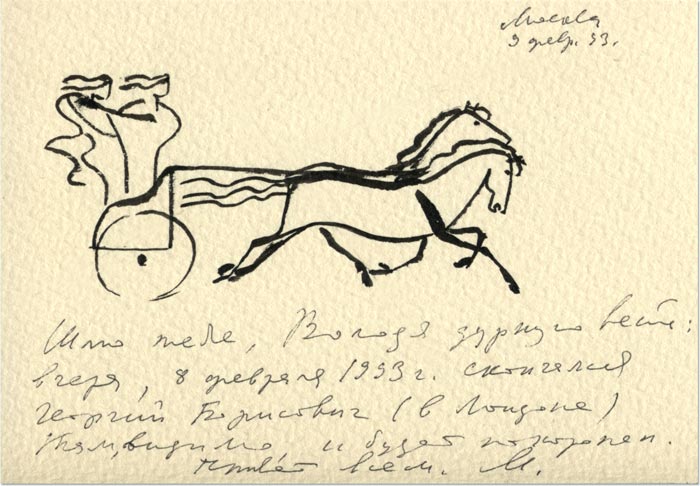 Помню даже два крестика разом — один кипарисовый, из Иерусалима. ‹...›
Помню даже два крестика разом — один кипарисовый, из Иерусалима. ‹...› за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провёл в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. ‹...›
за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провёл в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. ‹...› Рошаль-Строева Марианна Григорьевна, всего на год старше нашей королевы Елизаветы II, родилась в Москве в творческой семье режиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой.
Рошаль-Строева Марианна Григорьевна, всего на год старше нашей королевы Елизаветы II, родилась в Москве в творческой семье режиссёров Григория Рошаля и Веры Строевой. На первой фотографии была надпись красными чернилами „Дорогой Маечке в наш общий день рождения. С любовью” и дата — 1945. Однако в Москве его ждал один удар за другим. Мало того, что вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, а негатив приказано было смыть (только отчаянная смелость Фиры Тобак, монтажёра фильма, помогла спасти одну копию, которую она спрятала у себя дома), Эйзенштейна заставили публично покаяться в том, что он искажал историю, очернял опричников. Его лишили права преподавать во ВГИКе. В результате первый инфаркт. Я в это время снимала свою дипломную работу по мотивам пьесы американских драматургов «Глубокие корни» о дискриминации негров, героев второй Мировой войны, что очень напоминало разгул антисемитизма у нас в те годы. Узнав об этом, Эйзенштейн прислал мне в подарок американскую открытку с изображением улыбающегося негритёнка и надписью „В знак глубоких корней нашей дружбы”.
На первой фотографии была надпись красными чернилами „Дорогой Маечке в наш общий день рождения. С любовью” и дата — 1945. Однако в Москве его ждал один удар за другим. Мало того, что вторая серия «Ивана Грозного» была запрещена, а негатив приказано было смыть (только отчаянная смелость Фиры Тобак, монтажёра фильма, помогла спасти одну копию, которую она спрятала у себя дома), Эйзенштейна заставили публично покаяться в том, что он искажал историю, очернял опричников. Его лишили права преподавать во ВГИКе. В результате первый инфаркт. Я в это время снимала свою дипломную работу по мотивам пьесы американских драматургов «Глубокие корни» о дискриминации негров, героев второй Мировой войны, что очень напоминало разгул антисемитизма у нас в те годы. Узнав об этом, Эйзенштейн прислал мне в подарок американскую открытку с изображением улыбающегося негритёнка и надписью „В знак глубоких корней нашей дружбы”. Они назывались «Дневная поверхность», «Возвращённое имя» и ещё как-то. Может, кто-нибудь помнит? ‹...›
Они назывались «Дневная поверхность», «Возвращённое имя» и ещё как-то. Может, кто-нибудь помнит? ‹...› В экспедицию! В экспедицию — и мы приехали из Дубны на Савёловский вокзал с тяжёлыми рюкзаками, взяли такси до дома ГБ, и когда я спросил, далеко ли он, папа твёрдо сказал, что очень далеко. А это был академический дом на Университетском проспекте, между Ленинским и Вавилова, и мимо него я потом проезжал почти каждый день, теперь это почти центр Москвы.
В экспедицию! В экспедицию — и мы приехали из Дубны на Савёловский вокзал с тяжёлыми рюкзаками, взяли такси до дома ГБ, и когда я спросил, далеко ли он, папа твёрдо сказал, что очень далеко. А это был академический дом на Университетском проспекте, между Ленинским и Вавилова, и мимо него я потом проезжал почти каждый день, теперь это почти центр Москвы. В аннотации к последней прижизненной книге Георгия Борисовича «Басманная больница», вышедшей в 1989 году, когда я уже давно жил в Израиле, говорится: „Доктор исторических наук Георгий Борисович Фёдоров посвятил свою жизнь истории Подунавья и Приднепровья, участвовал в раскопках древнего Новгорода”. Эту книгу он прислал мне с оказией в Иерусалим с трогательной надписью: „Любимому другу Боре Камянову сквозь годы, тысячи километров, границы и всё остальное с неослабевающей любовью”.
В аннотации к последней прижизненной книге Георгия Борисовича «Басманная больница», вышедшей в 1989 году, когда я уже давно жил в Израиле, говорится: „Доктор исторических наук Георгий Борисович Фёдоров посвятил свою жизнь истории Подунавья и Приднепровья, участвовал в раскопках древнего Новгорода”. Эту книгу он прислал мне с оказией в Иерусалим с трогательной надписью: „Любимому другу Боре Камянову сквозь годы, тысячи километров, границы и всё остальное с неослабевающей любовью”. А “гений Алчедара” не исчезал — им был наполнен его дом в Москве, затем в подмосковном Климовске.
А “гений Алчедара” не исчезал — им был наполнен его дом в Москве, затем в подмосковном Климовске. чень просто пронюхали: черезъ нашего крота въ Лондонѣ. Заднимъ числомъ нетрудно угадать освѣдомителя. Кимъ Филби до 1949-го находился въ Стамбулѣ, а потомъ переѣхалъ въ Вашингтонъ — сей отпадаетъ; Дональдъ Маклейнъ до 1950-го работалъ в Каирѣ — отпадаетъ. Остаётся Гай Бёрджессъ, чиновникъ по особымъ порученiямъ Foreign Office, агентъ лондонской резидентуры ИНО НКВД съ 1935 г.
чень просто пронюхали: черезъ нашего крота въ Лондонѣ. Заднимъ числомъ нетрудно угадать освѣдомителя. Кимъ Филби до 1949-го находился въ Стамбулѣ, а потомъ переѣхалъ въ Вашингтонъ — сей отпадаетъ; Дональдъ Маклейнъ до 1950-го работалъ в Каирѣ — отпадаетъ. Остаётся Гай Бёрджессъ, чиновникъ по особымъ порученiямъ Foreign Office, агентъ лондонской резидентуры ИНО НКВД съ 1935 г. Замри, мгновенье. Надо пояснить, что значитъ заблаговременное прiобрѣтенiе: утромъ ходили покупать. На мои, плохого не подумайте. Да ему и не продали бы. Помните дождевикъ, въ которомъ Орестъ Верейскiй засталъ археолога Өёдорова времёнъ хрущёвской оттепели? Горбачёвской перестройке спѣли отходную, а плащъ тотъ же. И беретикъ. Горьковскiй типажъ изъ «На днѣ», откуда у такого деньги. Ни за что не продали бы.
Замри, мгновенье. Надо пояснить, что значитъ заблаговременное прiобрѣтенiе: утромъ ходили покупать. На мои, плохого не подумайте. Да ему и не продали бы. Помните дождевикъ, въ которомъ Орестъ Верейскiй засталъ археолога Өёдорова времёнъ хрущёвской оттепели? Горбачёвской перестройке спѣли отходную, а плащъ тотъ же. И беретикъ. Горьковскiй типажъ изъ «На днѣ», откуда у такого деньги. Ни за что не продали бы. ёдоров Г.Б. из анналов молдавской археологии стёрт не указующим окриком, а тихой сапой. Провокатор, фальсификатор и тому подобные приятности вдогонку. Марк Ткачук (род. 1966) мэтра на раскопе не застал, но вскочил-таки в уходящий поезд: подпольщики-фёдоровцы свели юношу с основоположником, зачинателем, первопроходцем, добрым гением и всё такое. Молодёжи вокруг Георгия Борисовича всегда было хоть отбавляй, но дух веет, где хочет: сегодня “евангелие от Марка” — лучшее curriculum vitae моего незабвенного друга. ‹...›
ёдоров Г.Б. из анналов молдавской археологии стёрт не указующим окриком, а тихой сапой. Провокатор, фальсификатор и тому подобные приятности вдогонку. Марк Ткачук (род. 1966) мэтра на раскопе не застал, но вскочил-таки в уходящий поезд: подпольщики-фёдоровцы свели юношу с основоположником, зачинателем, первопроходцем, добрым гением и всё такое. Молодёжи вокруг Георгия Борисовича всегда было хоть отбавляй, но дух веет, где хочет: сегодня “евангелие от Марка” — лучшее curriculum vitae моего незабвенного друга. ‹...›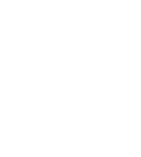 средних и малых литовских городах (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т.д. Первые этажи на ряде улиц целиком состояли из магазинов (на вторых этажах часто жили хозяева). Продукты были необычайно свежи, разнообразны, вкусны, неправдоподобно дёшевы. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины «Майстас», стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины эти ломились от всех видов мяса — от фасованного до целых, висящих на крюках туш, ветчин, колбас, других мясных изделий, свежайших или копчёных птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран.
средних и малых литовских городах (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т.д. Первые этажи на ряде улиц целиком состояли из магазинов (на вторых этажах часто жили хозяева). Продукты были необычайно свежи, разнообразны, вкусны, неправдоподобно дёшевы. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины «Майстас», стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины эти ломились от всех видов мяса — от фасованного до целых, висящих на крюках туш, ветчин, колбас, других мясных изделий, свежайших или копчёных птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран. Там цены были пониже, да ещё можно было поторговаться, выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.
Там цены были пониже, да ещё можно было поторговаться, выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.
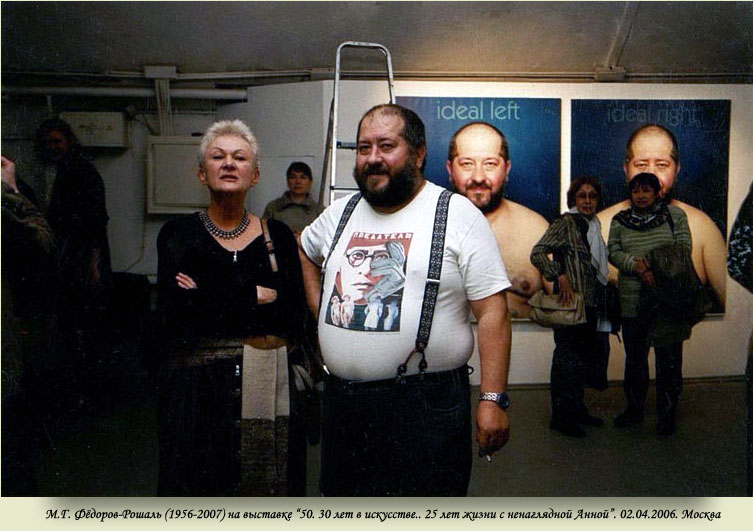

 К концу дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на другие товары — даже в несколько десятков раз. Но и это не спасло большинство торговцев от банкротства. ‹...›
К концу дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на другие товары — даже в несколько десятков раз. Но и это не спасло большинство торговцев от банкротства. ‹...› Однако выйти на неё никак не получалется. Вот и вчера получил от В. Шахиджаняна (вырос в семье её родителей) весточку: звоню и звоню в Лондон, но трубку никто не берёт. При этом пишет в своём блоге, что Марианна сейчас гостит у дочери в Израиле.
Однако выйти на неё никак не получалется. Вот и вчера получил от В. Шахиджаняна (вырос в семье её родителей) весточку: звоню и звоню в Лондон, но трубку никто не берёт. При этом пишет в своём блоге, что Марианна сейчас гостит у дочери в Израиле.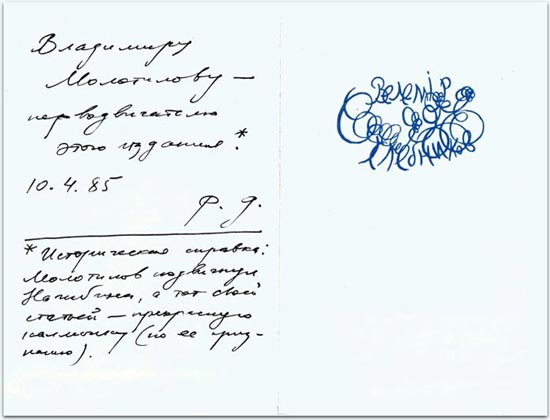 Вообще-то следует знать, как я принимаю чью-либо помощь. Никак, если не бегут впереди паровоза. То есть угадывают малейшее моё желание. Если не хватает ума угадать, всё делаю сам. Аминь.
Вообще-то следует знать, как я принимаю чью-либо помощь. Никак, если не бегут впереди паровоза. То есть угадывают малейшее моё желание. Если не хватает ума угадать, всё делаю сам. Аминь.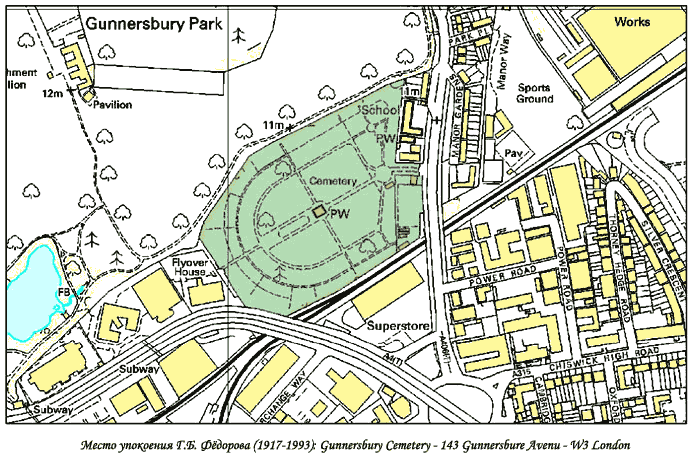 Выправить, вывесить — и выкинуть из головы.
Выправить, вывесить — и выкинуть из головы. Дальше можно не нагнетать: в качестве приложения (с. 273–356) там оказался русский перевод «Arcana Historia» Прокопия Кесарийского. В следующем году ВДИ порадовал читателя новым свидетельством незаурядного дарования византийского историографа — в отличие от предыдущего образчика, бесспорного с любой точки зрения: «О постройках».
Дальше можно не нагнетать: в качестве приложения (с. 273–356) там оказался русский перевод «Arcana Historia» Прокопия Кесарийского. В следующем году ВДИ порадовал читателя новым свидетельством незаурядного дарования византийского историографа — в отличие от предыдущего образчика, бесспорного с любой точки зрения: «О постройках». Произведение Г.Б. Фёдорова имеет полное право произрастать на Хлебникова поле: любой мало-мальски сведущий его посетитель знает, что В. Хлебников страшно гордился происхождением святого императора — раз, дорожил тайным братством законодателей — два. ‹...›
Произведение Г.Б. Фёдорова имеет полное право произрастать на Хлебникова поле: любой мало-мальски сведущий его посетитель знает, что В. Хлебников страшно гордился происхождением святого императора — раз, дорожил тайным братством законодателей — два. ‹...› Познал Юстинан Феодору до убытия красотки в Египет или духу не хватило — темна вода во облацех, но влюблён был ещё с тех пор. И вот она перед ним вновь. То же изящество и остроумие, но уже недоступна ни-ко-му. ‹...›
Познал Юстинан Феодору до убытия красотки в Египет или духу не хватило — темна вода во облацех, но влюблён был ещё с тех пор. И вот она перед ним вновь. То же изящество и остроумие, но уже недоступна ни-ко-му. ‹...› Буде мне позволено высказать личное мнение, без малейшего сомнения заявлю, что глава XLIV согласована с Феодорой, да и кое-какие из предыдущих она поправила. Устно, разумеется: едва ли шлюха из борделя владела пером в достаточной для законотворчества степени — раз, во время создания новеллы СХХIII её поедала раковая опухоль — два.
Буде мне позволено высказать личное мнение, без малейшего сомнения заявлю, что глава XLIV согласована с Феодорой, да и кое-какие из предыдущих она поправила. Устно, разумеется: едва ли шлюха из борделя владела пером в достаточной для законотворчества степени — раз, во время создания новеллы СХХIII её поедала раковая опухоль — два. Как и полагается рабочим породам, прародители ирландских волкодавов красотой не блистали, зато повергали в трепет грозным видом и замечательной подвижностью. Так, например, в конце III века н.э. “ирландцы” выступили на арене римского цирка, где выказали необыкновенную удаль в битве со львом. Что же касается успехов на охотничьем поприще, то к 1780 году волки в Ирландии были полностью истреблены.
Как и полагается рабочим породам, прародители ирландских волкодавов красотой не блистали, зато повергали в трепет грозным видом и замечательной подвижностью. Так, например, в конце III века н.э. “ирландцы” выступили на арене римского цирка, где выказали необыкновенную удаль в битве со львом. Что же касается успехов на охотничьем поприще, то к 1780 году волки в Ирландии были полностью истреблены. Нежные гиганты — вот кто они такие. Конечно, теперь их редко используют по прямому назначению, но в качестве компаньонов заводят часто и охотно. Если, конечно, позволяет жилплощадь.
Нежные гиганты — вот кто они такие. Конечно, теперь их редко используют по прямому назначению, но в качестве компаньонов заводят часто и охотно. Если, конечно, позволяет жилплощадь. риключения Коржавина в ссылке и наши отношения во время и после неё — отдельная история, на этом останавливаться не буду. Скажу только, что зачисление в экспедицию состоялось после его возвращения. Официальный статус был нужен позарез, он ещё не был восстановлен в Институте ни материально, ни морально. Поэтому работа в экспедиции для него имела один деликатный момент: в сталинский период — да и после, особенно до ХХ-го съезда (хотя, насколько я могу судить, и после съезда ничего не изменилось) — в любую крупную экспедицию обязательно внедряли стукача, сотрудника КГБ. Кадрового или добровольного — уж как получится. И вот я подумал: зашлют невесть кого, ещё какую-нибудь сволочь отпетую. Дай-ка я сам подберу себе человека. Подходящий у меня на примете был: киевский археолог профессор Виктор Платонович Петров.
риключения Коржавина в ссылке и наши отношения во время и после неё — отдельная история, на этом останавливаться не буду. Скажу только, что зачисление в экспедицию состоялось после его возвращения. Официальный статус был нужен позарез, он ещё не был восстановлен в Институте ни материально, ни морально. Поэтому работа в экспедиции для него имела один деликатный момент: в сталинский период — да и после, особенно до ХХ-го съезда (хотя, насколько я могу судить, и после съезда ничего не изменилось) — в любую крупную экспедицию обязательно внедряли стукача, сотрудника КГБ. Кадрового или добровольного — уж как получится. И вот я подумал: зашлют невесть кого, ещё какую-нибудь сволочь отпетую. Дай-ка я сам подберу себе человека. Подходящий у меня на примете был: киевский археолог профессор Виктор Платонович Петров. И я пригласил его в экспедицию. Он охотно согласился. Я назначил его даже не начальником отряда, а начальником раскопа в одном из отрядов экспедиции.
И я пригласил его в экспедицию. Он охотно согласился. Я назначил его даже не начальником отряда, а начальником раскопа в одном из отрядов экспедиции. Но они, кстати, были против, говорили: ты ещё молод, зачем тебе проблемы.
Но они, кстати, были против, говорили: ты ещё молод, зачем тебе проблемы. — Такая договоренность тогда, наверное, была. Тем более, что за подобное выступление можно было вполне угодить за решётку. Но этот портрет — вещь относительно безобидная, на нём только было написано „Известные художники ХХ века”. Да и гэбэшникам было плевать, что мы притащили! Им мероприятие надо было провести. Это потом уже стали очень внимательно следить за содержанием искусства.
— Такая договоренность тогда, наверное, была. Тем более, что за подобное выступление можно было вполне угодить за решётку. Но этот портрет — вещь относительно безобидная, на нём только было написано „Известные художники ХХ века”. Да и гэбэшникам было плевать, что мы притащили! Им мероприятие надо было провести. Это потом уже стали очень внимательно следить за содержанием искусства. — Во-первых, выслали одного только Солженицына, других писателей не высылали. Поэтому смешно думать, что за границу отправили бы пятнадцать членов инициативной группы. Никто не хотел эмигрировать просто так, все стремились показывать себя здесь.
— Во-первых, выслали одного только Солженицына, других писателей не высылали. Поэтому смешно думать, что за границу отправили бы пятнадцать членов инициативной группы. Никто не хотел эмигрировать просто так, все стремились показывать себя здесь. — Да я и не знаю. Меня никто никуда не забирал. Единственное, что я получил ранение от собственного ножа, когда хотел распаковать картинки, чтобы показать их. Тогда взяли в участок Сашу Рабина, Оскара, Надю Эльскую. Ночь продержали, наутро выпустили.
— Да я и не знаю. Меня никто никуда не забирал. Единственное, что я получил ранение от собственного ножа, когда хотел распаковать картинки, чтобы показать их. Тогда взяли в участок Сашу Рабина, Оскара, Надю Эльскую. Ночь продержали, наутро выпустили. — Так ты в Горкоме не участвовал?
— Так ты в Горкоме не участвовал?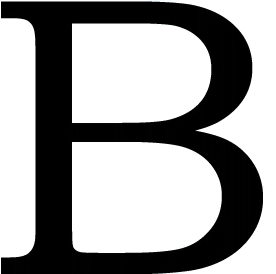 стреча с Уорхолом была культурным шоком. Я впервые оказался в мастерской классика поп-арта. В столовой висела гигантская картина Курбе. Его мастерская была одновременно редакцией журнала «Интервью» и клубом, через который проходило огромное множество удивительно красивых мужчин и женщин. Они шли мимо, кивали нам, махали ручкой. Это была совершенно не та обстановка, которую ты ожидаешь увидеть в мастерской, где художнику нужно сосредоточиться и работать.
стреча с Уорхолом была культурным шоком. Я впервые оказался в мастерской классика поп-арта. В столовой висела гигантская картина Курбе. Его мастерская была одновременно редакцией журнала «Интервью» и клубом, через который проходило огромное множество удивительно красивых мужчин и женщин. Они шли мимо, кивали нам, махали ручкой. Это была совершенно не та обстановка, которую ты ожидаешь увидеть в мастерской, где художнику нужно сосредоточиться и работать. Известный коллекционер русского искусства Нортон Додж продал нам свою душу за 70 центов. Какая-то проститутка продала свою, кажется, за 40 долларов. Но были такие, кто серьёзно относился к нашему предложению и требовал миллионы. Они понимали, что совершают большой грех, и хотели получить соответствующую компенсацию. У нас таких денег не было, поэтому мы поменяли тактику. Мы сказали, что можем, как это делают галерейщики, брать души на комиссию. В случае продажи мы готовы были делить доход пополам. Это была обычная практика галерейного бизнеса. Художник писал картину, вкладывая в неё всю свою душу. Потом галерейщик брал себе 50% от продажи этой души, а художник — другие 50%. Мы просто упростили процесс, сразу перейдя к продаже душ. И вот тут души на нас просто посыпались. Соглашение оформлялось на красном бланке, каждый человек мог затребовать за свою душу столько, сколько считал нужным.
Известный коллекционер русского искусства Нортон Додж продал нам свою душу за 70 центов. Какая-то проститутка продала свою, кажется, за 40 долларов. Но были такие, кто серьёзно относился к нашему предложению и требовал миллионы. Они понимали, что совершают большой грех, и хотели получить соответствующую компенсацию. У нас таких денег не было, поэтому мы поменяли тактику. Мы сказали, что можем, как это делают галерейщики, брать души на комиссию. В случае продажи мы готовы были делить доход пополам. Это была обычная практика галерейного бизнеса. Художник писал картину, вкладывая в неё всю свою душу. Потом галерейщик брал себе 50% от продажи этой души, а художник — другие 50%. Мы просто упростили процесс, сразу перейдя к продаже душ. И вот тут души на нас просто посыпались. Соглашение оформлялось на красном бланке, каждый человек мог затребовать за свою душу столько, сколько считал нужным. Публика приняла игру: за несколько месяцев художники скупили несколько сотен американских душ, и часть из них приняли на комиссию. Каждый продавец получал от корпорации соответствующий сертификат — белый квиток. 6 февраля 1979 года Комар и Меламид встретились с Энди Уорхолом, который охотно продал им свою душу. В том же году квитки попали в Москву через дипломатический канал, и в американском посольстве были переданы участникам группы «Гнездо», которые устроили первый “аукцион американских душ” в мастерской Михаила Одноралова.
Публика приняла игру: за несколько месяцев художники скупили несколько сотен американских душ, и часть из них приняли на комиссию. Каждый продавец получал от корпорации соответствующий сертификат — белый квиток. 6 февраля 1979 года Комар и Меламид встретились с Энди Уорхолом, который охотно продал им свою душу. В том же году квитки попали в Москву через дипломатический канал, и в американском посольстве были переданы участникам группы «Гнездо», которые устроили первый “аукцион американских душ” в мастерской Михаила Одноралова. Оказавшись в США, художники создали фиктивную корпорацию Komar & Melamid, Inc., от имени которой запустили рекламную кампанию по скупке человеческих душ. Реклама включала печать полиграфической продукции — серии абсурдистских плакатов („We Buy and Sell Souls” — „Мы покупаем и продаём души”) с клишированными и нарочито серьёзными слоганами: „A Soul is the Best Investment” („Душа — лучшая инвестиция”), „Over Five Thousand Years Experience” („Больше пяти тысяч лет опыта”), „No One Else In This World Pays Cash For Nothing” („Никто больше в этом мире не платит за ничто”), „Your Soul is in good hands with us” («Ваша душа с нами в надёжных руках»). Кроме того, был сделан ролик для медиаэкрана на Таймс-сквер — главной рекламной площади Нью-Йорка.
Оказавшись в США, художники создали фиктивную корпорацию Komar & Melamid, Inc., от имени которой запустили рекламную кампанию по скупке человеческих душ. Реклама включала печать полиграфической продукции — серии абсурдистских плакатов („We Buy and Sell Souls” — „Мы покупаем и продаём души”) с клишированными и нарочито серьёзными слоганами: „A Soul is the Best Investment” („Душа — лучшая инвестиция”), „Over Five Thousand Years Experience” („Больше пяти тысяч лет опыта”), „No One Else In This World Pays Cash For Nothing” („Никто больше в этом мире не платит за ничто”), „Your Soul is in good hands with us” («Ваша душа с нами в надёжных руках»). Кроме того, был сделан ролик для медиаэкрана на Таймс-сквер — главной рекламной площади Нью-Йорка. Совсем не то иудеи: на кой нам гой. Поэтому и больные суставы, как у ирландского волкодава при Кромвеле. Поднимаем родословную М. Фёдорова-Рошаля: Строева (Рихтер), Рошаль (рабби Шломо Лурье), Фёдоров (Өёдоровъ).
Совсем не то иудеи: на кой нам гой. Поэтому и больные суставы, как у ирландского волкодава при Кромвеле. Поднимаем родословную М. Фёдорова-Рошаля: Строева (Рихтер), Рошаль (рабби Шломо Лурье), Фёдоров (Өёдоровъ). В Кащенко или что-то в этом роде, уже не помню.
В Кащенко или что-то в этом роде, уже не помню. И первое, что сделал Никита, когда они ушли, пришёл ко мне, ему открыл дверь тот же дядька, который у него только что был: „А, — говорит, — знакомые люди, проходи-проходи…” Так Никита до 10 вечера с остальными и просидел у меня, кто-то портвейн принёс, гости выпивали и веселились.
И первое, что сделал Никита, когда они ушли, пришёл ко мне, ему открыл дверь тот же дядька, который у него только что был: „А, — говорит, — знакомые люди, проходи-проходи…” Так Никита до 10 вечера с остальными и просидел у меня, кто-то портвейн принёс, гости выпивали и веселились. Когда ему застегнули на плече тогу, обнажив худые, вялые руки и жилистую шею, вид у него стал совсем жалкий. Но вот у него на голове лавровый венок, и вдруг с Хлебниковым происходит нечто неожиданное: он выпрямляется и кажется очень высоким, лицо стало властным, глаза — твёрдыми и холодными.
Когда ему застегнули на плече тогу, обнажив худые, вялые руки и жилистую шею, вид у него стал совсем жалкий. Но вот у него на голове лавровый венок, и вдруг с Хлебниковым происходит нечто неожиданное: он выпрямляется и кажется очень высоким, лицо стало властным, глаза — твёрдыми и холодными.