

В.Ф. Марков





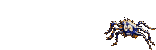

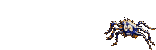

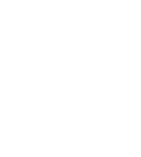 предыдущих главах я пытался показать, что сводить историю русского футуризма к летописи «Гилеи», как это делают многие, неверно. После революции 1917 года бывшие гилейцы перегруппировались и, с присоединением Асеева, Пастернака и Третьякова, сделали заявку на власть в литературе молодого советского государства, настаивая при этом, что лишь они вправе представлять (и представляли) футуризм в России. За обоснованием дело не стало: один только Каменский выпустил четыре книги воспоминаний, вновь и вновь отсылавших к старым добрым временам кубо-футуризма.1
предыдущих главах я пытался показать, что сводить историю русского футуризма к летописи «Гилеи», как это делают многие, неверно. После революции 1917 года бывшие гилейцы перегруппировались и, с присоединением Асеева, Пастернака и Третьякова, сделали заявку на власть в литературе молодого советского государства, настаивая при этом, что лишь они вправе представлять (и представляли) футуризм в России. За обоснованием дело не стало: один только Каменский выпустил четыре книги воспоминаний, вновь и вновь отсылавших к старым добрым временам кубо-футуризма.1Несмотря на отрицательное, как и прежде, отношение прессы, футуризм купался в лучах славы. Футуристы были желанными гостями в литературных салонах и наносили визиты литературным знаменитостям (Блоку, Сологубу, Гумилёву, Ахматовой), а в печати уже не выступали единым фронтом — каждый публиковал свои произведения там, где считал нужным. „Критики о них пишут, читатели покупают их книги, все о них говорят.”2![]()
![]()
![]()
С другой стороны, обстоятельства футуристов были тесны как никогда: война свела их аудиторию на нет. Давид Бурлюк пытался исправить положение и организовал 14 октября лекцию «Война и искусство» с участием Маяковского и Каменского, но, хотя для выступления было выбрано место привычных триумфов (Политехнический музей в Москве), публика не явилась. Бурлюк и Маяковский курсировали между Москвой и Петербургом, зарабатывая портретами богатых заказчиков. На авангардистской выставке «1915» (конец марта) им удалось продать всего несколько холстов. Приходилось писать статьи для газет (главным образом, «Нови»). Каменскому заказали биографию Евреинова. Маяковский играл в азартные игры и на бильярде.
Надёжным показателем признания явилось приглашение на подмостки прославленного кабаре «Бродячая собака»,5![]()
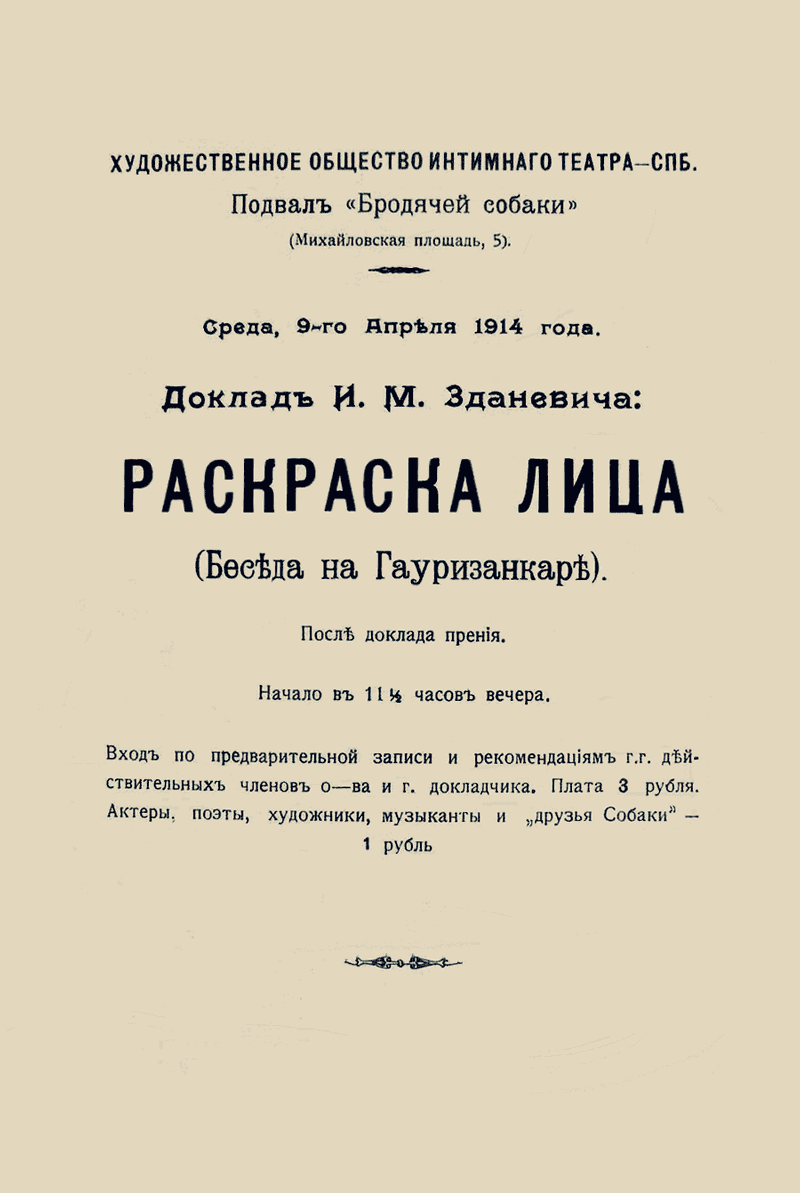
Вскоре в той же «Бродячей собаке» (закрытой полицией в марте 1915 года) отмечали знаменательное, из числа прорывных, событие. Изданный на средства и под редакцией Александра Эммануиловича Беленсона (1890–1949),6![]()
Забавно и то, что представители старшего поколения старались выглядеть куда бóльшими авангардистами, чем были на самом деле, тогда как футуристы ни на какие компромиссы не шли. Сологуб представил средней руки переводы из «Озарений» Рембо; Блок с вялой иронией отозвался о верлибре Хлебникова и Маяковского (впоследствии он убрал эти строки), а в его переводе «Действа о Теофиле» Рютбёфа есть заклинание со множеством непонятных слов, подозрительно похожих на заумь.8![]()
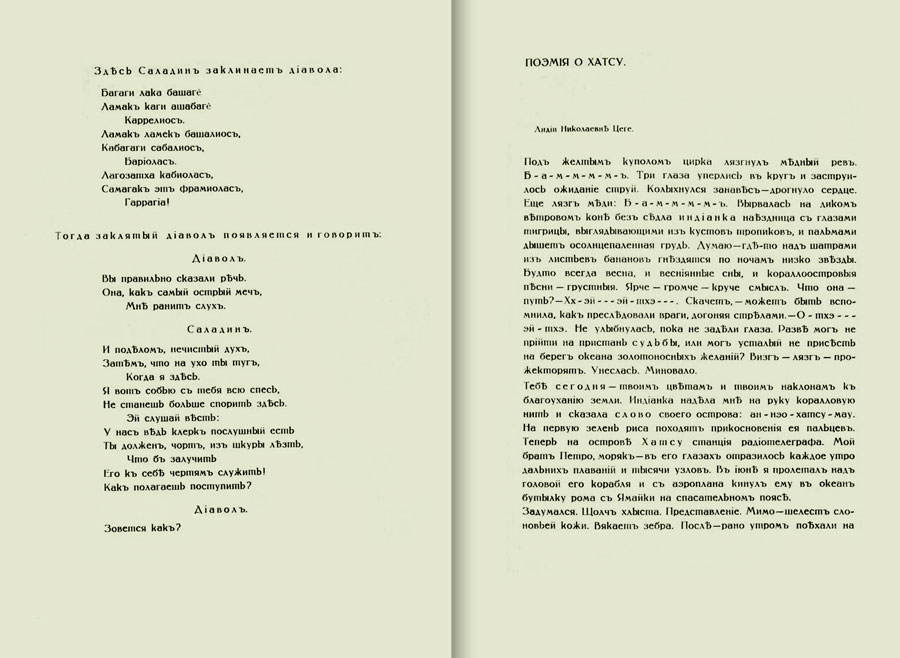
Из футуристов в сборнике обильнее других представлен Каменский; его импрессионистский прозаический отрывок «Поэмия о Хатсу» написан в духе экзотического примитивизма с привлечением излюбленных тем (цирк и авиация) и насыщен звукоподражаниями и неологизмами. Каменский называет себя „песнебойцем стройных слов, сложением похожих на обнажённых девушек”, „с душой в медвежьей шкуре”, которую несёт „радиоактивной самке”, однако тут и там съезжает на банальность, а то и пошлость. Намного удачнее экскурсы Каменского в область детского языка, а также „разбойные-бесшабашные песни” с их дикарской раскованностью, вошедшие впоследствии в роман о казацком бунтаре Стеньке Разине. Одно из стихотворений Бурлюка повторяет то, что в манифесте «Садка судей» говорилось о гласных и согласных. Единственная вещь Кручёных — о смерти и безумии — дана, как обычно, в гротескном антиэстетическом ключе; Лившиц в неоклассическом стихотворении об окрестностях Петербурга, напротив, делает вид, что он вообще не гилеец. Маяковский в отрывке из знаменитой поэмы «Облако в штанах» демонстрирует близкую к истерике одержимость вопросами пола (несколько богохульственных мест было изъято цензурой); Хлебников представлен первой частью изумительной идиллии «Сельская очарованность». Интересны и другие материалы: подробный анализ Шемшуриным „железобетонной поэмы” Каменского (см. главу 5) с выводом, что футуризм — это передача впечатлений; критика Евреиновым Московского Художественного театра; проект нотной записи четвертьтоновой музыки Лурье; очерк Кульбина о кубизме с подробным описанием его предыстории, периодизацией, изложением credo и критикой теории и практики. Кульбин, упоминая о приезде в Россию Арнольда Шёнберга, называет его „бурлюком из музыки”.
Особо следует отметить статью «Английские футуристы» Зинаиды Венгеровой (1867–1941), сестры знаменитого учёного, с похвальной регулярностью оповещавшей русского читателя о новейших течениях в европейской литературе. В данном случае это интервью с Эзрой Паундом, который футуристом быть не желает и называет себя „вортицистом” и „имажистом”. Излагаемые Паундом идеи хорошо известны: понятие vortex, отрицание как прошлого, так и будущего искусства и призыв жить настоящим, „которое неподвластно природе, не присасывается к жизни, ограничиваясь восприятием сущего, а создает из себя новую живую абстракцию”. Венгерова описывает Паунда как „высокого, стройного блондина с закинутыми назад длинными волосами, с угловатыми чертами лица, с крупным носом и светлыми, никогда не улыбающимися глазами”. „Схватив карандаш и бумагу, он чертит воронку, изображающую вихрь (vortex) и делает математические выкладки, показывающие движения вихря в пространстве”. Венгерова анализирует литературные манифесты из сборника «Blast» и осуждает их как голую теорию, не подтверждаемую поэтической практикой. В сборнике она не находит ничего, кроме подражания „французским футуристам” (т.е. Аполлинеру). Венгерова даёт также несколько стихотворений Паунда и Н.D. в русском переводе.
Выход в свет «Стрельца» вызвал переполох, о нём на все лады писали газеты. Некоторые увидели в сборнике „пиррову победу” футуристов, поскольку те вели себя в “приличном” обществе символистов паиньками: забыли „пощёчины” общественному вкусу и даже стали „удобопонятны для всякого”. Другие считали, что „альянс между футуризмом и символизмом” не случаен, и усматривали в нём знак „решительного поворота литературы в сторону безграничной власти слова”. Третьи стыдили символистов за терпимость к литературным хулиганам.9![]()
![]()
![]()
Через полтора года, в августе 1916 года, появился второй выпуск «Стрельца», из которого стало ясно, что „альянс” приказал долго жить. Две трети сборника отданы роману Кузмина о Калиостро; Сологуб поместил ещё один небольшой отрывок из «Озарений»; Блок на сей раз отмолчался. Не густо и будетлян. Хлебников представлен концовкой стихотворения, начало которого было напечатано в первом выпуске; Маяковский дал стихотворение «Анафема» (позже переименованное в «Ко всему») — исполненный гиперболического анимализма и религиозной образности взрыв эмоций от безответной любви. Зато появился новый, сомнительных достоинств автор — Василий Розанов с двумя бичующими радикализм и засилье евреев в литературной критике заметками. Либеральная пресса немедленно пришла в движение: один из её столпов12![]()
Ещё одно признание продукции футуристов “приличной литературой”, хотя и косвенным образом, тоже связано со «Стрельцом». Застрельщиком здесь оказался Максим Горький — один из тех, кому в манифесте «Пощёчины общественному вкусу» приписаны мечты о даче на реке в уподобление портному. Зимой 1914–1915 годов отчаянно нуждающиеся Давид Бурлюк и Каменский встретились с Горьким и, судя по всему, ему понравились; он даже подарил Бурлюку свою книгу с надписью: „Они — своё, а мы — своё”. Надо полагать, оба футуриста посетовали на дурное обхождение прессы, и Горький расставил местоимения так, что все трое оказались единомышленниками. Принимая во внимание разночинное происхождение футуристов и демократизм их творчества, Горький, может статься, и не лукавил. Вскоре Бурлюк и Каменский познакомили с ним и Маяковского. Горький присутствовал на выступлении Маяковского в «Бродячей собаке», где тот читал отрывки из поэмы «Облако в штанах». И наконец, 25 февраля 1915 года, когда в этом же кабаре обмывали новорожденного «Стрельца», Горький вдруг встал, поднялся на эстраду и, указав в сторону футуристов, произнёс: „В них что-то есть!” После чего добавил несколько слов о молодости, энергии, новаторстве и жизнеутверждающей позиции адресуемых. Для футуристов это было манной небесной. Даже «Пета» (как мы видели в главе 6) вынесла слова Горького на обложку, хотя Платова и К° тот меньше всего имел в виду, да и вообще вряд ли знал об их существовании. После своего возвращения в 1914 году с Капри Горький редко появлялся на публике, поэтому газетная братия не только смачно изложила эпизод в «Бродячей собаке», но и не упустила случая облить Горького грязью; тому волей-неволей пришлось объясниться. В апреле «Журнал журналов»13![]()
Особо выделил Горький Маяковского, после чего выразил надежду, что русская молодёжь „призвана в мир, чтобы освежить сгустившуюся полубольную атмосферу жизни”.
Его слова вряд ли устраивали тех, кто футуризму (в данном случае — футуристам, именно сейчас благоразумно помалкивающим) отнюдь не желал добра, и необычайно популярный в ту пору писатель Леонид Андреев, некогда друг Горького, в газетном интервью14![]()
Известны и попытки “отыскать жемчужины в навозной куче” футуризма: один из критиков15![]()
Едва ли не самая ожесточённая дискуссия о футуризме развернулась в 1915 году на страницах журнала «Голос жизни» (Петроград), где была опубликована статья Виктора Шкловского «Предпосылки футуризма».16![]()

Блеснув познаниями в намеренно или по природе своей непонятной поэзии древних песен, текстах религиозных гимнов, dolce stil nuovo и т.д., Шкловский делает вывод: приёмы поэзии футуристов неразрывно связаны с законами общего языкового мышления. Далее критик сосредоточил весь свой интеллект на пугале газетчиков — заумном языке. Он определил его как „язык, так сказать, личный, где слова не имеют определённого значения и должны действовать непосредственно на эмоцию”. Тем, кто уверен, что футуристы просто морочат публике голову своей тарабарщиной, Шкловский цитирует французских учёных и русских поэтов (включая Пушкина), которые полагали, что „звуки вызывают каждый свою специфическую эмоцию”. Он находит образчики зауми у религиозных сектантов, в детских считалках и народных песнях. Отсюда вывод: заумь пребывает вне пределов языка, но не вне пределов искусства.17![]()
Мнение Шкловского “за” в этом же номере журнала уравновешено мнением “против”, причём загодя: оно идёт первым. Это «Разложение футуризма» Дмитрия Философова, известного критика из круга Мережковского. Философов ставит Шкловскому на вид бессилие доказать, что футуристы талантливы; вместо этого тот будто бы „на голые стены футуристического дворца повесил кучу портретов — все предки, в золочёных рамах” и оказал медвежью услугу тем, кто заявляет, что им принадлежит будущее. В действительности же футуризму приходит конец, его героические времена, равно и ужас перед этим страшилищем, позади: потоп иссяк в лужу с квакающими лягушками. „Футуристы не победили, а просто слились с толпой”. Уже одно то, что своей защите футуризма Шкловский придал академическую окраску, доказывает, по мнению Философова, поражение футуризма.
На этом дело не кончилось: минуя несколько выпусков того же «Голоса жизни», Философова атаковал Виктор Ховин, редактор нео-эго-футуристского журнала «Очарованный странник». Отповедь “большего, чем папа римский, католика” вряд ли понравилась Маяковскому и его друзьям: Ховин18![]()
Упрёки Ховина были, пожалуй, неуместны, однако закат русского футуризма как литературного движения в общих чертах он уловил. Добавим подробности: признание футуризма представителями литературной элиты, утрата напряжения и страсти, критика слева этой ещё вчера самой левацкой литературной группировки в России. Предреволюционные коллективные футуристские издания усугубляют печальное зрелище: став успешным, футуризм утратил обаяние новизны; его размывают компромиссы и беспринципные альянсы; очевидна неспособность выработать отвечающую духу времени эстетику.
Два таких сборника — заслуга Самуила Матвеевича Вермеля (1892–1972), имевшего некоторые (как оказалось, недостаточные) денежные средства. Вермель был московским эстетом и театральным завсегдатаем; на идеях, близких к евреиновским, он основал театральную студию, где изучались довольно странные дисциплины, включая фокусы и “гротеск”, а студийцы танцевали и занимались пантомимой под чтение Каменским своих стихов. В начале 1915 года Вермель издал книгу стихов «Танки», тем самым впервые, видимо, познакомив русского читателя с правилами японского стихосложения. Значение этого события несколько ослабляет невысокое качество стихов. Танки включены и в альманах «Весеннее контрагентство муз», изданный Вермелем совместно с Давидом Бурлюком в мае 1915 года. Несмотря на мало уместное присутствие поэтического залолустья (Беленсон, Вараввин) с его реверансами футуризму, и даже непричастных движению лиц (Канев), это была последняя полномасштабная демонстрация сил футуризма. В альманахе представлено большинство поэтов «Гилеи» (кроме Лившица и Кручёных), всё это сдобрено сливками «Центрифуги» (Асеев, Пастернак, Большаков). Более сотни страниц большого формата отдано выразительным стихотворениям Давида и Владимира Бурлюков и рисункам Аристарха Лентулова. Немало прозы, драмы, критических эссе; налицо и музыка — две страницы нот «Сочинения для скрипки и фортепьяно» Николая Рославца (1880–1944).19![]()
Поэзия, в целом, высокого качества. Опьянённый авиацией Каменский в четырёх стихотворениях описывает ощущения полёта, наполняя их звукоподражаниями, неологизмами и даже птичьим пением. Для Маяковского война оказалась гораздо лучшим, чем город, средством самовозвеличения и выплеска похожих на истерику эмоций. Самое интересное из трёх его стихотворений — «Я и Наполеон» с темой “солнцеборчества”; наиболее удачное художественно — фонетический шедевр «Война объявлена». Николай Бурлюк дал одно стихотворение и две прозаические миниатюры, замечательные перетеканием импрессионизма в сюрреализм, а также превосходной и разнообразной техникой, — печально, что этот недооценённый писатель, заявив столь многообещающий талант, вскоре исчез из литературы. Три стихотворения (два из них войдут в книгу «Поверх барьеров») опубликовал Пастернак, впервые оказавшись под одной обложкой с Маяковским. Асеев дал одно стихотворение о войне. Большаков представил цикл из шести стихотворений «Город в лете», посвящённый Маяковскому в „память московского мая 1914 года”20![]()
Бурлюк хорош, когда он примитивен и приземлён, когда в жижу скучнейшей эклектики швыряет вдруг строку о „широком женском плодоносном тазе” или даёт стихотворению название «Поющая ноздря». Образчик прозы, хотя и приписывается Давиду Бурлюку, своей изысканностью напоминает стиль его брата.
Несмотря на самоуверенный и порой вызывающий тон, завершающая книгу статья Бурлюка «Отныне я отказываюсь говорить дурно даже о творчестве дураков» есть не что иное, как призыв к здравому смыслу. Холсты футуристов висят ныне впритык с традиционной живописью, и Бурлюк усматривает в этом свидетельство того, что „публика, если не постигла, поняла, — то приняла и кубизм, и футуризм, и свободу творчества”.21![]()
Среди всего этого урбанизма, “гилейства” и откликов на фронтовые события ранняя (1908 года) пьеса Хлебникова выглядит анахронизмом. «Снежимочка» — рождественская сказка о жизни лесных духов и гоблинов, пребывающих в мире и согласии с местной флорой и фауной. Разумеется, без фольклора и архаики не обошлось, но мифология словно произрастает из щедрого словотворчества поэта. В эту идиллию то и дело вторгаются какие-то глупцы; наконец, свершается наихудшее: обожаемая всеми Снежимочка уходит в город. Там её арестовывает полиция, и, в конце концов, она умирает, способствуя, однако, своей смертью распространению среди горожан славянского языческого духа. Литературные предшественники Хлебникова очевидны: «Снегурочка» А. Островского и символистская драма. В альманахе «Весеннее контрагентство муз» Давид Бурлюк напечатал лишь часть хлебниковской пьесы, причём с неверным названием и множеством ошибок. Ко всему прочему, он датировал её 1906 годом.
Союз Бурлюка с Вермелем длился недолго. Запланированный под названием «Осеннее контрагентство муз» сборник не появился; нет данных и о реализации другого их совместного проекта — Студии живописи и искусства театра.
В апреле 1916 года вышел альманах «Московские мастера», который уже одним своим внешним видом оскорбляет идеалы раннего футуризма (по счастью, Бурлюк оказался не соиздателем, а рядовым участником). Альманах напоминает дорогие эстетские издания того времени: отличная бумага, высококачественная печать, превосходные заставки Лентулова, наклеенные цветные репродукции. Футуризм здесь не просто утоляет „чертовский голод” первой молодости: он роскошествует.
Говорить о новаторстве «Московских мастеров» не приходится. Короткое, напоминающее манифест предисловие на удивление туманно:
Далее следует раздел поэзии, где каждый из участников (кроме самого издателя с его неуклюжей попыткой возродить овидиеву эротику в Москве 1916 года) представлен тремя стихотворениями. Результат — футуризм по Вермелю: ни малейшей агрессивности, ни единого оскорбления, всё невероятно гладко или, по крайней мере, таковым выглядит. Лившица вдохновляет петербургская классическая архитектура; Ивнев цедит свои водянистые жалобы; Большаков щеголяет урбанистическим дендизмом; Николай Бурлюк, в последний раз напечатанный, приводит на ум барокко; произведения Каменского написаны в обычной для него манере народной песни; Асеев предлагает читателю исполненный драматизма диалог военных кораблей (предвосхищая два более поздних стихотворения Маяковского) и монотонное стихотворение, построенное на хлебниковском принципе внутреннего склонения; один лишь Вараввин разнообразит картину своими потугами на будетлянство. Даже Давид Бурлюк с его размышлениями о женском белье выглядит членом «Мезонина поэзии». Лучше всех, безусловно, Хлебников с двумя маленькими шедеврами «Эта осень такая заячья» и «Ни хрупкие тени Японии...», обнаруживающими в поэте невероятно тонкого и нежного лирика.
«Московские мастера» пополнили ряды футуристов Тихоном Васильевичем Чурилиным (1885–1946). Дебют Чурилина состоялся в 1908-м, но заметили его только в 1915 году, когда в Москве вышел в свет его сборник «Весна после смерти» с иллюстрациями Н. Гончаровой — он произвёл в литературных кругах маленькую сенсацию. Стихи в этой удивительной книге скорее плохие, чем хорошие, но интересны своеобразным сочетанием примитивизма и декаданса. В поэзии Чурилина налицо реальное (не только поэтическое) безумие; сны наяву его поэзии 1913 года позволяют причислить Чурилина к подлинным русским сюрреалистам avant la lettre. Темы чурилинской книги не покидают пределов ужасного: собственные похороны, смерть, насилие, кровь, самоубийство, безумие непрерывно следуют одно за другим. Технически Чурилин достигает своеобразного эффекта повторением слов и фраз, а также отрывками разговоров и восклицаниями, что напоминает “поток сознания”. Судя по эпиграфам, его учителя — символисты, преимущественно Андрей Белый, что ничуть не умаляет оригинальности поэта. Вероятно, самое знаменитое стихотворение Чурилина — «Конец Кикапу», гротескный этюд об одиночестве и смерти.
В «Московских мастерах» Чурилин напечатал вступление к поэме «Яркий ягнёнок», сочетающее богатство красок и звучания с отголосками русского фольклора и древнерусской литературы, а также два стихотворения, качество которых можно определить как туманную простоту.22![]()
![]()
В отличие от других футуристских сборников, «Московские мастера» щедры на прозу (свыше тридцати страниц). В рассказе Рюрика Ивнева «Белая пыль» повествуется о том, как под влиянием минутного настроения светская дама отдаётся почтальону. Рассказ состоит из тщательно запутанных воспоминаний, впечатлений, побуждений персонажей (более того, их вариантов) и внезапных реплик повествователя. Что касается языка, таковой вполне традиционен. В рассказе Василия Каменского «Зима и май» с его через край бьющей лиричностью, напротив — пиршество неологизмов. История любви шестидесятипятилетнего рыбака к четырнадцатилетней дочери управляющего заводом (вспомним «Лолиту» Набокова) своим претенциозным многословием, напускным глубокомыслием и дурным вкусом — перепев ранней повести «Землянка». Pièce de résistance раздела прозы (да и всего альманаха) — повесть Хлебникова «Ка» (душа — др. егип.), вероятно, высшее его достижение в прозе. Повесть написана в 1915 году, речь идёт о некоем персонаже по имени Ка, а скорее всего — о ка рассказчика (тень души, её двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину); состоит она из девяти главок и является шедевром хлебниковского “ирреализма”. Главная особенность Ка заключается в том, что ему нет застав во времени, благодаря чему он ходит из снов в сны. Тема времени, издавна волновавшая Хлебникова, не покидает повести, в которой и ка, и его хозяин (т.е. автор) свободно переходят из Древнего Египта XVIII династии в мусульманский рай, что позволяет Хлебникову представить читателю целую толпу действующих лиц, начиная с Магомета и кончая африканскими обезьянами. Приключения сменяются фантастическими видениями, простота идёт рука об руку с событиями невероятными, история убийства ничуть не противоречит странноватому, но отнюдь не тяжеловесному юмору. В этом живом и хрупком рассказе о странствиях души точный расчёт переплетается с духом беззаботности, ребячество неотделимо от высокой учёности. Здесь можно встретить элементы самых разных культур: древнеегипетской, арабской, китайской, японской, мексиканской, индийской... Не считая самого рассказчика и его ка, главный герой повести — знаменитый фараон Эхнатон. Его убивают дважды: в первый раз — жрецы, во второй, когда в одном из перевоплощений он становится обезьяной, — русский купец, очень кстати оказавшийся в Африке. Главный женский персонаж повести — Лейли, героиня знаменитой персидской поэмы XII века; она говорит классическими гекзаметрами и пишет японские танки на камне, ещё одном перевоплощении Ка.
Если попытаться связать прозу Хлебникова с какой-то традицией, таковой окажется — главным образом, но не исключительно — традиция пушкинская. Повесть ясна и экономна, несмотря на то, что Хлебников использует порой ритмизованную прозу, имитирует научный стиль, чередует повествование с драматическими и стихотворными отрывками, даже пытается воспроизвести язык обезьян. Кое-какие детали «Ка» накрепко врезаются в память: купающаяся девушка, которая проходит сквозь прозрачную фигуру Ка; отразившийся на ногте ноги Лейли окоём; попугай, цитирующий в африканских дебрях Пушкина; пассажи о том, как спят на ходу, и об игре в карты с мировой волей. Очевидно, Хлебников собирался продолжить «Ка»; в 1916 году он писал прозу в том же духе, но сохранились лишь отрывки. Сам Хлебников считал «Ка» одним из главных своих произведений.
Помимо музыки Рославца и фрагментарных, не вполне оригинальных мыслей Вермеля о театре, в «Московских мастерах» есть и критика. Сам Вермель под псевдонимом Челионати встаёт на котурны теоретика: избегая говорить о футуризме, определяет прошедшее десятилетие как „ренессанс русской лирики”, характерная особенность которого — внимательное отношение к слову и его изучение:
Вдохновение черпается теперь не из античного мира или современной литературы Запада, а из русского языка. Коснувшись проблем футуризма, Вермель переходит к сочувственному обзору напечатанных в «Московских мастерах» произведений, в первую очередь Хлебникова — поэта, который не только в совершенстве владеет языком, но и предугадывает будущее народа и освобождает слово. Из тех, кто в альманахе не участвует, Вермель одобряет Маяковского и Пастернака, у которого „ощущение и недоверие к видимому проверяется пристрастным, режущим интеллектом”. В своих танках Вермель видит „путь к широкой анфиладе слов востоко-русской формы”, т.е. пытается обеспечить себе место в ориентированной на Восток «Гилее». Вторая статья посвящена обзору работ, представленных в «Московских мастерах» художников, в третьей, принадлежащей Д. Вараввину, анализируется хлебниковское стихосложение. Среди написанных преимущественно Вермелем рецензий находим обзор новых книг Маяковского, Каменского, Боброва, Чурилина и таких изданий футуристов, как «Леторей» и «Очарованный странник». Завершаются «Московские мастера» хроникой и планами участников, как то: в ноябре 1915 года в Башне (театральной студии Вермеля, названной так в подражание знаменитому петербургскому литературному салону), отмечалось десятилетие деятельности Д. Бурлюка (доклад прочёл Каменский); там же Хлебников читал лекцию «Прошлое, настоящее и будущее языка», в которой излагал мысли о замене слова числом. Альманах «Московские мастера» задумывался как периодическое издание, но первый его выпуск оказался и последним. Выяснилось, что Вермель в состоянии выкупить у типографии всего двести экземпляров; оставшиеся восемьсот в продажу не поступили.
Тем временем произошло некоторое оживление футуристов в Санкт-Петербурге, переименованном в Петроград: под занавес 1915 года увидел свет альманах «Взял. Барабан футуристов». Пожалуй, эта книжица в 16 страниц — единственный пример пост-гилейского издания, подобающего духу и букве футуризма. На обложку пошла грубая обёрточная бумага с вкраплением песка и опилок; содержимое воинственно и „крикогубо”. Деньги на издание ссудил Осип Максимович Брик (1888–1945), выпускник юридического факультета, который не имел пока никаких литературных амбиций, сомневался в праве поэзии на существование и собирался издавать невероятно популярные в России детективы о Нате Пинкертоне. Свояченица Брика, впоследствии известная под псевдонимом Эльза Триоле (жена Луи Арагона), в июле 1915 года познакомила его с Маяковским, и апартаменты Бриков немедленно превратилась в штаб-квартиру петроградского футуризма (точнее — в футуристический салон, где роль русской мадам Рекамье исполняла жена Брика Лиля). Последующий ménage à trois Бриков с Маяковским до сих пор остаётся в России предметом пересудов — устных, разумеется. Лиля добилась-таки, благодаря Маяковскому, бессмертия: вероятно, только Петрарка посвятил одной женщине такую бездну стихов. Нашёл своё место в литературе и Осип Брик, со временем превратившийся в выдающегося критика-формалиста. Помимо Маяковского и Хлебникова, среди постоянных гостей Бриков были Виктор Шкловский, вездесущий Ивнев и Виктор Ховин. Как-то Брик пригласил каких-то математиков послушать лекцию Хлебникова о законах времени; лекция заинтересовала их и озадачила. На средства Брика были изданы две поэмы Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».
Альманах «Взял» замышлялся как рекламная тумба для Маяковского, который выступает здесь в качестве полемиста, звезды (Хлебников, Каменский, Пастернак, Асеев и Шкловский представлены каждый одним стихотворением) и единственного объекта обсуждения. Альманах начинает стихотворение, вызвавшее год назад скандал в «Бродячей собаке»; напечатана и весьма урезанная цензурой первая часть «Флейты-позвоночника» — без названия, но с посвящением Лиле Брик.
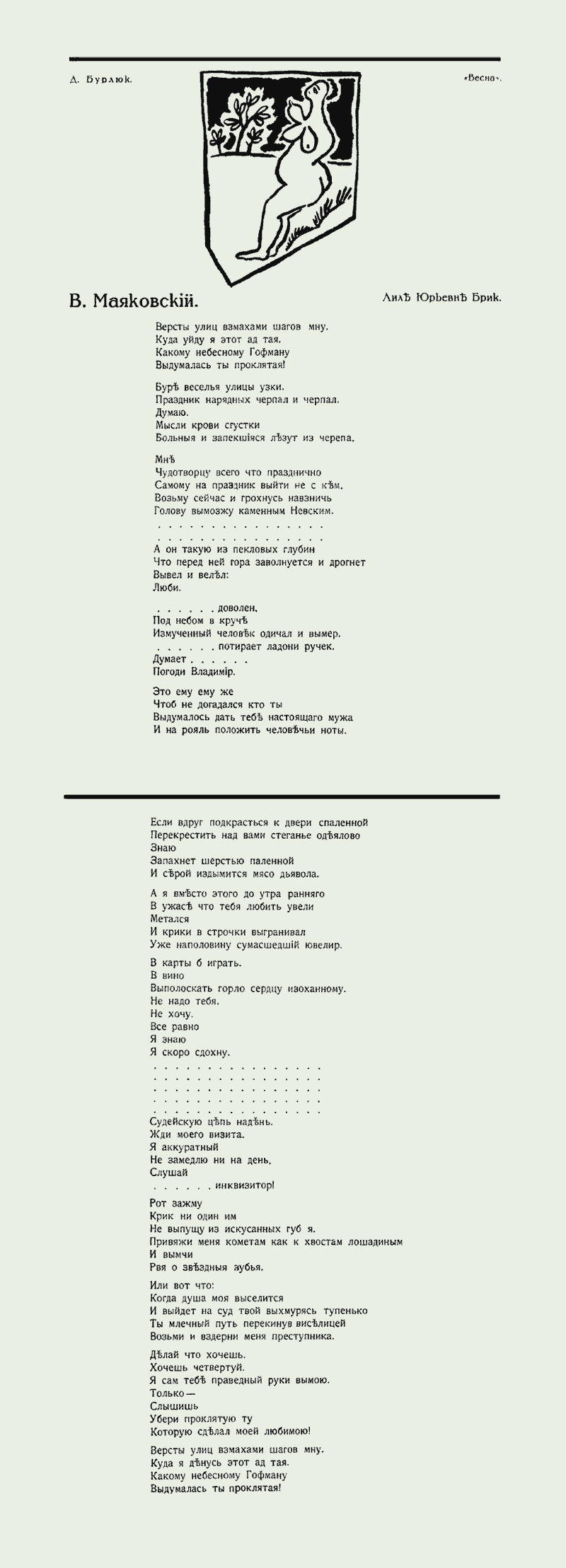
Гвоздь альманаха — статья Маяковского «Капля дёгтя» с подзаголовком Речь, которая будет произнесена при первом удобном случае — единственный манифест, составленный поэтом самостоятельно. Несмотря на свой агрессивный тон, «Капля дёгтя» производит двойственное впечатление. Маяковский старается одновременно быть грубым — и соблюдать правила хорошего тона, он не может скрыть того, что футуризм как движение выдохся — и хочет провозгласить его победу. Безусловно, «Капля дёгтя» — ответ на участившиеся толки о “смерти футуризма” (вроде уверений «Голоса жизни», уже нам известных). Маяковский парадоксальным образом признаёт этот факт. Он не отрицает, что шумные скандалы старых добрых времён, когда так часто раздавался весёлый звон графинов по пустым головам, выродились в скучнейшие, подстать стариковским пересудам, словопрения. С ностальгией вспоминает он «Пощёчину общественному вкусу» с её воззванием, которое, по его словам, побудило футуристов:
Согласно Маяковскому, идущая война доказала верность этой анархистской программы: все поняли, что ни поэт, ни художник не способны изобразить войну устаревшими приёмами. Сама жизнь идёт вслед за футуризмом, творя новые слова (например, Петроград взамен Санкт-Петербурга). „Сегодня все футуристы ‹...› Футуризм мёртвой хваткой ВЗЯЛ Россию”.24![]()
Смысл последней фразы раскрывают два в высшей степени интересных произведения Хлебникова, выходящих далеко за пределы собственно поэзии. Первое из них («Буги на небе») продолжает (см. главу 5) изыскания управляющих вселенной математических законов.
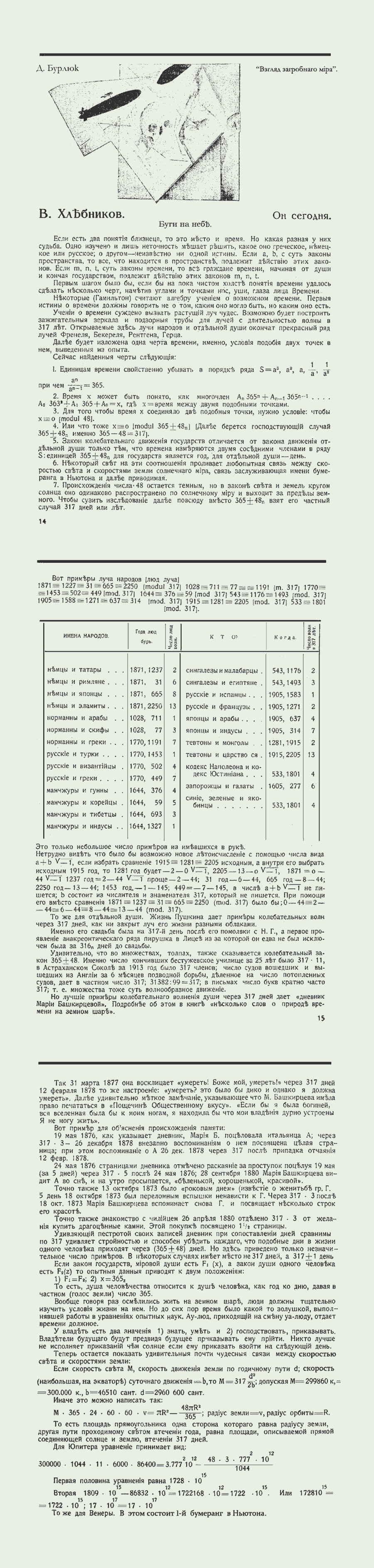
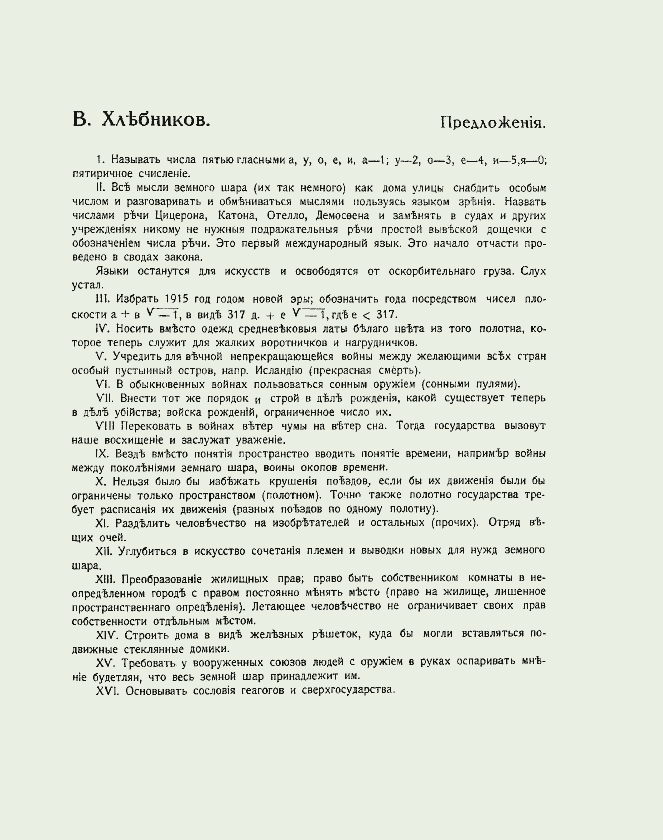 Второе сочинение («Предложения») — яркий пример хлебниковского утопизма и пацифизма. Среди двадцати шести предложений находим ироничный совет нумеровать мысли (их так немного), как нумеруют дома. Вместо того, чтобы выступать в суде с одними и теми же формулировками, достаточно вывесить дощечку с обозначением числа речи Цицерона, Катона, Отелло или Демосфена. Тогда языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал. Хлебников предлагает объявить Исландию местом ведения вечной войны, сохранив, таким образом, на остальной части земной суши мир, использовать в войнах сонные пули, обособить изобретателей, предоставить каждому человеку право быть собственником комнаты в любом городе (что вполне устраивало самого Хлебникова, пребывающего в постоянном движении), ввести пятиричную систему счисления, обозначив цифры пятью гласными, и так далее.25
Второе сочинение («Предложения») — яркий пример хлебниковского утопизма и пацифизма. Среди двадцати шести предложений находим ироничный совет нумеровать мысли (их так немного), как нумеруют дома. Вместо того, чтобы выступать в суде с одними и теми же формулировками, достаточно вывесить дощечку с обозначением числа речи Цицерона, Катона, Отелло или Демосфена. Тогда языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного груза. Слух устал. Хлебников предлагает объявить Исландию местом ведения вечной войны, сохранив, таким образом, на остальной части земной суши мир, использовать в войнах сонные пули, обособить изобретателей, предоставить каждому человеку право быть собственником комнаты в любом городе (что вполне устраивало самого Хлебникова, пребывающего в постоянном движении), ввести пятиричную систему счисления, обозначив цифры пятью гласными, и так далее.25Тем временем неугомонный Давид Бурлюк отыскал очередного “ангела-хранителя” — богатого тамбовского землевладельца Георгия Золотухина, не чуждого поэзии и живописи. Позже Мария Бурлюк сожалела: появись Золотухин раньше, история русского футуризма „была бы ярче, богаче и обширнее”.26![]()
![]()
Золотухин представлен в изобилии; со страстью неофита он очертя голову бросился в водоворот футуризма: подражая старшим товарищам, поносил критиков, которые „не поймут”, и вооружался чем ни попадя из гилейского арсенала — ориентацией на славянство, антиэстетизмом и примитивизмом, доходя до призыва к оружию. Для Золотухина футуризм означает максимальную насыщенность поэзии звуком. В его произведениях преобладает богатая и необычная рифма (латы — Пилаты, горели — горе ли, грохнут — грог минут, привёз бочку — звёздочку, малых — поймала их, метаморфозами — морфия розами и т.д.), часто используется корневая аллитерация (колёса Колиной колесницы); иногда, в погоне за наибольшим эффектом, Золотухин рифмует всю строку подряд:
Золотухин назвал этот приём „эховым благозвучием” и стал пользоваться им первым среди русских поэтов.
Бурлюк, вероятно, и не подозревал, что подборка из двенадцати его стихотворений окажется для столичного читателя последней ласточкой.28![]()
Не лучше и Каменский с его навязчивой удалью в псевдорусском стиле. В одном стихотворении он пишет о себе: „песнебоец — из слов звон кую”, однако артикуляция его мало устраивает, и он указывает в ремарке: свист в четыре пальца. Вся эта благоухающая неологизмами и звукоподражаниями окрошка из воспеваний солнца, похлопываний по плечу, бодрых гимнов юности, красоте и свободе просто неудобоварима. Увы, несмотря на все свои железобетонные эксперименты, Каменский намертво застрял на импрессионистской стадии футуризма. В 1915 году, когда Маяковский в «Облаке в штанах» окатил презрением из любвей и соловьёв какое-то варево, он, по-видимому неосознанно, прошёлся и по своему приятелю. Временами Каменский впадает в совершенно разнузданную экзотику и, подобно Бурлюку, выламывается в обезьяну Северянина:
Хлебников, напротив, представлен в альманахе одним из сильнейших своих циклов, который не изгадила ни редактура Бурлюка, ни придуманные им же нелепые заголовки и подзаголовки («Лучизм», «Звучизм» и «Безскакизм»), ни опечатки. Преобладают сцены насилия, лишь одно из стихотворений начинается описанием леса и заканчивается любовным языческим обрядом. Как обычно, Хлебников совершает экскурсы в прошлое родины (с использованием в т.ч. и древнерусской корабельной терминологии, весьма уместной); «Бог 20-го века» звучит гимном современной машинерии. В этих двенадцати стихотворениях можно найти всё, что угодно: Африку и Россию, войну и идиллию, первобытные времена и век промышленного электричества. Хлебников опробовал и новые технические приёмы: обратную рифму (бесе — себе) и образование повелительного наклонения от имён собственных (чингисхань, заратустрь, моцарть, будь Гойя).
Если авторский коллектив «Садка судей» (1910) считать ядром русского футуризма (во многих отношениях так оно и есть), то с изданием «Четырёх птиц» ему пришёл конец. Впрочем, не окончательный — скорее многоточие, чем точка: «Центрифуга» ещё была на ходу, хотя больше простаивала; кое-что происходило в Харькове с Петниковым в качестве движущей силы и Хлебниковым на знамени (см. ниже), но всё это напоминает безрыбье времён гражданской войны, а не годы расцвета русского футуризма. Однако его отцы-основатели в большинстве своём не стояли на месте, и как раз в это время сумели доказать, что в прежнем ярлыке более не нуждаются. Ниже мы вкратце опишем их послереволюционную деятельность, сосредоточившись на личной судьбе и художественной эволюции.
Война так и не стала краеугольным камнем идеологии русского футуризма, как это произошло в Италии. Некоторые русские поэты заняли патриотическую позицию, но это их личный выбор, да и тот не отличался постоянством. Для других война оказалась темой творчества и источником поэтического вдохновения. Одно не подлежит сомнению: футуризм понёс от войны урон гораздо больший, нежели какая-либо другая поэтическая школа, и отнюдь не из-за упадка общественного интереса к нему, а по причине банальной убыли рядов. Почти все футуристы были призывного возраста и, хотя на фронт ушли немногие (погиб только Владимир Бурлюк), большинству не удалось избежать мобилизации: Асеев, Аксёнов, Большаков, Николай и Владимир Бурлюки, Гнедов, Хлебников, Маяковский (вероятно, список не полон). Кое-кто ухитрился принимать участие в футуристских изданиях, не снимая, так сказать, солдатской шинели.
 олее других будетлян от солдатчины пострадал человек, чьим убеждениям война отвечала в полной мере: гордый тем, что русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина,29
олее других будетлян от солдатчины пострадал человек, чьим убеждениям война отвечала в полной мере: гордый тем, что русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина,29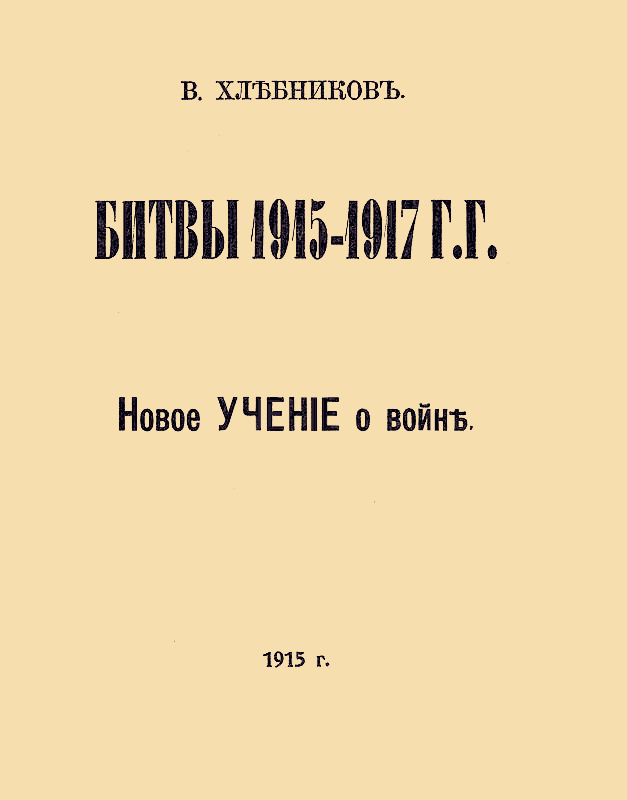 Эти лихорадочные переезды наверняка свидетельствуют о каком-то кризисе; что же касается одиночества, то о нём лучше всего говорит он сам: Теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня ‹...› Я должен разорвать с прошлым и искать нового для себя.30
Эти лихорадочные переезды наверняка свидетельствуют о каком-то кризисе; что же касается одиночества, то о нём лучше всего говорит он сам: Теперь я твёрдо знаю, что рядом со мной нет ни одного человека, могущего понять меня ‹...› Я должен разорвать с прошлым и искать нового для себя.30Важнейшее произведение Хлебникова того времени — поэма «Война в мышеловке», состоящая приблизительно из тридцати коротких глав, написанных между 1915 и 1917 годами (многие из них были напечатаны в футуристских альманахах и в газетах, но сведены воедино только в 1919 году; полностью поэма была опубликована в 1930 году, уже после смерти поэта, в первом собрании его сочинений). «Война в мышеловке» могла бы стать библией нынешних пацифистов, а Хлебников — их пророком, знай они о существовании этого текста: авангардистская техника поэмы переплетена с антивоенной тематикой, произведение обращено к молодёжи. Хлебников горюет о том, что посылаемые на войну юноши стали дешевле земли, бочки воды и телеги углей, и стыдит человечество за лицемерие, призывая брать пример с людоедов по рождению. Войну можно упразднить, и Хлебников объявляет военный поход против смерти, призывает надеть вселенной намордник, чтобы она не кусала нас, юношей. Под намордником поэт подразумевает математические законы, управляющие ходом истории. Он хочет основать государство 22-летних, свободное от глупости возрастов старших. «Война в мышеловке» невероятно богата поэтическими интонациями — от похвальбы вселенского размаха до любовного лепета.
Бóльшая часть созданного Хлебниковым с 1914 по 1916 год безвозвратно утрачена; уцелевшее свидетельствует о заметных переменах в его творческой манере. Уходя от неологизмов, он оттачивает рифму и паронимы. Парономазия для него — отнюдь не поэтическое украшение; поэт пристально наблюдает за тем, что произрастёт из слова, если, допустим, изменить в нём гласный звук, оставив прежние согласные без изменения, или поставить рядом два разных слова с одинаковым смыслом. Он скорее исследует, чем стремится к совершенству; его рукописи способны привести филолога в отчаяние: стихотворение уже не самоцель, а процесс. Словарь Хлебникова, даже за вычетом неологизмов, вне всякого сомнения, богатейший в русской литературе: поэт использует редкостные диалектизмы, его строки изобилуют именами исторических персонажей и географией. Феноменальные по разнообразию познания Хлебникова простираются от древнего Китая до математических трактатов Гаусса. Если на заре его творчества трудноуловимые смыслы возникали из только что созданных слов, то теперь Хлебников делает упор на “содержание”. Однако его мысли настолько сжаты и выражены посредством столь необычной, перескакивающей с предмета на предмет образности, что эта удивительная простота так называемой непонятности Хлебникова32![]()
Фольклор, славянская древность, идиллия продолжают привлекать Хлебникова, но темы войны, смерти, истории, природы времени уже преобладают. Хлебников оказался единственным футуристом, который не только думал и говорил о будущем, но и особым образом пытался на него воздействовать. Практицизм воображения поэта и невозможность вычленить поэзию из его проектов дают повод кое-кому считать Хлебникова сумасшедшим;33![]()
Хлебникова занимала ещё одна тема — победа над смертью; ей посвящена пьеса «Ошибка Смерти», которую Петников опубликовал вместе с несколькими стихотворениями в издательстве «Лирень» в конце 1916 года (на обложке указан 1917 год). Пьеса написана в примитивистской манере, её концовка заставляет вспомнить комедии немецких романтиков (например, Людвига Тика), пытавшихся разрушить иллюзию сцены. В харчевне под председательством барышни Смерти пируют двенадцать мертвецов; в дверь стучит тринадцатый гость, и его нехотя впускают. Выясняется, что свободных стаканов нет. Взамен Смерть — далеко не из лучших побуждений — предлагает пришельцу свою собственную голову, в результате чего теряет зрение, путает напитки и умирает сама. Как это нередко бывает у Хлебникова, сюжет отзывается русским символизмом; нечто подобное опробовано и в произведениях других футуристов (Асеев, Петников, Маяковский).
Хлебников, которого многие воспринимают как творца нечленораздельной бессмыслицы и тарабарщины, до конца своих дней пытался сделать историю более внятной, а язык более управляемым. Выше показано, с какой настойчивостью он стремился обнародовать итоги своих изысканий такого рода в коллективных сборниках и самостоятельных изданиях. Одно из них, «Время мера мира» (расширенный вариант статьи из альманаха «Взял»), появилось в 1916 году в Петрограде. В этой книге Хлебников предрекает победу числа над словом и называет своими единомышленниками Лейбница, Новалиса, Пифагора и Эхнатона. Впрочем, он допускает, что, будучи устарелым орудием мысли, слово всё же останется для искусств. Хлебников разрывался между языком и математикой; безусловно, он предпочёл бы открыть законы времени, нежели остаться в анналах поэзии.
До войны и на всём её протяжении Хлебников обработал громадный массив числовых данных и просил друзей помогать ему в этом. Мне нужны книги, где цифры,34![]()
![]()
![]()
Для специалиста и математические изыскания Хлебникова, и его лингвистические теории в равной степени неприемлемы, но это — краеугольные камни хлебниковской поэзии, достойные хотя бы поэтому самого пристального внимания. К тому же они восхитительны сами по себе и отнюдь не лишены должного владения предметом, как это может показаться на первый взгляд. Хлебников, например, был убеждён в том, что звучание слова теснейшим образом связано с его смыслом. Такого рода “магические” воззрения в ходу исстари, есть они и у авторов XX века; но верный себе поэт жаждет конкретики. Исходя из аксиомы о том, что первый согласный звук в корне слова выражает определённое понятие, он постепенно (в статьях, написанных в 1915 и 1916 годах) выявил эти понятия для всех согласных букв русского алфавита. Обнаружив, например, что в различных русских говорах и родственных языках около сорока слов, обозначающих жилище, начинаются с буквы Х, он заключает из этого, что она означает преграду, предохраняющую внутреннее содержание от внешних воздействий. Точно так же русская буква Ч означает у него оболочку (чаша, чулок и т.д.). Поясняя смысл буквы Л, Хлебников пишет стихотворение из слов, которые с неё начинаются. Как это ни удивительно, все они означают движение по вертикали, переходящее в движение по горизонтальной поверхности. Исходя из того, что отдельные согласные обозначают некие понятия и, следовательно, являются своеобразным праязыком, Хлебников делает вывод: язык есть носитель сокровенной мудрости, которую вполне можно выявить. Когда-то язык был единым, и дикарь понимал дикаря;37![]()
![]()
 Хлебниковский утопизм проявился ещё в одном его начинании: весной 1914 года поэт приступил к созданию общества, в которое должны были войти лучшие люди современности, и назвал его правительством Земного шара. Суть задумки в том, что это государство времени будет главенствовать над государством пространства, диктуя свои законы. Первым идею поддержал Петников и оставался верным ей даже в 30-е годы. В феврале 1916 года Хлебников вместе с Петниковым учредил в Москве Общество 317 Председателей Земного шара, среди которых должен был оказаться Герберт Уэллс. Когда в августе-сентябре того же года Хлебников получил месячный отпуск, он отправился в Харьков, где в это время находились Асеев и Петников; решено было начать выпуск периодического издания. Именно тогда и был опубликован составленный Хлебниковым манифест «Труба марсиан». Кроме автора, Петникова и Асеева, манифест подписала свояченица последнего Мария Синякова; имя погибшего два года назад Божидара поставили заочно. Скорее это не литературный манифест, а двоякого рода воззвание к человечеству: время пора признать четвёртым измерением, а молодёжи следует приступить к постройке своего собственного государства. Подобные декларации всемирного масштаба стали обычным делом в период обеих революций и какое-то время спустя. Одна из ударных фраз «Трубы марсиан» замаскирована от цензуры: вместо Ведь мы боги напечатано Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Впечатляет и высказывание Хлебникова о делении человечества на изобретателей и приобретателей. Первые являются особой, вневременнóй породой людей, вторые — те, кто утонул в законы семьи и законы торга, имея одну речь: „ем”. Будущее описывается как время, где зачеловек в переднике плотника пилит на доски и как токарь обращается со своим завтра.
Хлебниковский утопизм проявился ещё в одном его начинании: весной 1914 года поэт приступил к созданию общества, в которое должны были войти лучшие люди современности, и назвал его правительством Земного шара. Суть задумки в том, что это государство времени будет главенствовать над государством пространства, диктуя свои законы. Первым идею поддержал Петников и оставался верным ей даже в 30-е годы. В феврале 1916 года Хлебников вместе с Петниковым учредил в Москве Общество 317 Председателей Земного шара, среди которых должен был оказаться Герберт Уэллс. Когда в августе-сентябре того же года Хлебников получил месячный отпуск, он отправился в Харьков, где в это время находились Асеев и Петников; решено было начать выпуск периодического издания. Именно тогда и был опубликован составленный Хлебниковым манифест «Труба марсиан». Кроме автора, Петникова и Асеева, манифест подписала свояченица последнего Мария Синякова; имя погибшего два года назад Божидара поставили заочно. Скорее это не литературный манифест, а двоякого рода воззвание к человечеству: время пора признать четвёртым измерением, а молодёжи следует приступить к постройке своего собственного государства. Подобные декларации всемирного масштаба стали обычным делом в период обеих революций и какое-то время спустя. Одна из ударных фраз «Трубы марсиан» замаскирована от цензуры: вместо Ведь мы боги напечатано Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Впечатляет и высказывание Хлебникова о делении человечества на изобретателей и приобретателей. Первые являются особой, вневременнóй породой людей, вторые — те, кто утонул в законы семьи и законы торга, имея одну речь: „ем”. Будущее описывается как время, где зачеловек в переднике плотника пилит на доски и как токарь обращается со своим завтра.
В конце 1916 года та же группа (без Синяковой) выпустила в Харькове первый номер альманаха «Временник» (на титуле значится «Москва, 1917»). Эта тоненькая (6 страниц) книжечка содержит стихи и две лингвистические статьи Хлебникова, а также произведения Петникова, Асеева и Божидара. Большинство материалов можно с уверенностью назвать “марсианскими”, ибо таковые полны рассуждений о времени и картинами грядущего. Асеев подражает Хлебникову в квази-филологической статье, толкуя о роли приставок. Узнай лингвисты, чтó именно Асеев понимает под приставками, они бы высоко вскинули брови. Очень интересно послание Хлебникова двум японцам. Эти молодые люди обратились в российскую газету с просьбой наладить их переписку со сверстниками. Письмо не только соответствовало мечте Хлебникова населить молодёжью государство времени, но и показалось ему поводом для созыва Азийского съезда: Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском. Хлебников перечисляет тринадцать пунктов повестки дня такого съезда, они вторят «Трубе марсиан». Среди прочих отметим строительство круго-Гималайской железной дороги и разведение хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов. «Временник» заканчивается обзором литературных новинок и книжными рецензиями. Следующие три номера «Временника» с похожим содержанием вышли в 1917 и 1918 годах, причём издателем последнего был Василиск Гнедов, который вновь ненадолго появился, а затем окончательно исчез из литературы.
Выпуск «Временника» и «Трубы марсиан» лишь формально свидетельствует о деятельности группы «Лирень»: налицо раскол «Гилеи» на группу Бурлюка — примитивистскую, ориентированную на живопись и склонную шокировать буржуазию — и утопически, с упором на язык настроенную группу Хлебникова, где гуру окружали молодые поэты, никогда не принадлежавшие к «Гилее».
Упомянем ещё одного ученика Хлебникова (в дореволюционных футуристских изданиях он не печатался) — Дмитрия Васильевича Петровского (1892–1955). Петровский познакомился с Хлебниковым в 1916 году, жил с ним в одной комнате в Москве, встречался в Астрахани, Царицыне, Петрограде и Харькове. Он увлекательно описал эти события; в его ранней поэзии лучше многих уловлен дух Хлебникова.39![]()
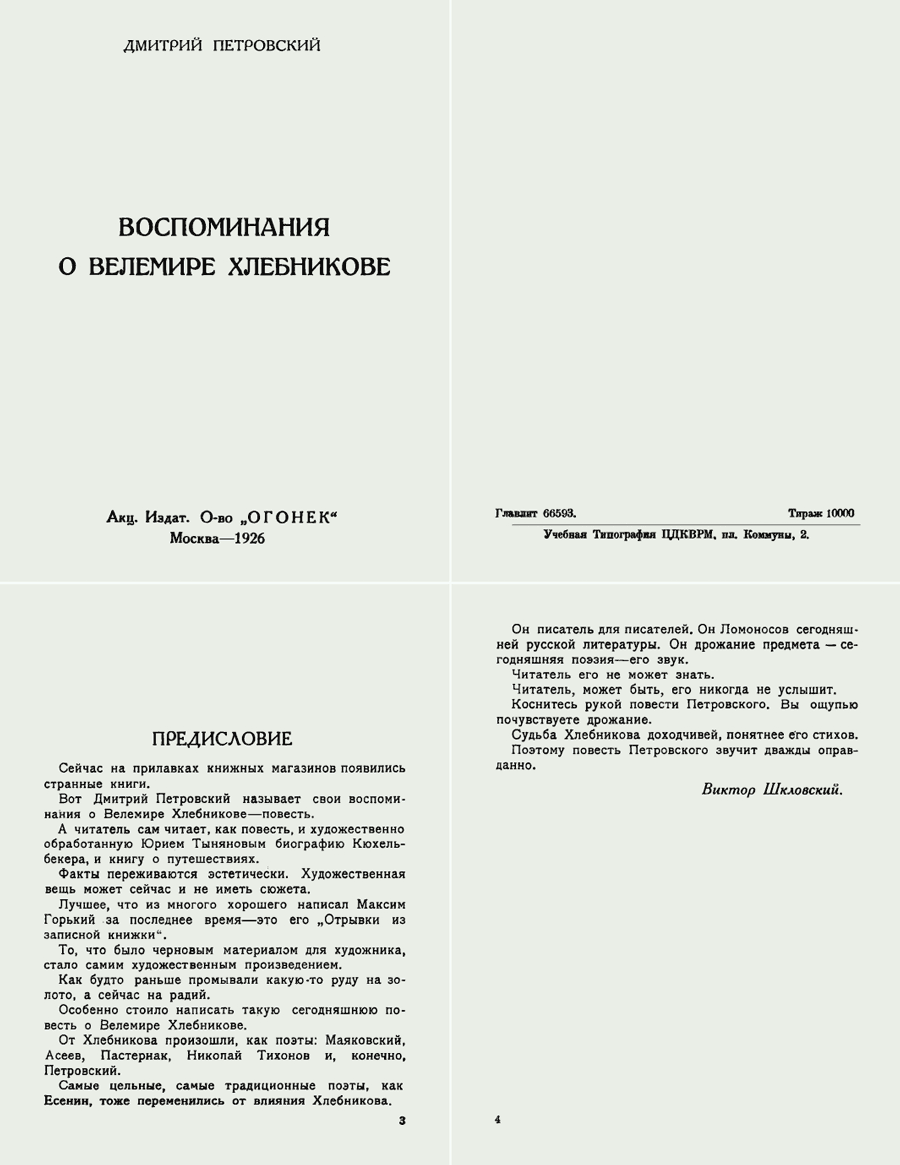
Младшее поколение футуристов с должным вниманием отнеслось к воззрениям Хлебникова на время, казавшимся кое-кому если не бредом безумца, то завзятым чудачеством; Петровскому, например, приобщение к ним „открывало новое блаженство чувствовать и сознавать себя значащей сложной частью бесконечно сложной формулы космоса”.40![]()
Пять лет, отведённые судьбой Хлебникову при советской власти, оказались для него самыми плодотворными: это пик его творческой зрелости. Поэта по-прежнему волнуют проблемы языка и времени, утопия и Восток, сельская очарованность и славянская мифология, но именно в стихах о революции и гражданской войне он обретает второе дыхание и выказывает редкую прежде у него полноту вживания в современность.41![]()
![]()
В оценке Хлебникова царит разнобой. Некоторые придерживаются мнения, что он идиот, но для многих образованных русских уже не новость: Хлебников был одной из главных фигур поэтического ренессанса в России начала ХХ века. Впрочем, столь обтекаемая формулировка явно недостаточна. Хлебникову надоело таиться в глубине книжного шкафа, он вынуждает вновь и вновь возвращаться к его произведениям, и с каждым разом их ценность в наших глазах возрастает. Вполне возможно, что когда-нибудь историю русской поэзии разделят на ломоносовский, лермонтовский и хлебниковский периоды. Но Хлебников — это не только историческая личность и центр влияния. Наибольшее восхищение он вызывает как художник; это самый оригинальный поэт, которого когда-либо знала Россия; в самой его неровности есть некая система, а его “ошибки” — драгоценные перлы. Поэтическое воображение у Хлебникова невероятное, почти нечеловеческое; читатель не поспевает за ним, выдыхается и отказывается следовать дальше. Поэтический диапазон Хлебникова, будь то идеи, тематика или средства исполнения, колоссален, он затмевает всех современников; даже Маяковский выглядит рядом с ним рутинёром, узким и однообразным. Раскрыть подлинное значение Хлебникова ещё предстоит, и в этом смысле он остаётся футуристом в прямом смысле слова. В одном стихотворении (так случилось, что оно не попало ни в один сборник его произведений) он пророчествует о себе:
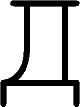 ля Владимира Маяковского годы войны оказались временем поразительного поэтического взлёта и впечатляющих достижений. Именно в это время он вошёл в русскую литературу как самостоятельная поэтическая сила и был признан такими авторитетами, как Максим Горький и Александр Блок. К тому же, Маяковский стал профессиональным литератором, сотрудником нескольких газет и журналов. В октябре 1916 года солидное, т.е. не футуристическое, издательство выпустило в свет его первое собрание сочинений (пятую по счёту книгу) «Простое как мычание» тиражом 2 000 экземпляров (предыдущие выходили по 300–600). Короче говоря, Маяковский перестал быть изгоем в русской литературе. Частью своего успеха он, безусловно, обязан Горькому, хотя роль последнего в карьере Маяковского советскими учёными преувеличивается. По своему обыкновению, Горький некоторое время восторгался молодым талантом,44
ля Владимира Маяковского годы войны оказались временем поразительного поэтического взлёта и впечатляющих достижений. Именно в это время он вошёл в русскую литературу как самостоятельная поэтическая сила и был признан такими авторитетами, как Максим Горький и Александр Блок. К тому же, Маяковский стал профессиональным литератором, сотрудником нескольких газет и журналов. В октябре 1916 года солидное, т.е. не футуристическое, издательство выпустило в свет его первое собрание сочинений (пятую по счёту книгу) «Простое как мычание» тиражом 2 000 экземпляров (предыдущие выходили по 300–600). Короче говоря, Маяковский перестал быть изгоем в русской литературе. Частью своего успеха он, безусловно, обязан Горькому, хотя роль последнего в карьере Маяковского советскими учёными преувеличивается. По своему обыкновению, Горький некоторое время восторгался молодым талантом,44Война захватила Маяковского со дня объявления. Он записался добровольцем, но его забраковали как состоящего на учёте в полиции. Пришлось ограничиться патриотическими лозунгами для пропагандистских плакатов и почтовых открыток (например, таким: Germania grandiosa = mania grandiosa). В 1915 году поэт переехал из Москвы в Петроград, где в октябре был призван в армию и определён чертёжником в автомобильную роту; сослуживцами оказались несколько футуристов, в том числе Шкловский и Брик. Поэтическую эволюцию Маяковского обычно излагают как постепенное осознание (иные без всяких на то оснований приписывают благотворное влияние Горькому) того, что война — бойня. Реальная картина, разумеется, много сложнее. Маяковский приветствовал войну как выигрышную для футуриста тему, и незамедлительно принялся этот Клондайк разрабатывать. Война у него то гигиена мира (отнюдь не случайное совпадение с проповедью Маринетти), то людоедка. Никакого развития от первоначального воззрения к последующему нет, они мирно уживаются: отличный предлог для повышенного тона и неистовых гипербол в обоих случаях. Изнанка войны взвинчивает сентиментальность Маяковского до истерики; вряд ли разумно искать в такого рода сочинениях идеологическую подоплёку. 13 июня 1916 года в записной книжке Блока помечено:
Как бы то ни было, Маяковский счёл войну вызовом художнику, а непочатые закрома куда более разнообразных, действенных и современных тем и средств, чем эксплуатируемый прежде город, принялся опустошать.
В Москве он некоторое время сотрудничал в ежедневной газете «Новь», для которой написал более дюжины статей о поэзии и искусстве (ноябрь 1914 года). В них несколько ясных и чётких, но едва ли не взаимоисключающих положений. По мнению Маяковского, традиционная (реалистическая и символистская) литература не сумела ответить на брошенный войной вызов, ибо слишком условна, женственна и не вполне русская. С другой стороны, война засвидетельствовала правоту отечественного авангарда:
В Петрограде перед Маяковским открылась ещё одна дверь: один из ведущих юмористических еженедельников «Новый Сатирикон» стал регулярно печатать его стихи. Редактором журнала был популярный писатель-сатирик Аркадий Аверченко, язвительно упомянутый в манифесте той же «Пощёчины», так что сотрудничество с ним выглядит своего рода Каноссой. Журнал оказался для поэта великолепной школой сатиры; эти навыки он со временем приумножит. От сатиры до гротеска рукой подать; и без того обжигающий образ неприкаянного поэта в огромном городе, безразличие которого сродни пожиранию, доводится Маяковским этим приёмом до белого каления; в других стихотворениях он заставляет читателя вспомнить знаменитые гоголевские „свиные рыла”. Пожалуй, лучшая вещь подобного рода — о дирижёре оркестра в ресторане, который, перед тем как покончить с собой, буквально избивает музыкой жующую публику. Одна из лирических жемчужин этого периода — очередное признание Маяковского в одиночестве — стихотворение «Скрипка и немного нервно». Поэт вдруг осознаёт, что он и скрипка сродни („Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею!”), и предлагает ей руку и сердце.
Любовная тема в своё время помогла Маяковскому найти себя как поэта; сейчас он вновь и вновь к ней обращается. Маринетти, разумеется, этого бы не одобрил: половая истома футуристу не к лицу; да и в отечественной футуристской поэзии она не в чести, разве что Асеев, Каменский и Пастернак этим грешили. Но и здесь Маяковский на особицу: он ставит любовные неудачи (в реальной жизни он их практически не знал) на поток. Такого рода лирика преобладает в трёх из четырёх крупных поэм, написанных им во время войны. Самая известная — тетраптих «Облако в штанах», где в самом названии (нежность и грубая приземлённость) иронии хоть отбавляй. Поэма была благосклонно принята читателем, хотя издана (Осипом Бриком в сентябре 1915 года) в изуродованном, словно на потеху, виде: без малого шесть страниц цензурных отточий. Три года спустя Маяковский объяснил деление поэмы на четыре части четырьмя воззваниями: долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. Независимо от того, так ли это в действительности, сомневаться не приходится: «Облако в штанах» — начало нового, более глубокого в эмоциональном и интеллектуальном плане Маяковского (не заметить многочисленные связи «Облака» с ранней трагедией «Владимир Маяковский», впрочем, нельзя). Первая, целиком о любви, часть поэмы — подлинный триумф Маяковского: с зачина, подобного ударам гонга, и до заключительной сцены пожара сердца — ни одного лишнего слова. Напряжение лирического героя, ожидающего возлюбленную в номере гостиницы, невыносимо: жар его лба плавит оконное стекло, он всматривается в дождливую городскую ночь; наконец она приходит, и двери гостиницы лязгают, словно зубы. В сущности, во всех трёх поэмах Маяковского о любви трагические ситуации на одну колодку: девушка выходит замуж (остаётся с ним, уходит к нему) за того, кто лучше её обеспечит. Но у Маяковского внешние причины трагедии (обиженный юнец, только и всего) — не в счёт; важны лишь сила и размах их передачи. Кипяток любви клокочет и под занавес: в четвёртой части поэмы лирический герой просит тела — как просят христиане — „хлеб наш насущный даждь нам днесь” — у другой.48![]()
Если первая и последняя части «Облака в штанах» прозрачны и просты, то две промежуточные, идеологические, сбивчивы, противоречивы и довольно невнятны. Кажется, Маяковскому проще вывернуть себя в „одни сплошные губы”, чем отважиться на проповедь. Он принимает позу то пророка-нигилиста, то „крикогубого Заратустры”, то „тринадцатого апостола” (первоначальное название поэмы, запрещённое цензурой). Самый внятный (поэтому, вероятно, и чаще других цитируемый) отрывок — тот, где брошенная струсившими поэтами „улица корчится безъязыкая”. А ведь уличные прохожие — „студенты, проститутки, подрядчики” и прочие „каторжане города-лепрозория” — заслуживают новой поэзии, где „шум фабрики и лаборатории” сочетался бы с тем, что волнует человека напрямую и безотлагательно („Я знаю — гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте!”). Поэты отнюдь этому не соответствуют, ибо привыкли воспевать „и барышню, и цветочек под росами”. В качестве образчика приводится „чирикающий, как перепел” Игорь-Северянин, чьей популярности Маяковский — тот самый Маяковский, уверяющий, что настало время „кастетом кроиться миру в черепе” — страшно завидовал. Обличая современность (в азарте он заходит, пожалуй, слишком далеко: называет успешное в любом смысле турне 1913–1914 годов „Голгофами аудиторий”), поэт предсказывает, что „в терновом венце революций грядет шестнадцатый год”, и путь ему он желает осветить своей окровавленной, подобной растоптанному знамени душой. Вокруг этого пророчества было много шума — люди забыли, что ещё в 1912 году Хлебников предсказал революцию более точно. К тому же у Маяковского социальных признаков таковой нет, это разгул анархии („Выньте, гулящие, руки из брюк — берите камень, нож или бомбу”), и только. Впрочем, идеологическая подоплёка поэмы обнаруживается не столько бунтарскими призывами, сколько политической окраской метафор: облака сравниваются с бастующими рабочими, небо кривится гримасой Бисмарка, закат краснеет, как «Марсельеза», ночь черна, как Азеф. Образы ошеломляют читателя и остаются в его памяти, даже если забыт контекст: двенадцатый час ночи падает, как голова казнённого; каждое слово выбрасывается изо рта поэта, как голая проститутка из горящего публичного дома; нервы спрыгивают с кровати и отбивают чечётку; в качестве монокля поэт вставляет солнце и, как мопса, ведёт на цепочке Наполеона.
В поэме «Флейта-позвоночник», изданной в феврале 1916 года, ничего похожего на проповедь нет: это преимущественно рассказ о трагической любви. Смысл названия раскрывается в строках: „Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике”. Любопытно, что поэзия Маяковского, напоминающая обычно соло на тромбоне в сопровождении ударных, отнюдь не чужда „нежной” флейты и скрипки. Сначала поэт дал поэме название «Стихи ей», имея в виду Лилю, жену Осипа Брика, которая почти до самой смерти поэта была его музой, а в быту — до некоторой степени и женой. Лиля Брик на сорок лет пережила Маяковского и всю жизнь пропагандировала его творчество. Во времена «Флейты-позвоночника» это была кареглазая женщина, „большеголовая, красивая, рыжая, лёгкая”;49![]()
![]()
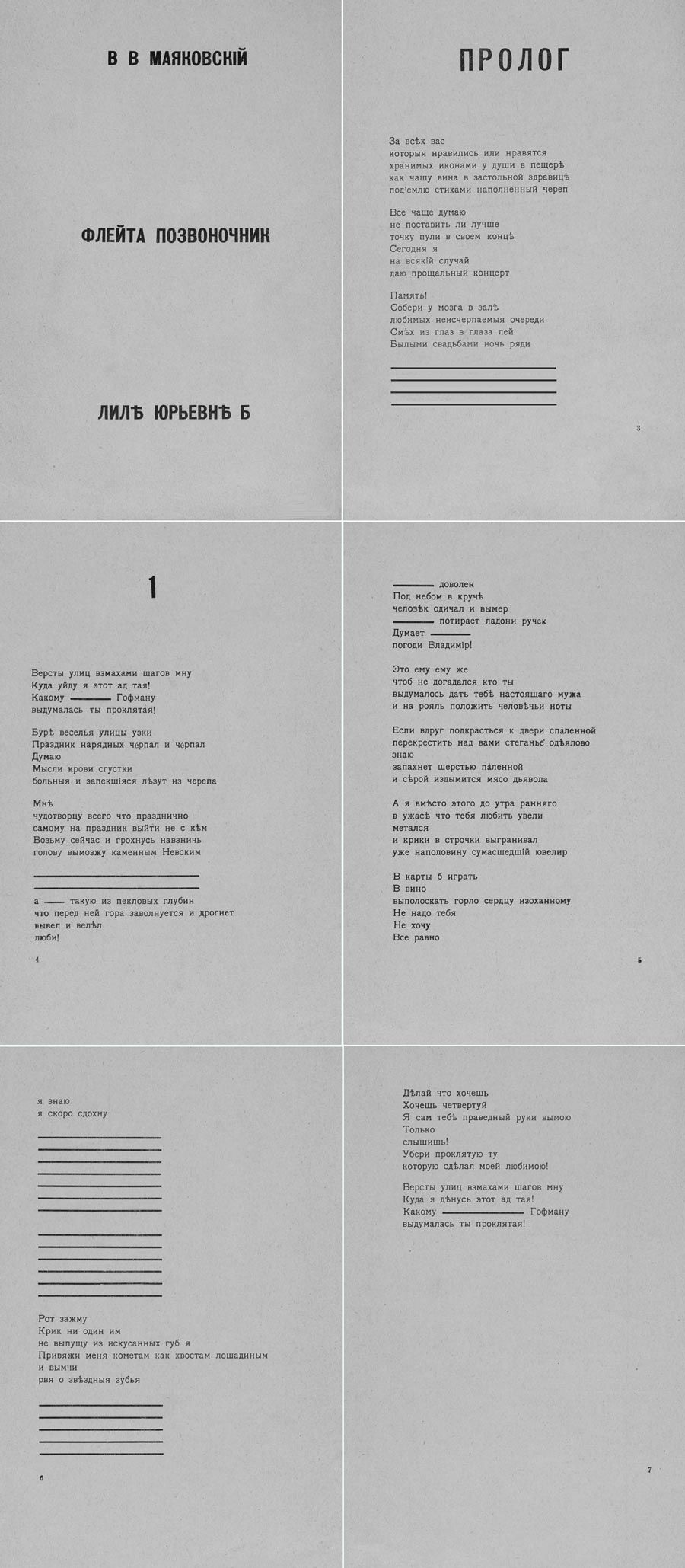
«Флейта-позвоночник» по объёму в два раза меньше «Облака в штанах», но, пожалуй, во столько же раз сильнее. Маяковскому удалось, казалось бы, невозможное: на протяжении трёхсот строк он издаёт душераздирающий любовный стон, и это не надоедает. Любовь здесь — ад, пытка; поэма полна безумием, отчаянием и смертью. Мысли поэта — сгустки запёкшейся крови, он хочет раздробить голову о мостовую и, как чашу вина, подъемлет свой наполненный стихами череп.51![]()
![]()
Радикальную перемену в его творчестве являет огромная пятичастная поэма «Война и мир»; работа над ней продолжалась весь 1916 год, но издать удалось только после революции. Новая по тематике, поэма напоминает другие крупные произведения поэта военных лет и уровнем громкости, и чрезмерностью уподоблений; при этом Маяковскому удаётся выдержать взвинченный тон от начала до конца, не наскучивая. Как и прежде, имеется пролог и посвящение. В прологе глашатаем грядущего выступает сам поэт. Посвящена поэма всё той же Лиле; Маяковский патетически умоляет возлюбленную о сострадании: призвали в армию, могут убить на войне. Принципиальная новизна поэмы в том, что личная жизнь автора (кроме вводной части) остаётся за кадром. Он здесь “объективен”, то есть занят окружающим, а не самим собой, что, разумеется, не исключает повышенной эмоциональности повествования. Как раз наоборот, ораторские приёмы в избытке: возгласы, сильные выражения, нагнетание звукового давления, пространственно разнесённая рифма. Собственным переживаниям здесь придана скорее риторическая, чем личностная окраска. Для разнообразия Маяковский прибегает к опробованным футуристами типографским приёмам: использует прописные буквы, растягивает гласные в словах, чаще, чем обычно, дробит строки, вводит музыкальные отрывки в нотной записи (церковные песнопения, аргентинское танго «Еl Choclo», барабанную дробь).
Композиция «Войны и мира» предельно проста: в каждой из пяти частей решается вполне определённая задача. Зачин — гротескная картина обжорства, пьянства и похоти предвоенного человечества, в душе которого „вьётся рубль”. Здесь сведены воедино и усилены мотивы поэзии Маяковского из «Нового Сатирикона»; завершает картину зрелище смены дня и ночи, представленные символами грязи и разврата. Поэт даёт понять, что война как „гигиена мира” неизбежна:
Поразительный эпизод «Войны и мира» — начало третьей части, где поэт приглашает Нерона полюбоваться Первой мировой войной, словно схваткой гладиаторов, а напряжение перед началом военных действий сравнивает с совокуплением. Далее настроение меняется: от ожидания с перехваченным дыханием — к отчаянию, охватывающему поэта при виде бесконечного кровопролития. По своему обыкновению, Маяковский насмехается над “миром иным”: душе убитого солдата не удаётся встретить богов — напуганные войной, они бежали. В четвёртой части мы застаём поэта бьющим себя в грудь с надрывом, Достоевскому и не снившимся. Маяковский берёт на себя все мерзости человечества, однако надеется, что далёкие потомки окажутся милосерднее самого Бога. И точно: светлое будущее, вплоть до всеобщего воскресения, наступает. Из могил встают и обрастают мясом кости, находят хозяев оторванные головы и конечности. Всюду покой и благоденствие: пушки мирно щиплют на лужайке траву, цари-задиры гуляют под присмотром нянь, Каин играет в шашки с Христом. Поэма заканчивается апофеозом, наподобие „Слава! Слава!” в финале некоторых русских опер. Впрочем, на смену безоглядному футуристскому приятию войны приходит отнюдь не дряблый пацифизм: у людей будущего в каждом юноше порох Маринетти.
Причислять поэму Маяковского «Человек» к его дореволюционным произведениям или нет — вопрос достаточно спорный. Автор приступил к ней в 1916 году, но последнюю точку в резюме капитализма ставит плакатный образ „другого человека” в качестве Повелителя Всего, вполне советский. В поэме вновь говорится о „несгорающем костре немыслимой любви”; читатель встречает старых знакомых: уитменовское самопрославление, умысел самоубийства, издевательское изображение жизни в раю как „зализанной глади” на фоне ангельских голосов, поющих „La donna è mobile”. По старой привычке, религиозная образность никакого отношения к Богу не имеет, её целиком и полностью присваивает поэт (собственно говоря, история Человека пародирует жизнь Иисуса). Поэма не получила широкого признания, но в 1918 году Маяковский читал её перед литературной элитой и произвёл на собравшихся самое сильное впечатление. Для Пастернака она была „вещью необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности”,53![]()
В его творческой манере удивительным образом слиты простота и сложность: “первобытные” эмоции усложняются самопародией, конфликтом лирического и антилирического (Якобсон), духом игры. Маяковский принадлежит к числу ярчайших явлений русской литературы; его голос без труда узнаётся не только по рифмам, ритму и знаменитой “лесенке”, но и по интонации. Из особенностей Маяковского две можно считать главными. С психологической точки зрения, это безудержное стремление к крайностям. Отсюда гиперболы, космический масштаб, видения будущего, привычка посещать небеса и преисподнюю (в знакомстве с топографией и обитателями оных Маяковскому не уступит разве что Сведенборг), коммунизм, склонность к “непоэтическому”. С формальной точки зрения, ключ к манере Маяковского — асимметрия. Она-то и объясняет графику строк, систему рифм и лексические диссонансы. Одних раздражает скудость мировоззрения поэта, его психологическая и духовная незрелость; других отталкивает низменность кое-каких выражений и кричащие краски. И всё-таки Маяковский родился поэтом. Он создал свою поэтическую вселенную и собственную поэтику. Более того — обладал высочайшей степени поэтическим интеллектом: умел дать неповторимое словесное выражение всему, за что ни брался — будь то любовь к Лиле или к Ленину, реклама детских сосок или похабный экспромт. Поговаривают, что рифмованные газетные передовицы убили в Маяковском поэта: не верьте.
Послереволюционное творчество Маяковского слишком богато для того, чтобы говорить о нём в кратком обзоре, но практически все его жанры (даже агитки) восходят к дореволюционной поре. При большевиках он упростил синтаксис и язык, но это была не сдача позиций, а признак зрелости. У позднего Маяковского есть достойные отдельного разговора вещи, в первую очередь поэма «Про это» и пьесы.
Когда в феврале 1917 года в России произошла демократическая революция, Маяковский заговорил об искусстве, свободном от указок свыше; после захвата власти большевиками ратовал за подчинение искусства политике. Былая взвинченность сошла на нет, истерику сменили благодушие и умиротворённость. Отныне он не изгой и не бунтарь, а проводник единственно верного курса. Брошенный на произвол судьбы ребёнок в Маяковском постоянно нуждался в няньке (будь то Бурлюк, Лиля Брик или коммунистическая партия), которая водила бы его за руку. Нельзя сказать, что после революции он вообще не знал проблем: коммунизм футуристского пошиба едва ли нравился Ленину, человеку с мещанскими вкусами (он терпеть не мог стихи Маяковского; к счастью, того это мало беспокоило). Маяковского то и дело заушали критики-коммунисты. Во время гражданской войны он рисовал агитационные плакаты, затем возглавил футуристскую группу ЛЕФ, много сочинял и ездил за границу. Весьма неожиданный и печальный случай произошёл во время его поездки в Париж, где он влюбился в девушку-белоэмигрантку. Она отказалась следовать за ним в Советскую Россию; ему не выдали визу для нового свидания. Возможно, это послужило причиной (пусть и не единственной) его самоубийства, потрясшего Россию в 1930 году.
В 1935 году десять слов сталинской похвалы упрочили репутацию Маяковского больше, чем все тринадцать томов его собрания сочинений. Вот почему в России памятников Маяковскому больше, чем Гарибальди в Италии. С политической точки зрения, признание поэта Сталиным (которому вряд ли нравились его стихи) было гениальным ходом: в то самое время как вождь направил советскую литературу в русло социалистического реализма (т.е. невесть куда), видная фигура Маяковского сняла все вопросы относительно советской поэзии 30-х и и последующих лет. Поэтическая мощь Маяковского заставила читателей забыть о толпе ничтожеств вокруг него. Сам того не желая, Сталин оказал русскому авангарду громадную услугу: “правоверное” истолкование поэзии Маяковского противостоять её взрывной силе уже не могло. Сейчас эта сила иссякла: Маяковский превратился в классика с книжной полки, в пережиток прошлого. И хотя многие молодые поэты высоко его ценят, массовый читатель едва ли “понимает”. Сталинская оценка, разумеется, заставила учёную братию увеличить выработку — но лишь в плане количества: за последние тридцать пять лет о бедном поэте написали горы макулатуры. Однако природа не терпит пустоты: в России отличились математики (изучение метрики Маяковского средствами кибернетики), а лучшие критические разборы написаны за рубежом (Якобсон, Стальбергер).
Футуризм Маяковского до сих пор не даёт советским учёным покоя; они объявляют его то ошибкой молодости, то чуждым влиянием, которому он успешно противостоял, хотя любому непредубеждённому человеку ясно, что Маяковский — классический пример футуриста как до революции, так и после. Сам поэт всю свою жизнь считал себя футуристом54![]()
Будучи одним из вождей футуристского движения, Маяковский разительно отличался от Хлебникова. Хлебников указывал способы решения поэтических задач; Маяковский (каждый раз по-своему) решал их, ибо, как ни странно, был художником в полном смысле этого слова, то есть испытывал потребность доводить всё, что делает, до конца. Увы, именно эта особенность ослабила влияние Маяковского и не позволила ему даже после обожествления превратиться в мэтра; Маяковскому легко подражать, но следовать за ним практически невозможно. И ещё одно различие между двумя поэтами: Маяковский был вассалом, Хлебников — королём.
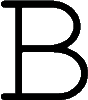 се трое братьев Бурлюков, кто раньше, кто позже, выбыли из русского футуризма. Атлетического сложения Владимир, окончив в 1915 году художественную школу, был зачислен в действующую армию, и в 1917 году погиб в бою при Салониках. Получивший приличное образование Николай служил в армии, потом женился на богатой помещице и, вероятно, погиб от рук красных в 1920 году.55
се трое братьев Бурлюков, кто раньше, кто позже, выбыли из русского футуризма. Атлетического сложения Владимир, окончив в 1915 году художественную школу, был зачислен в действующую армию, и в 1917 году погиб в бою при Салониках. Получивший приличное образование Николай служил в армии, потом женился на богатой помещице и, вероятно, погиб от рук красных в 1920 году.55Голод и анархия в Москве не устраивали Бурлюка, и в апреле 1918 года он вернулся к семье, но к этому времени даже отдалённые районы России познали тяготы гражданской войны. Семья Бурлюков отправилась через Сибирь во Владивосток, причём на протяжении всего пути Бурлюк зарабатывал живописью и лекциями.56![]()
После того как японцы оттеснили большевиков на запад, Третьяков и несколько его друзей перебрались в Читу, продолжая там издательскую деятельность, но Бурлюка с ними уже не было: он уплыл в Японию. Здесь он занимался живописью и устраивал выставки своих картин. В сентябре 1922 года поэт убыл в США. Для Бурлюка Америка обещала стать землёй обетованной: он умел искать меценатов и привлекать к себе внимание. Поэт появлялся на приёмах в цилиндре, пёстром жилете, с серьгой в левом ухе, деревянной ложкой в петлице и нарисованной на щеке птичкой. Он проповедовал меркантильным американцам некий радиофутуризм и писал картины в духе итальянских футуристов. На Америку всё это особого впечатления не произвело. Экономический кризис положил конец большинству начинаний Бурлюка, хотя все эти трудные годы он упорно продолжал заниматься живописью, сотрудничая одновременно с просоветской нью-йоркской газетой «Русский голос». Во время своей знаменитой поездки в Америку в 1925 году с ним встречался Маяковский. В 1930 году Бурлюк получил американское гражданство. Финансового благополучия он достиг только после окончания Второй мировой войны, когда купил себе дом в Хэмптон-Бэйс, Лонг-Айленд (зимой он уезжал во Флориду). Бурлюк путешествовал по всему свету, всюду выставлял свои работы и однажды с гордостью заметил, что продал 16 тысяч картин. В 1956 году он получил приглашение посетить СССР, причём все расходы оплатила принимающая сторона; незадолго до смерти он снова побывал на родине.
Занятий литературой Бурлюк отнюдь не забросил. В 1923 году он передал одному знакомому писателю деньги на издание в Берлине своего стихотворного сборника «Беременный мужчина», но тот употребил их на переезд в Россию. В Нью-Йорке Бурлюк вступил в литературное содружество «Hammer and Sickle» («Молот и серп»), объединявшее около сорока симпатизирующих Советскому Союзу поэтов, прозаиков и художников. В 1924 году был издан коллективный сборник «Свирель Собвея» с невероятно слабыми стихами, по большей части выражавших отвращение его участников к Нью-Йорку и страх перед ним. Авангардистски настроенные члены «Hammer and Sickle» в том же году организовали недолго просуществовавшую группу «Американский ЛЕФ» и с августа по октябрь 1924 года выпустили три номера журнала «Китоврас», названного так в честь издательства Каменского (см. ниже). В «Китоврасе» опубликовали около двадцати авторов; издавал его некто В. Воронцовский, числившийся поэтом и теоретиком. Бурлюк писал для «Китовраса» стихи и теоретические статьи, в которых своим старым футуристским идеям антиэстетизма, урбанизма и “чистой формы” придавал коммунистический уклон.57![]()
Разочаровавшись в деятельности «Американского ЛЕФа», Бурлюк затеял в 1924 году собственное издательство — сначала под своим именем, затем под именем жены Марии. Он выпустил несколько книг и брошюр, посвящённых проблемам искусства («Руссискусство Америке», 1928; «American Art of Tomorrow», 1929), небольшую монографию о художнике Николае Рерихе («Рерих», 1929). Издавал Бурлюк и прозу, написанную по сибирским и японским впечатлениям. Его проза многословна, неряшлива и неинтересна, таланта в ней не чувствуется. Это «Восхождение на Фудзи-сан» (1926), «Морская повесть» (1927), «По Тихому океану» (1927), «Ошима» (1927), «Новеллы» (1929). Последняя книга написана, скорее всего, не самим Бурлюком, а его женой. Американские поэтические сборники Бурлюка включают в себя как стихи, сочинённые за океаном, так и те, что он написал (и даже опубликовал) до эмиграции; нередко он иллюстрирует их собственноручно. В 1932 году Бурлюк издал антологию «Красная стрела» с воспоминаниями о Маяковском и большой подборкой стихов русских поэтов. Его первый американский сборник называется «Д. Бурлюк пожимает руку Вульворту Бильдингу» (1924) и знаменует 25-ю годовщину художественной деятельности автора (Бурлюк очень любил отмечать такого рода события). Здесь он опубликовал самое первое своё стихотворение, за ним следует «Маруся-сан» (1925) — имя жены на японский манер. Далее идут стихи, сочинённые в Сибири, Японии (одно в жанре хайку) и Нью-Йорке; некоторые, как это ни странно — в эго-футуристском духе. В книге «Десятый Октябрь» (1928) напечатана поэма, славящая годовщину победы большевизма и повествующая о революционных событиях. Сначала Бурлюк написал её в виде кантаты с хорами, сольными партиями и даже речами, затем переделал в своеобразный киносценарий. Вслед за ней помещена статья о поэтах, которые печатно предсказывали революцию. В небольшой книге с поэмами «Толстой» и «Горький» (1929) Бурлюк изо всех сил старается убедить советское правительство в своей лояльности.
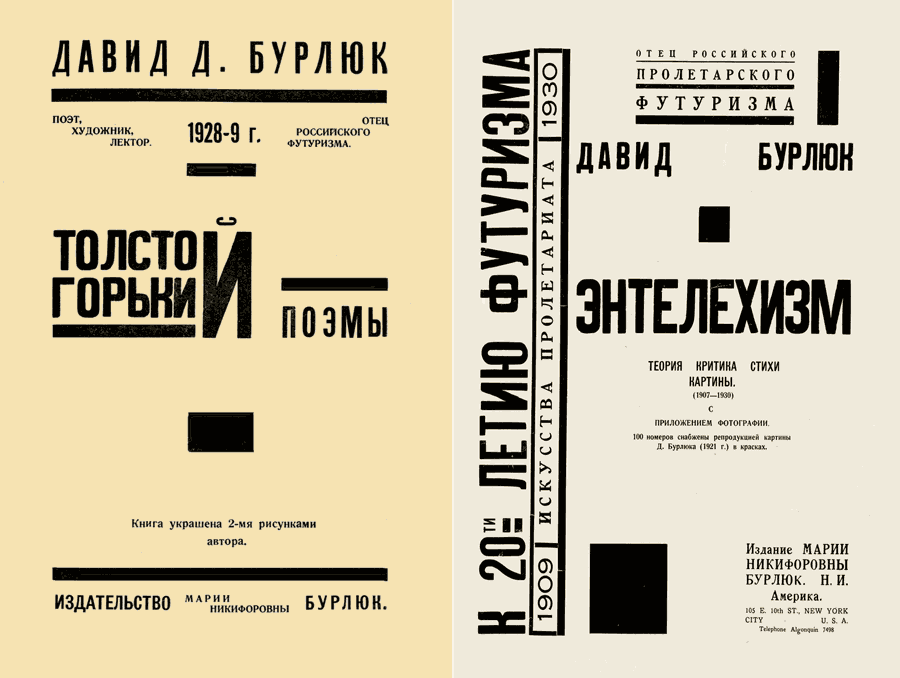
Самая амбициозная из книг Бурлюка «Энтелехизм» издана в 1930 году, к двадцатилетию футуризма. В её теоретическом разделе Бурлюк, никогда не упускавший возможности подчеркнуть, что является “отцом российского футуризма”, делает запоздалую попытку внести в идеологию движения нечто новое. Заодно книга содержит и заявку на лидерство в советской литературе, где, по наивному убеждению Бурлюка, футуризм по-прежнему правит бал. Желая, вероятно, модернизировать и углубить футуристскую доктрину 1912 года, Бурлюк цитирует и комментирует сочинения самых разных философов и учёных (включая Павлова). В результате получилось нечто весьма противоречивое, путаное, а порой и просто безграмотное. Определения энтелехизму в книге так и не дано. Единственное, что в ней более или менее понятно, это интерес Бурлюка к „звучанию слов в обратном порядке” (добавить что-либо к перевертням Хлебникова весьма непросто) и насыщению стихов одинаковыми звуками (приём не новый даже для Бурлюка). Поэт отослал несколько сотен экземпляров «Энтелехизма» в Россию, и это в то время, когда его семье не хватало на еду; здесь книга впечатления не произвела. Один из его корреспондентов, Игорь Поступальский, исследователь футуризма и автор книги о Бурлюке, честно признался, что трактата не понял.58![]()
В 1932 году Бурлюк издал ещё один юбилейный сборник, «½ века», на этот раз в честь своего пятидесятилетия. Книга интересна наибольшей из прочих подборкой стихов, написанных в Японии;59![]()
Именно с этих пор Бурлюк начал издавать всё, что пишут о нём советские авторы, которым совсем не просто было тогда обсуждать проблемы футуризма. Он выпустил две книги искусствоведа Эриха Голлербаха «Искусство Давида Бурлюка» (1930) и «Поэзия Давида Бурлюка» (1931), книгу Игоря Поступальского «Литературный труд Давида Д. Бурлюка» (1931) и книгу Бенедикта Лившица «Гилея» (1931), которая спустя два года стала первой главой изданных в России воспоминаний «Полутораглазый стрелец».
Со временем Бурлюк прекратил издание книг и брошюр и начал выпускать журнал «Color and Rhyme» («Цвет и рифма»), который год за годом довёл до шестидесятого номера. «Color and Rhyme» можно назвать энциклопедией Бурлюка. Иногда журнал выходил на русском языке, но чаще на английском (вернее, на бурлюко-английском); он насчитывал от четырёх до ста страниц; в нём печатались репродукции картин Бурлюка (как, впрочем, и друзей поэта), рецензии на его выставки, письма к нему (среди прочих, от Рокуэлла Кента и Генри Миллера), его воспоминания, биографические сведения, относящиеся к нему и его родственникам (Бурлюк считал себя потомком Чингисхана), сообщения о его путешествиях. Публиковались длинные отрывки из дневника Марии Бурлюк с описанием повседневной жизни, из которых можно было, например, узнать, что 5 августа 1930 года в 10.30 утра Бурлюку вырвали передний зуб. Порой встречаются стихи самого Бурлюка, а в 55-м номере (1964) напечатана самая большая поэтическая подборка со времён «½ века». Трудно что-либо сказать об этих стихах кроме того, что Маяковский, вероятно, перевернулся бы в гробу, услышав опусы своего друга о соловьях, озёрных мечтах, шопеновских ноктюрнах, экстазах, зефирах и Диане с Гекатой. Почти во всём, что Бурлюк публиковал в «Color and Rhyme», отражается его мягкая, добрая и беспорядочная личность; исследователь обнаружит здесь обильную информацию, но доверять ей опасно. Бурлюк умудрялся даже самого себя цитировать с ошибками; что же касается библиографических сведений, то они весьма неточны, а то и намеренно вводят читателя в заблуждение.
О поэзии Бурлюка мы уже говорили. Критики считают, что она восходит к поэтике французских “прóклятых поэтов”, усматривают в ней „деэстетизацию”, „вульгарную и циническую лексику”, „доведение до абсурда устаревших клише” и „великолепный цинизм”.60![]()
![]()
История послереволюционной жизни Бурлюка исполнена двусмысленности и иронии — и этим трогательна. Начинал он её с громких фанфар саморекламы, никогда не забывая напомнить читателю, что он — „великий Давид Бурлюк”, „будущий (!) первооткрыватель мира современного искусства”, „легенда советского искусства”, „повсеместно известный на всех пяти континентах земного шара”.62![]()
![]()
Сильнейшее разочарование доставила Бурлюку его ставка на СССР. Реалии экономического кризиса привели его к убеждению, что пролетарская революция в США неизбежна, после чего он с триумфом вернется в СССР как признанный вождь революционного футуризма. „Я являюсь истинным большевиком в литературе”, — писал поэт и не раз напоминал, что всегда „защищал интересы СССР в тяжёлых условиях капиталистического окружения”, в „стране хищного капитала”.67![]()
![]()
![]()
Во всём, что писал теперь Бурлюк, с неизбежностью возникали противоречия. В 1913 году он специализировался на низложении Рафаэля, а теперь аттестовал его „вечным символом гения”;70![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Когда по инициативе Сталина учредили культ Маяковского, Бурлюк увидел в этом величайший в своей жизни шанс. Человек, не устававший повторять, что его знают на всем земном шаре, был готов стать подстрочным примечанием к Маяковскому. В конце концов, признал же Маяковский в автобиографии, что именно Бурлюк открыл его и „сделал поэтом”.75![]()
![]()
![]()
Печальная истина заключается в том, что человек, с которого начался русский футуризм, и само имя которого звучит для русского уха на футуристский лад, никогда в жизни авангардистом не был. Даже в живописи он не продвинулся дальше кубизма, да и то есть подозрение, что кубизм был для Бурлюка в 1912-м и 1913-м годах лишь средством будоражить обывателя. Со временем Бурлюк всё более правел и, наконец, превратился в некую смесь Ван-Гога и Анри Руссо русского разлива. Он провозгласил себя „основателем абстрактного экспрессионизма”,78![]()
![]()
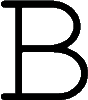 есь 1914 год Василий Каменский работал над вторым после «Землянки» романом «Стенька Разин», о знаменитом казацком бунте XVII века. Разин — любимый герой русского фольклора; привлекал он внимание и поэтов (в том числе Пушкина), но романов о нём до Каменского не писали — вероятно потому, что Разин отлучён от православной Церкви. Среди футуристов более других ценил Разина Хлебников. «Стенька Разин» был издан иждивением Золотухина в 1915 году (на обложке указан 1916 год) и быстро раскуплен. Впоследствии Каменский говорил, что переиздания не было из-за происков правых сил.
есь 1914 год Василий Каменский работал над вторым после «Землянки» романом «Стенька Разин», о знаменитом казацком бунте XVII века. Разин — любимый герой русского фольклора; привлекал он внимание и поэтов (в том числе Пушкина), но романов о нём до Каменского не писали — вероятно потому, что Разин отлучён от православной Церкви. Среди футуристов более других ценил Разина Хлебников. «Стенька Разин» был издан иждивением Золотухина в 1915 году (на обложке указан 1916 год) и быстро раскуплен. Впоследствии Каменский говорил, что переиздания не было из-за происков правых сил.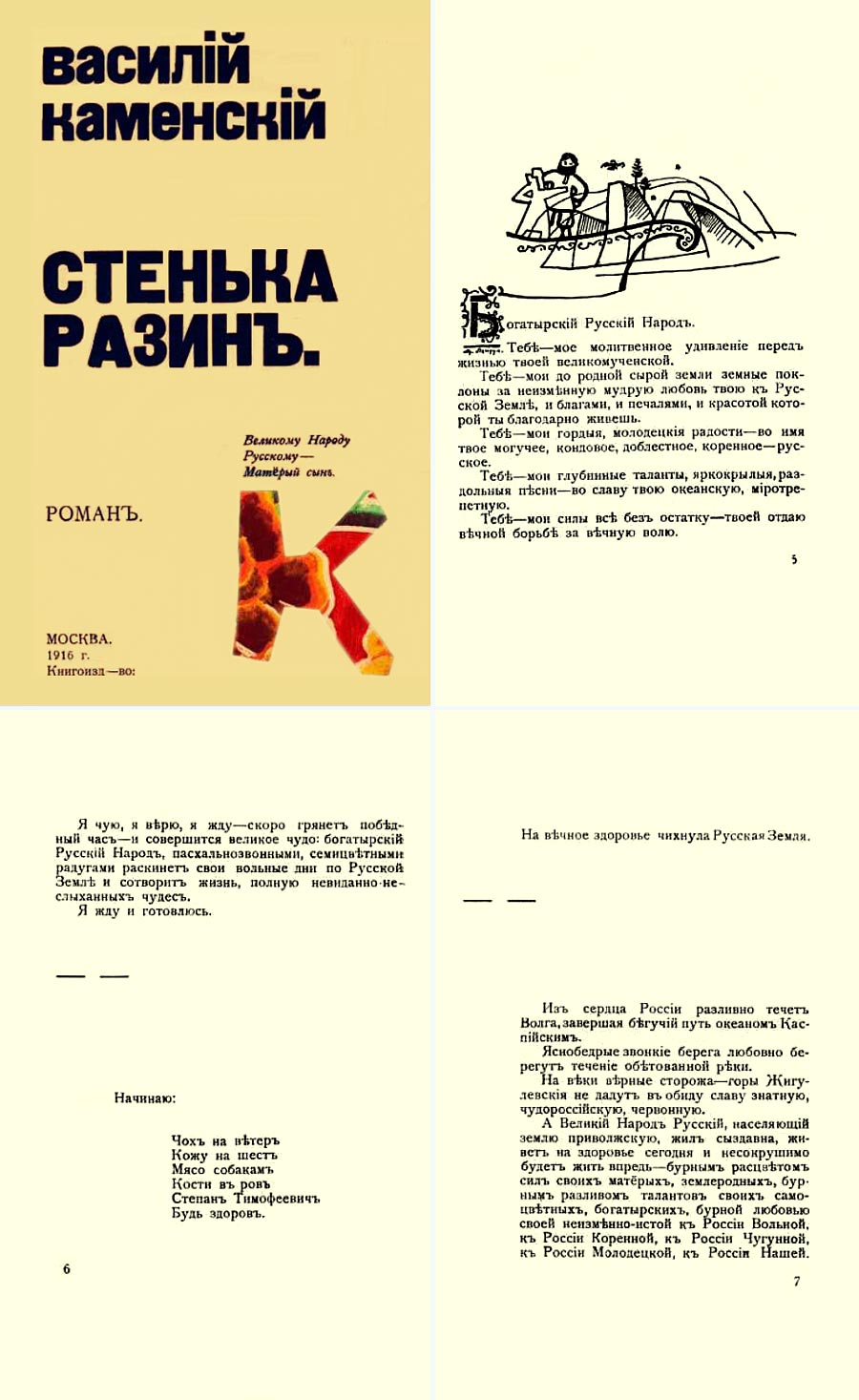
Безусловно, «Стенька Разин» (уменьшительное от Степан) — главное произведение Каменского; в нём хорошо видны сильные и слабые стороны его дарования. Целью автора было „дать всю сущность русской Души ‹...› в едином Стеньке Разине”, что, если умеючи, не так и трудно, ибо „Разин живёт в каждой душе”.80![]()
Стержневая тема романа — Разин и песня. В «Стеньке Разине» их в избытке, причём автор даёт понять, что некоторые сочинил сам атаман. То есть Разин Каменского един в двух лицах: разбойник и поэт. Разин-поэт горюет о том, что в памяти народной он останется пиратом, а не бардом и борцом за правое дело. Таким образом, персонализация Разин = Волга = Русская земля = Русская песня = Русская душа создаёт обаятельный образ русских как народа крайностей, внутреннего артистизма, буйного порыва, юношеской непосредственности, детской чистоты и одухотворённой силы. В годы войны хвалебная песнь о России приобрела широкое патриотическое звучание. „Не знаю более глубокого чувства, чем быть русским”, — восклицает Каменский.
Тем не менее, соблазны иноземного Востока — составная часть “футуристического романтизма” Каменского. Персидские сцены и песни (написанные на воображаемом персидском языке) создают атмосферу волшебной сказки; Каменский примыкает к освящённой веками русской традиции, от былин до музыки Римского-Корсакова включительно. Но лирическое одушевление ритмической прозы (восходящей к таким неувядаемым образцам, как «Князь Серебряный» А.К. Толстого) довольно быстро иссякает. Слишком много в романе сусального китча à la russe, неологизмы положения не спасают; повествование чересчур цветисто, краски фольклора кричат. Ещё одна особенность романа, ставящая иной раз в тупик: назойливая оперность. Разин готов петь и играть на гуслях где угодно: в пылу сражения, в постели с принцессой и даже в железной клетке, когда его везут на казнь. Успех романа в значительной мере обеспечивают (и делают его футуристским произведением) массовые сцены. Каменский пишет их в виде колонок из слов (русских и не русских), коротких фраз и выкриков, создавая этим сумбуром проклятий и призывов к грабежу колоритный образ шайки головорезов. Этой же особенностью обладают и некоторые песни.
После революции Каменский переписал роман: добавил несколько исторических глав, вымарал несколько лирических пассажей, изменил название на более респектабельное «Степан Разин». В таком виде появилось второе издание (1919), затем третье (1928), с новыми изменениями.
Годы войны стали для Каменского временем большого личного успеха. Сценический талант, проявленный в турне футуристов (1913–1914), он и не подумал зарывать в землю. Отныне стихи сочинялись с оглядкой на публику, и артист в нём то и дело подменял поэта. Пытаясь увернуться от армии, Каменский отправился в длительную и приятную поездку по курортам Кавказа и Крыма с чтением лекций и стихов. В своих выступлениях он призывал богатых и праздных людей, о тяготах военного времени знающих только по газетам, быть как дети, слушать музыку волн Вечности, радоваться, смеяться, любить, петь песни и восторгаться стихами Каменского; иными словами — наслаждаться жизнью. В цирке Тифлиса у него был ангажемент на чтение стихов ряженым под Степана Разина, да ещё и верхом на лошади. Тогда же он свёл дружбу с грузинскими и армянскими футуристами.
Постоянным спутником Каменского в то время был Владимир Робертович Гольцшмидт (1886–1954), второстепенный, но колоритный персонаж русского футуризма; он тоже выступал с лекциями и стихами, в которых налицо сильное влияние Каменского и полное отсутствие таланта; впрочем, особых литературных амбиций у Гольцшмидта не было: он считал себя „футуристом жизни”. Свои лекции Гольцшмидт читал как глашатай исполненного здоровья, солнца и радости бытия. Он призывал бежать из городов и демонстративно отказывался от головного убора и воротничков. Во время выступления Гольцшмидт облачался в лиловую шёлковую блузу с глубоким декольте, а волосы осыпал бронзовой пудрой. Более всего он прославился тем, что раскалывал о свою голову толстые деревянные доски, называя это „солнечными радостями тела”. Успех был полный — дамы бросались на сцену с криком: „Владимир, мы — больные люди города! Веди нас к солнечной жизни!” Во время гражданской войны Гольцшмидт, как и Давид Бурлюк, попал на Дальний Восток и напечатал в 1919 году в Петропавловске-на-Камчатке «Послания Владимира жизни с пути к истине», куда вошли его лекции и несколько стихотворений. Основным занятием его в ту пору было, кажется, нырять в одежде с парохода на потеху пассажирам, а затем плыть к берегу. Последний раз его видели в Японии.
В Тифлисе Каменский издал в 1916 году свой первый большой (140 страниц) поэтический сборник «Девушки босиком». Двадцать стихотворений из него уже публиковались порознь, а в новых читатель находил те же заимствования из фольклора и речи детей, азиатскую экзотику, неологизмы и звукоподражания. Иной раз Каменский экспериментирует с языком — сочиняет, например, стихи с однокоренными словами в духе Хлебникова и одностроки без пробелов между словами. Часть стихотворений тематически связана с поездкой по Кавказу: пейзажи, тосты, воспоминания о случайных знакомых. Вирши в манере Игоря-Северянина тоже налицо.
Ещё одно изданное до революции сочинение Каменского — «Книга о Евреинове» (Петроград, 1917), написанная, по его словам, на заказ. Жизнь Евреинова и его взгляды на театр поданы столь восторженно, что самому Евреинову наверняка было неловко это читать.81![]()
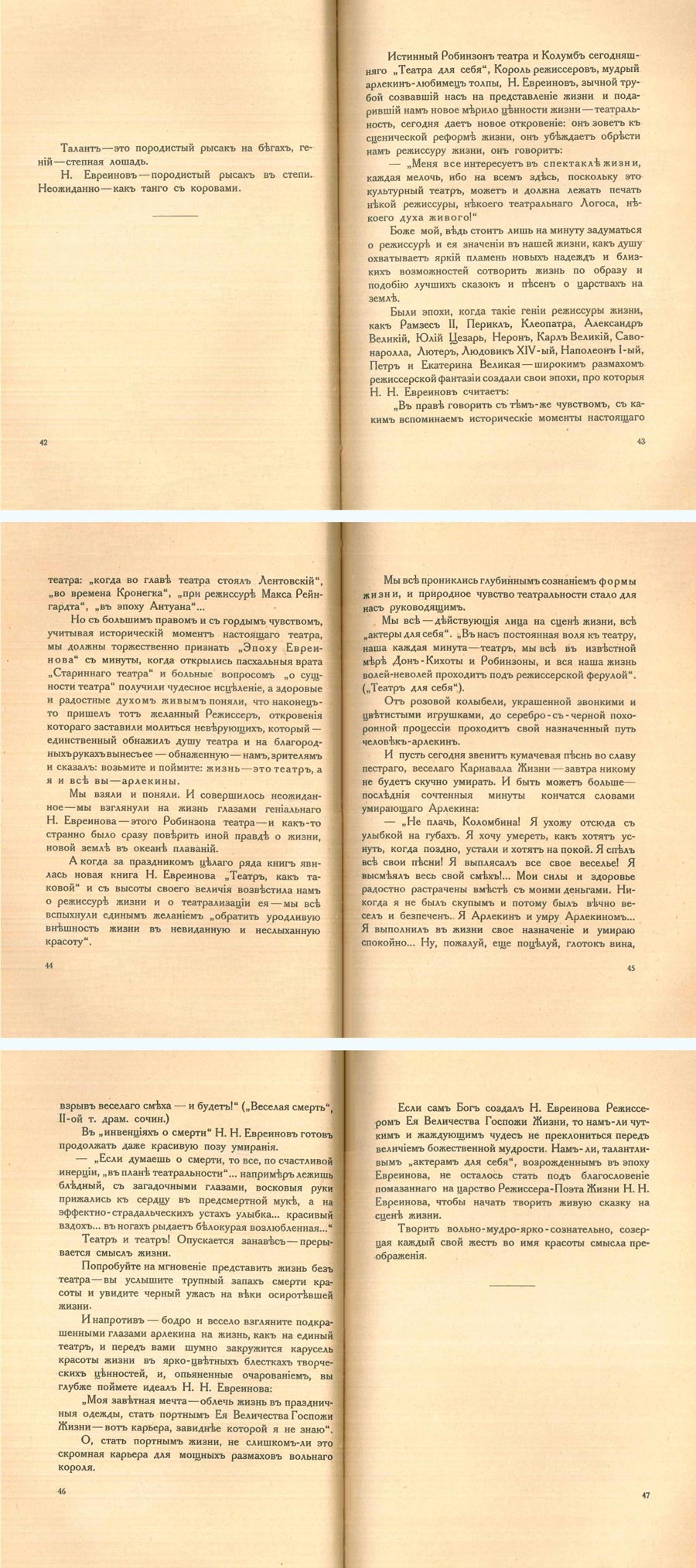

В период между двумя революциями Каменскому повезло больше, чем его приятелям. Вернувшись с Кавказа в Москву, он уверовал в доктрину анархистов и обрёл покровительницу в лице жены московского булочника-миллионера Филиппова. Её деньги позволили Каменскому поддержать Хлебникова, Маяковского и Бурлюка в голодные революционные месяцы и даже организовать издательство «Китоврас» (имя мудрого чудовища из средневековой легенды, которое движется только вперёд, невзирая на все преграды). На двух книгах Каменского, появившихся в Москве в 1918 году, стоит издательская марка «Китоврас». «Его-моя биография великого футуриста» с посвящением П.Е. Филипповой — книга воспоминаний и теоретических статей — содержит семь (по дням недели) предисловий, три портрета автора и портрет его родителей. Местами книга прелюбопытна: Каменский, по своему обыкновению, искажает факты,82![]()
В «Его-моей биографии великого футуриста» Каменский проповедует самоутверждение личности, считает возможным уничтожение книг в будущем и отвергает политическую свободу во имя свободы духовной. В сущности, его представлениям о поэте не менее ста лет, а заимствованы они (возможно, невольно) целиком и полностью у Пушкина.

Почти одновременно с автобиографией вышел в свет сборник стихов Каменского «Звучаль веснянки», в который он включил более двадцати уже изданных стихотворений. Тема радостной встречи революции сменяется религиозными мотивами, а показное экспериментаторство (математические символы, истолкование смысла отдельных букв) тонет в потоке отнюдь не авангардистских виршей, где он прославляет себя, возлюбленных и приятелей; словом, Игоря-Северянина хоть отбавляй. Здесь же поэтический “декрет” Каменского, предписывающий писать стихи на заборах, расписывать стены домов и тротуары, музицировать на балконах и иными способами воспевать революцию духа. Всего любопытнее другое: в первозданном виде напечатана громадная поэма о Разине «Сердце народное Стенька Разин». Перед нами первое поползновение Каменского к неограниченной эксплуатации темы Разина; тем не менее, это безусловная художественная удача, хотя по большей части (60 вставок) поэма состоит из песен и стихотворений, уже известных по роману.
Простейший акт их вычленения подвергает сомнению ценность прозы Каменского: роман держится исключительно этими варварски мощными миниатюрами. Вскоре поэма была издана отдельной книгой. Позже Каменский переименовал Стеньку в Степана и переписал, местами сократив; поэма выходила отдельно и в сборниках (1927, 1932, 1939, 1948 и 1961 гг.). Первоначальный вариант во всех отношениях лучший, переделки ему во вред: совершенно исчез привкус анархии, красочность зауми уже не та, трактовка Разина более “корректная”, т.е. приближена к официальной.
Деньги Филиппова помогли Каменскому и Гольцшмидту открыть в Москве футуристское «Кафе поэтов», в котором они вместе с Маяковским и Бурлюком выступали с чтением стихов перед дельцами чёрного рынка, анархистами и чекистами. Вскоре после Октябрьской революции вся собственность Филиппова, несмотря на его левые симпатии, была экспроприирована большевиками. Каменский быстро сообразил, что поддерживать анархистов уже опасно, и переметнулся на сторону коммунистов. В 1919 году в Ялте белые даже посадили его в тюрьму, о чём он впоследствии с гордостью вспоминал. Каменский жил то в Москве, то в сельской местности близ Перми и много ездил по России с докладами и чтением стихов. Его стихи нравились Ленину. С 1923 по 1925 год поэт входил в возглавляемую Маяковским группу ЛЕФ, баловался иногда заумью, за что его критиковали,83![]()
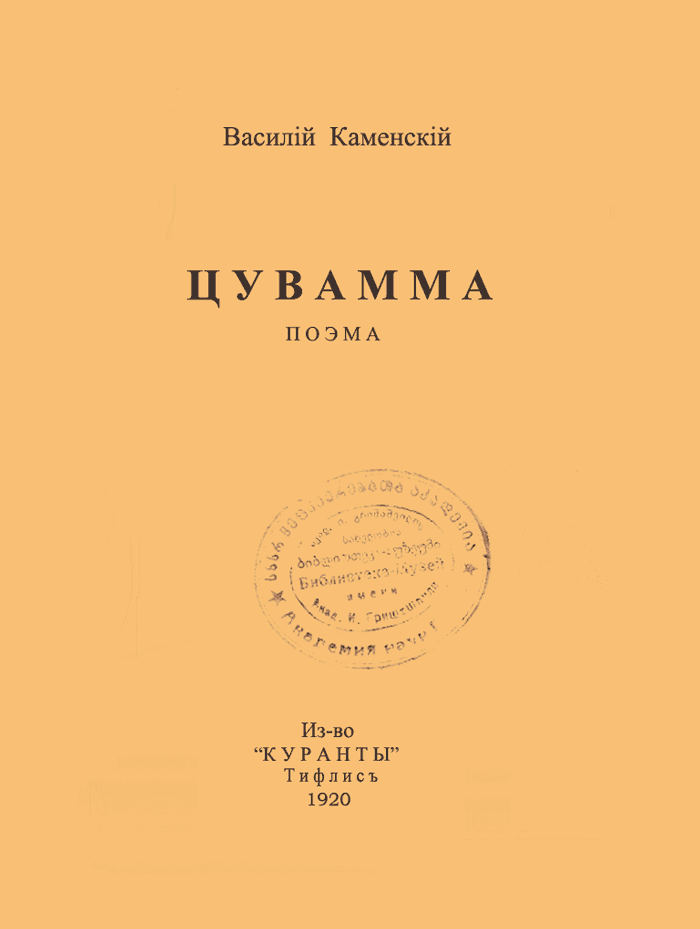 В общей сложности, Каменскому удалось издать около двадцати пяти книг, хотя могло быть и больше: „Томов 10 у меня ещё не напечатано,” — пишет он Бурлюку в США (1932).84
В общей сложности, Каменскому удалось издать около двадцати пяти книг, хотя могло быть и больше: „Томов 10 у меня ещё не напечатано,” — пишет он Бурлюку в США (1932).84![]()
В советское время Каменский писал много и неровно. Роман «Стенька Разин» он переделал в пьесу, которую издал в нескольких вариантах85![]()
![]()
Помимо поэмы о Разине, Каменский написал две огромные исторические поэмы про бунтарей, вошедших в советский пантеон. Поэма «Емельян Пугачёв» увидела в свет в 1931 году, хотя уже шесть лет назад поэт обращался к этой теме в драматургии. Спустя восемь лет поэма была положена в основу либретто для оратории, а потом и оперы. В «Емельяне Пугачёве» есть такие же сильные и впечатляющие страницы, как и в других произведениях Каменского. Это поэзия насилия и бунта, нечто вроде „крикогубого” фольклора в духе Маяковского и Хлебникова, но в целом поэма слишком затянута. Вслед за ней (1934) появилась поэма «Иван Болотников», в этом смысле неудачная вдвойне.
Каменский был мемуаристом по призванию, к тому же деятельным. В книге «Путь энтузиаста» (Москва, 1931) он вспоминает первые годы футуризма, а потом использует тот же материал в «Жизни с Маяковским» (Москва, 1940), особо выделяя в ней Маяковского; это одна из многих книг, вышедших к десятилетию со его дня смерти.87![]()
![]()
В конце концов Каменский стал образцовым советским поэтом и старательно вписывался в извивы официальной политики: писал стихи про индустриализацию, строительство электростанций, коллективизацию сельского хозяйства, славил пятилетки, ругал религию и Церковь. Выслуживаясь, он прибегал к примитивному, показному энтузиазму: некоторые его стихи — самые восторженные произведения советской литературы. Поразительные образцы раболепия перед Сталиным — сборник «Родина счастья» (1938) и многословный “роман в стихах” «Могущество» (1939), написанные в разгар чисток и прославляющие счастье и вечную молодость советского народа. В одном стихотворении сборника Каменский восклицает: „Мне двадцать лет! Вам двадцать лет! Всем только двадцать лет!” (ему исполнилось в это время пятьдесят три).89![]()
![]()
В 1966 году его стихотворный сборник (включая несколько футуристских стихотворений) появился в знаменитой серии «Библиотека поэта». В обильной поэтической продукции Каменского после книги «Звучаль веснянки» трудно найти что-либо действительно ценное или новое, не считая нескольких страниц из исторических поэм и отдельные стихотворения (например, фонетический шедевр «Каторжная таёжная», впервые опубликованный в журнале «ЛЕФ», а потом вошедший в переиздания романа и поэмы о Разине, или стихотворение «Охотничий марш» с его невероятной ритмической мощью). Когда самоповтор сделался привычкой, охота и рыбалка заполонили стихи Каменского. Вероятно, окончательный приговор творчеству Каменского таков: немногие элементы своей подлинной оригинальности он утопил в потоке произведений, которые печатал без всякого разбора. Возможно, Каменский был поэтом лишь по темпераменту, а поэзия этого колоритнейшего экстраверта питалась или его неиссякаемым жизнелюбием, или девственной природой Урала.
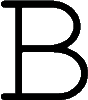 годы войны Кручёных добавил ещё четыре публикации к лично своему — и без того впечатляющему — списку изданий, ныне именуемых “фуристическая книга”. Пожалуй, дичайший образчик таковой — «Заумная гнига» (1916); уже в названии умышленная опечатка вызывает неприятные ассоциации со словами ‘гнилой’ и ‘гнида’. На обложку приклеен большой туз червей с пришитой на него белой пуговицей. Едва ли не половину книги занимают гравюры карточных фигур О. Розановой (валеты, дамы, короли); цвета их ни разу не повторяются. Страницы с иллюстрациями перемежаются заумными стихами и надписями. В книге царит продуманный беспорядок и преднамеренная бестолочь. Страницы разного размера, цвета и фактуры; изображения и тексты иной раз вверх тормашками. Слова написаны от руки или оттиснуты наборным штампом; иногда они заполняют всю страницу, иногда бумага почти пустует.
годы войны Кручёных добавил ещё четыре публикации к лично своему — и без того впечатляющему — списку изданий, ныне именуемых “фуристическая книга”. Пожалуй, дичайший образчик таковой — «Заумная гнига» (1916); уже в названии умышленная опечатка вызывает неприятные ассоциации со словами ‘гнилой’ и ‘гнида’. На обложку приклеен большой туз червей с пришитой на него белой пуговицей. Едва ли не половину книги занимают гравюры карточных фигур О. Розановой (валеты, дамы, короли); цвета их ни разу не повторяются. Страницы с иллюстрациями перемежаются заумными стихами и надписями. В книге царит продуманный беспорядок и преднамеренная бестолочь. Страницы разного размера, цвета и фактуры; изображения и тексты иной раз вверх тормашками. Слова написаны от руки или оттиснуты наборным штампом; иногда они заполняют всю страницу, иногда бумага почти пустует. 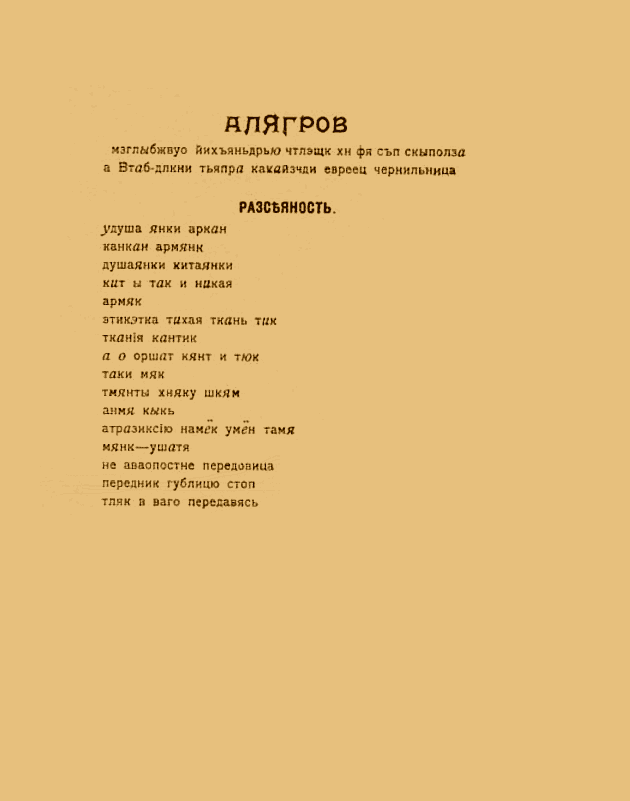 Последняя страница отдана заумной поэзии некоего Алягрова. Это смесь слов как они есть, их частей, их искажений, неологизмов и отдельно стоящих букв. Ударение в слове обозначено гласной, набранной курсивом. Заметна тенденция к внутренней рифме и необычным сочетаниям букв. В целом, заумь Алягрова оригинальна и интересна; к сожалению, этот дебют оказался его первым и последним выступлением в качестве заумника.91
Последняя страница отдана заумной поэзии некоего Алягрова. Это смесь слов как они есть, их частей, их искажений, неологизмов и отдельно стоящих букв. Ударение в слове обозначено гласной, набранной курсивом. Заметна тенденция к внутренней рифме и необычным сочетаниям букв. В целом, заумь Алягрова оригинальна и интересна; к сожалению, этот дебют оказался его первым и последним выступлением в качестве заумника.91Тогда же, в 1916 году, и тоже в Москве состоялась вторая полномасштабная попытка Кручёных вмешаться в литературную полемику: напечатанные обычным типографским способом «Тайные пороки академиков».92![]()
![]()
В сотрудничестве с Ольгой Розановой Кручёных издал две книги, главной темой которых была война: «Война» (1915), содержащая „цветную резьбу”, и «Вселенская война» (1916). На обложке последней стоит большой твёрдый знак, на двенадцати из четырнадцати страниц наклеены разноцветные геометрические фигуры, а на первых двух помещены стихи Кручёных. В коротком предисловии он пишет о заумном языке, который пожимает руку заумной живописи и призывает к „ярой беспредметности” (попутно критикуя „мало говорящее” название супрематизм). Кручёных озаглавил каждую из фигур, а всем вместе дал название «Вселенская война». Подписи к цветным наклейкам («Битва Будетлянина с Океаном», «Германия в задоре», «Битва Индии с Европой», «Разрушение садов» и тому подобное) нередко сопровождаются заумными стихотворениями в виде столбца слов, демонстрирующих склонность автора к сильным и смачным выражениям. В качестве примера приведём словесное соответствие наклейке «Битва Индии с Европой»:
Подобно Каменскому, Кручёных удалось избежать призыва: в 1915 году „предпочёл скромнёхонько удалиться на Кавказ”.94![]()
Закавказье, и в первую очередь столица Грузии Тифлис, куда Кручёных, как он колоритно выразился, „докатился”,95![]()
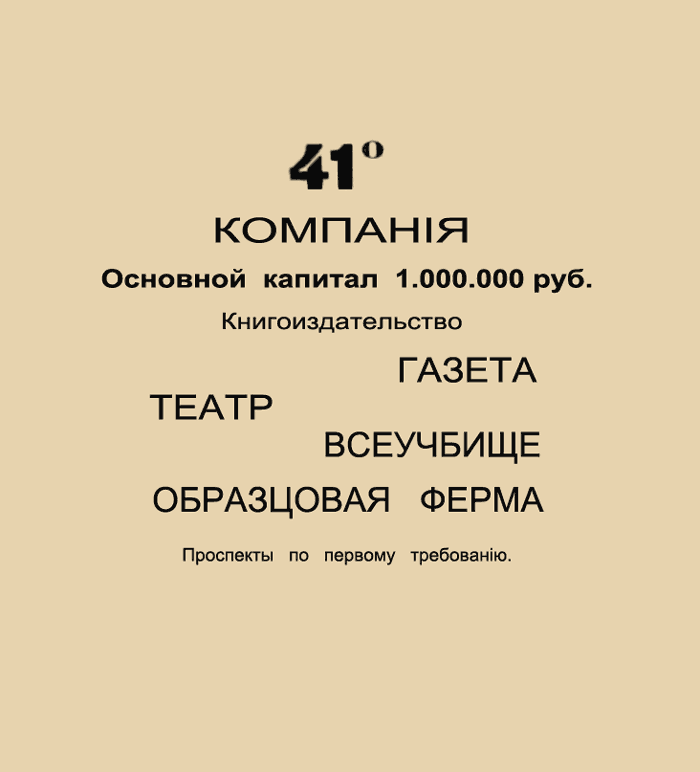 В Грузии власть от представителей Временного правительства перешла к меньшевикам; иностранные (германские и английские) оккупационные войска тоже сыграли свою роль. Политические и военные события почти не касались жизни обывателя: ужасы гражданской войны были где-то далеко. Спасаясь от них, многие писатели и поэты находили временное пристанище в Тифлисе. Здесь были представлены все поэтические направления: от символиста Бальмонта до акмеиста Сергея Городецкого, организовавшего тифлисский «Цех поэтов» (С. Рафалович, В. Эльснер и др.),96
В Грузии власть от представителей Временного правительства перешла к меньшевикам; иностранные (германские и английские) оккупационные войска тоже сыграли свою роль. Политические и военные события почти не касались жизни обывателя: ужасы гражданской войны были где-то далеко. Спасаясь от них, многие писатели и поэты находили временное пристанище в Тифлисе. Здесь были представлены все поэтические направления: от символиста Бальмонта до акмеиста Сергея Городецкого, организовавшего тифлисский «Цех поэтов» (С. Рафалович, В. Эльснер и др.),96![]()
Особенно плодородную почву футуризм нашёл в Тифлисе. Наиболее значительные грузинские поэты (Паоло Яшвили, Тициан Табидзе) считали себя футуристами и организовали свою группу «Голубые роги»; были футуристы и среди армян (Кара-Дарвиш). Турне Каменский-Гольцшмидт подогрело их интерес к русскому футуризму. Как раз в это время сюда перебрался Кручёных, и в 1917 году двое беглых гилейцев издали совместный сборник. Вскоре, однако, Каменский вернулся в Россию. Здесь же с 1919 года проживал ещё один русский футурист — Рюрик Ивнев, но он держался наособицу и в футуристских сходках почти не участвовал. Центром этих мероприятий был ночной клуб «Фантастический кабачок», где устраивались шумные сборища. Выступали с докладами и читали свои стихи Кручёных, Илья Зданевич (некогда всёк и соратник Ларионова), его брат Кирилл Зданевич (художник) и Игорь Терентьев; они же организовали группу под названием 41°. Ей местный футуризм не ограничивался. Выходил, например (впрочем, недолго), журнал «Феникс», издаваемый футуристом Юрием Дегеном, который в рядах 41° не состоял. Позже он был казнён красными за участие в “контрреволюционной” организации.97![]()
За вычетом кратковременных отъездов, Кручёных провёл в Тифлисе около трёх лет. Сразу после прибытия он занял здесь руководящее положение и развернул бурную издательскую деятельность. Если верить его автобиблиографии,98![]()
![]()
Название 41° до сих пор не объяснено.100![]()
12 ноября 1917 года, ещё до того, как объединение обрело имя, его деятельность началась докладами о заумном языке Кручёных и Зданевича. Затем последовал ряд выступлений с чтением стихов и лекций. Сам Кручёных впоследствии признался,102![]()
![]()
Выступления проходили раз в неделю, большинство из них — начиная с января 1918 года — в «Фантастическом кабачке». Лекции, естественно, посвящены футуризму (в частности, зауми), собственным поэтическим произведениям, творчеству товарищей и нападкам на прошляков (попасть в таковые мог кто угодно — от Тютчева до Брюсова).
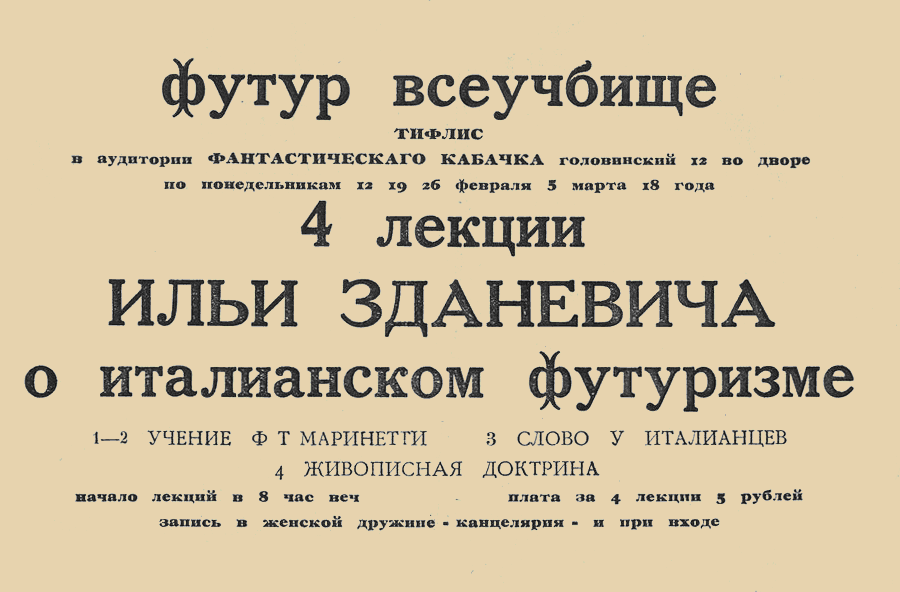
Над этой суетой и суматохой возвышался Кручёных — центральная фигура, если не воплощение футуризма. У него буквально выросли крылья: впервые за много лет он оказался лидером. Результат поражает: Кручёных созрел на Кавказе как теоретик, а его последующие московские издания — перепевы тифлисских. В будущем он лишь повторял и разжёвывал то, к чему пришёл вдали от столицы. Подробно рассмотреть каждую футуристскую книгу Кручёных этого периода невозможно: их слишком много, к тому же в большинстве своём они недоступны. По этой причине мы рассмотрим их как единое целое.
Что касается характера изданий, то Кручёных продолжал делать то же, что и раньше: книгу без руля и без ветрил. Бóльшую часть её могли занимать авангардистские иллюстрации.

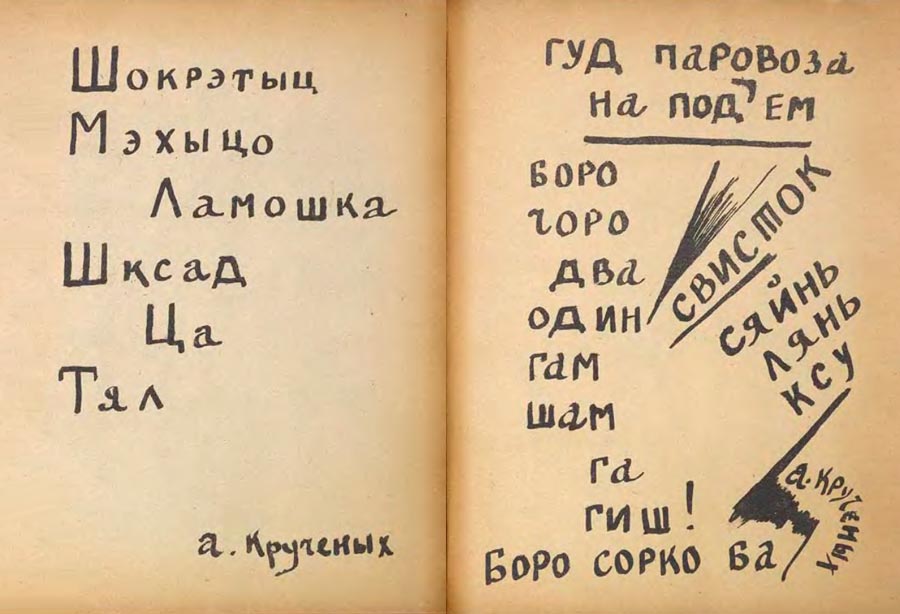

Некоторые книги разнообразят прежние наработки: значительная часть «Малохолии в капоте» (1919)105![]()


Книги Кручёных, в зависимости от их содержания, поддаются классификации. Одни целиком состоят из стихов или критических разборов (или то и другое вместе), другие суть коллективные публикации, нередко без указания этого на обложке. В прошлом Кручёных работал подобным образом с Хлебниковым и художниками-модернистами, которые выступали не только иллюстраторами, но и авторами статей (см. «Тайные пороки академиков»). В Тифлисе с Кручёных часто сотрудничал Терентьев; ему, например, принадлежат все примечания и комментарии к стихам Кручёных в «Лакированном трико», расположенные там, где обычно находится подзаголовок к названию. Когда Кручёных переиздал стихотворения в Москве, примечания были сняты. Книга «Ожирение роз» (1918) принадлежит Терентьеву в не меньшей степени, чем Кручёных, но его имени на обложке нет. Книга начинается с бойкого разбора Кручёных поэзии Терентьева, после чего идёт нечто вроде платоновского диалога двух поэтов. Затем несколько поэтических произведений Терентьева; сам Кручёных представлен всего одним стихотворением и отрывком из пьесы, написанной заумью.
С этого времени книги Кручёных включали в себя всё что угодно; типичное издание состояло из предисловия (собственного или другого автора), манифеста, перепечатки старой статьи (иногда с незначительными изменениями), одной или нескольких новых статей с подробным разбором собственных стихов и стихов своих товарищей (доброжелательным) или символистов и Пушкина (недоброжелательным). Статьи могли содержать полемику, отклик на последнюю рецензию, теоретические положения и определения, сведения по истории футуризма, письма от друзей, статьи других авторов (напечатанные частично или полностью). В этой же книге можно найти несколько стихотворений Кручёных (новых или старых, в первоначальном виде или переработанных) и его соратников — и так далее, причём всё это располагалось произвольным образом. Кручёных нередко великодушно разъяснял в статьях свои стихи, которые иначе вряд ли были бы понятны потомкам; краеугольными камнями его эстетики являются сдвиг, фактура и заумь.
О фактуре Кручёных впервые заговорил, по-видимому, в 1919 году («Замауль»); в целом это была попытка ввести в литературу понятие, прилагаемое Давидом Бурлюком к живописи (см. «Пощёчину общественному вкусу»): он обозначал таковым богатую и разнообразную живописную поверхность. Этот предмет вчерне разработан в «Миллиорке», после чего в 1923 году в Москве появилась декларация в виде брошюры «Фактура слова». Кручёных подробно перечисляет разные виды звуковой фактуры: лёгкая, нежная, тяжёлая, грубая, резкая, глухая, сухая, влажная. Естественно, симпатии его — на стороне шероховатых фактурных эффектов: он утверждал, что после длительного господства „сладкогласия” необходимо поощрять „горькогласие” и даже „злогласие”, подкрепляя это примером своего знаменитого дыр бул щыл. Помимо словесной фактуры, Кручёных различает слоговую, ритмическую, смысловую, синтаксическую, а также фактуру начертания, раскраски и чтения. Любимым согласным звуком Кручёных был з, который он считал злым и пронзительным, охотно насыщал им свои стихи, нередко вместо “законных” согласных, как, например, в книге «Зудесник» (Москва, 1922). В конце концов, Кручёных изощрил своё чувство фактуры до умения образно выразить невообразимое (см. его анализ стихотворной строки Маяковского, в которой он видит переход „от глухого бу через увлажнённое брю к звонкому бей-эй!”).107![]()
Одно частное наблюдение в области словесной фактуры превратилось в его любимое занятие,
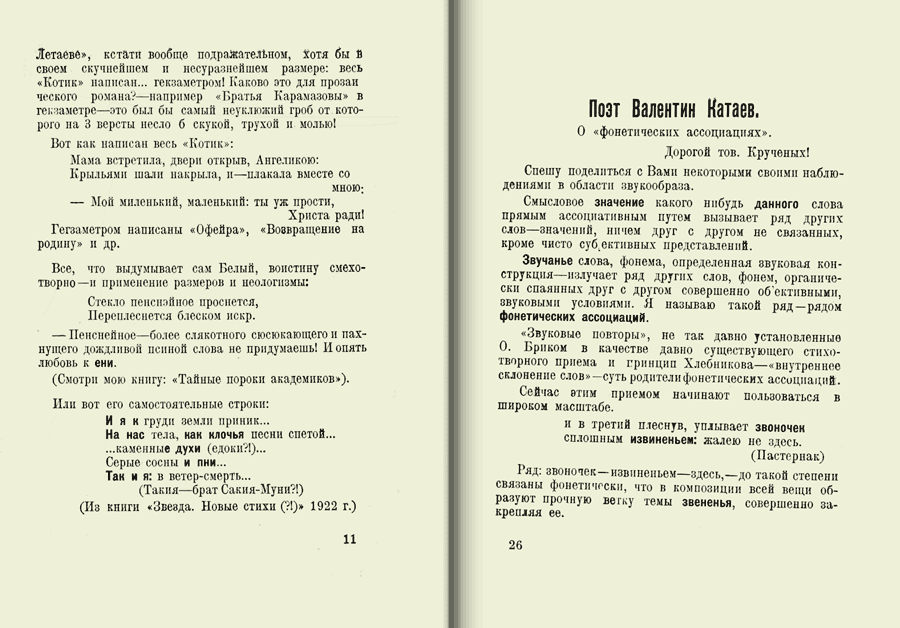
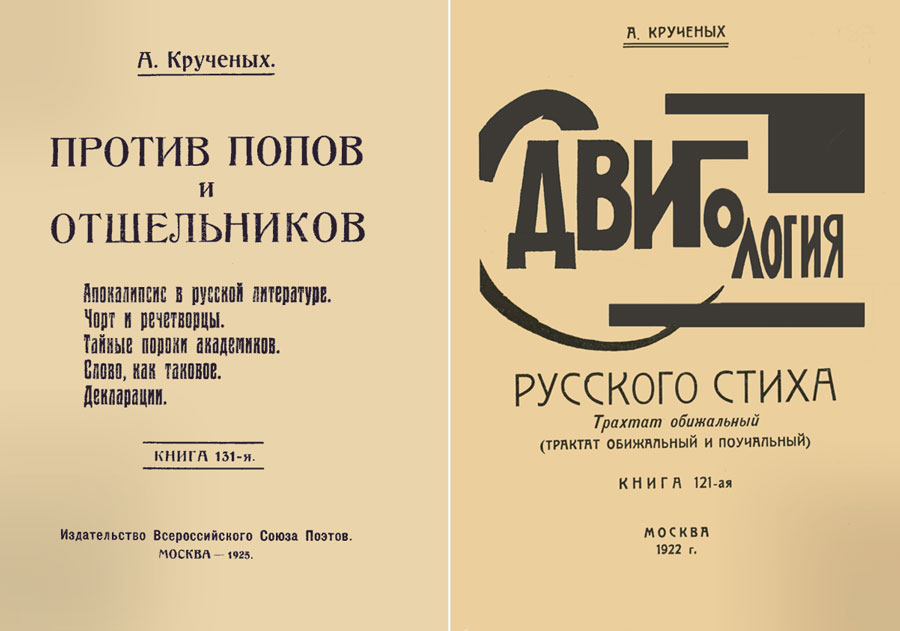
Кручёных легко обвинить в чём угодно, от наличия грязных мыслей до лингвистического невежества, однако его высокоумным опппонентам (Вышеславцева, Шор)111![]()
![]()
![]()
Самый замечательный, хотя и не единственный вклад Кручёных в поэтическую теорию и практику — проповедь и разработка заумного языка. Как уже говорилось, в декабре 1912 года он сочинил первое заумное стихотворение, в январе 1913 года опубликовал его, а в апреле 1913 года впервые использовал в манифесте понятие заумь. На Кавказе заумь стала средоточием его интереса и краеугольным камнем деятельности группы 41°. О сущности и разновидностях зауми можно написать целую книгу. Предмет очень сложен, и Кручёных своими противоречиями и неточностями внёс в его понимание изрядную путаницу. Однако было бы ошибкой употреблять это слово в бранном смысле или обозначать им нечто невразумительное: даже словари определяют порой заумь как „тарабарщину” или „бессмыслицу”, а прилагательным заумный филологи зачастую пользуются, когда плохо понимают то или иное стихотворение.114![]()
Ранние футуристы пытались пересмотреть понятие поэтического языка посредством словотворчества, подчёркивая в области теории понятие „самоценного слова” или „слова как такового”. Им оставалось сделать всего один шаг к созданию нового поэтического языка, в котором существующие фонемы создавали бы новые слова, по своей природе ни с чем не соотносимые и, тем не менее, выразительные и воспринимаемые „сами по себе” — примерно так же, как в абстрактной живописи воспринимаются линия и цвет. Удовольствие от непонятных слов испытывали задолго до футуристов — таковы, например, детские считалки; круг лиц, убеждёных в том, что звуки речи в неких сочетаниях и скоплениях способны воздействовать на писхику, футуристами отнюдь не ограничивается. Однако Кручёных и его соратники заявили, что такого рода слова суть основа, плоть и кровь поэзии и гарантируют её „освобождение”. Футуристам были дороги многие аспекты этой идеи. Заумь воспринималась ими как верхний предел поэзии, её крайнее и совершенно беспримесное выражение, когда звук создает смысл (или смыслы), а сам ему не подчиняется. Заумь с особой силой подчёркивает значение слова как художественного средства, а не как инструмента общения. Третьяков впоследствии писал:
Всё это было очень похоже на окончательную свободу; Игорь Терентьев говорил:
В 1921 году Кручёных сформулировал свои идеи во втором манифесте, опубликованном сначала в Баку, а затем вошедшем в различные издания как в полном, так и в сокращенном виде. Ниже приводится полный текст манифеста с моими комментариями (выделено цветом).
В зависимости от художественной задачи Кручёных делит заумь на три разновидности: „весёлую забаву”, сосредоточенность на фактуре стиха и проникновение в тайны поэзии и вселенной. Последний пункт свидетельствует о том, что заумники двигались по пути эстетического „тоталитаризма”, и как-то Игорь Терентьев написал, что „всякий поэт есть поэт заумный ”,121![]()
Кручёных упоминает самые разные аспекты зауми (акцент на неожиданном и необычном звучании, смешивание зауми с обычным языком и т.д.), но всё это требует специального исследования. Остановимся на одном из этих аспектов. Кручёных и большинство его соратников особое внимание уделяли эмоциональной стороне заумного языка. „При сильнейшей эмоции все слова — вдребезги! Не застывшая стихия говорит расплавленным языком — заумным”, — писал он. Третьяков также видел в зауми „язык чистых эмоций”. „При сильной эмоции, — продолжает Кручёных, — значение (понятие) слова не так уж и важно, оно даже забывается, человек в страсти путает слова, забывает их, говорит другие, коверкает, но эмоциональная сторона их при этом не нарушается (заумная часть)”. Тем не менее, в этой же книге («Фонетика театра», Москва, 1923) Кручёных резко снижает тон и весьма прозаически замечает, что в „заумном слове всегда есть части разных не-заумных слов (понятий, образов), дающих новый, “заумный” (не определённый точно) образ”.122![]()
Хлебниковское понимание зауми существенно отличается от выводов Кручёных, но порой они сближаются. Размышляя о природе языковых „молекул” (звуков речи и, в первую очередь, согласных) и памятуя об энергии слова, проявляющейся в заговорах и заклинаниях, Хлебников хотел приручить его энергию и превратить заумный язык в умный, но с одной важной особенностью. В отличие от обычных языков, заумный язык призван стать мировым языком понятий,123![]()
В 1921 году Кручёных писал о существовании в русской поэзии заумной школы, в которую, помимо четырёх членов группы 41°, входили такие авторитетные поэты, как Хлебников, Гуро и Каменский, и несколько человек помоложе (в основном художники): Малевич, Филонов, Алягров, Розанова, Варст, Хабиас, Вечорка.124![]()
![]()
Триумф Кручёных длился недолго: его школа просуществовала всего несколько лет. Поэт не принял во внимание слов Карла Маркса о том, что „название какой-либо вещи не имеет ничего общего с её природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом”.126![]()
![]()
На удивление мало зауми в самом большом по объёму поэтическом сборнике Кручёных «Лакированное трико» (около пятидесяти стихотворений), которому автор явно придавал особое значение, поскольку почти целиком перенёс в «Сдвигологию русского стиха», сопроводив отдельные стихи пояснениями. В целом книга разочаровывает. Кручёных-поэт доставляет удовольствие или стихами, содержащими малые дозы зауми, или крайними её проявлениями, а здесь он попросту скучен.  Тем не менее, «Лакированное трико» — отличная, хотя и односторонняя, иллюстрация кавказского периода творчества Кручёных и атмосферы, царившей в группе 41°. В одной из следующих книг Кручёных перечислил особенности футуризма: богатая звуковая инструментовка, яркие метафоры, разнообразие ритмических фигур, конструкция, основанная на сдвиге.128
Тем не менее, «Лакированное трико» — отличная, хотя и односторонняя, иллюстрация кавказского периода творчества Кручёных и атмосферы, царившей в группе 41°. В одной из следующих книг Кручёных перечислил особенности футуризма: богатая звуковая инструментовка, яркие метафоры, разнообразие ритмических фигур, конструкция, основанная на сдвиге.128![]()
«Лакированное трико» полно уже известной нам нарочитой грубостью. Здесь можно встретить такие выражения, как зуботычины созвучий, судорога тухлого яйца, чавкающий раз двадцать под поцелуем матрац и частые аллюзии на русские ругательства. Перевод классического наследия в антиэстетический план — неотъемлемая часть такого приёма; Кручёных не только презрительно называет богиню любви Афродиткой, но и сопровождает её эпитетом мокроносая; пена, из которой рождается богиня, становится пенкой и соседствует со словом слюна. Кручёных был убежден, что „все нелепости и кошмары сбываются в наши дни”,129![]()
![]()
Многие стихотворения сборника «Лакированное трико» вряд ли когда-либо удастся понять из-за содержащихся в них шуток и намёков личного характера. Своими комментариями, нередко тоже абсурдными, Терентьев и Кручёных здесь мало помогают. Упрёк в том, что его книга скучна, Кручёных вряд ли бы смутил, он давно положил за правило: посредственность — одна из компонент отрицания прошлого, наряду с уродливостью, хаотичностью и противоречивостью поэзии и критики. Терентьев хвалил стихи Кручёных как раз за то, что „в них ровно ничего не сказано, они великое ничтожество, абсолютный нуль”. Тот же Терентьев писал: „Он позволил себе все непозволительные поступки”.131![]()
На одной из страниц книги «Взорваль» (1913) Кручёных печатает две строки: „Забыл повеситься / Лечу к Америкам”. Впрочем, скромником он не был: любил огни рампы, обожал саморекламу, до жути похожую на современные методы Мэдисон-авеню. В Тифлисе (возможно, в шутку) был основан «Институт по изучению Кручёных», а в Баку в 1921 году появилась книга «Стихи вокруг Кручёных». Терентьев издал книгу «Кручёных грандиозарь» (Тифлис, 1919). И наконец, перебравшись в Москву, Кручёных выпустил сборник статей «Бука русской литературы» (Москва, 1923) о самом себе (в большинстве своём это тексты докладов на литературных вечерах в Тифлисе). Авторы статей — Сергей Третьяков, Давид Бурлюк, Татьяна Вечорка, Сергей Рафалович. В 1925 году, когда книга вышла вторым изданием под названием «Жив Кручёных!», авторский коллектив пополнился Борисом Пастернаком.
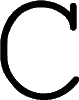 реди членов группы 41° выдающиеся художественные достижения, безусловно, принадлежат Илье Михайловичу Зданевичу (1894–1975). Он родился в Тифлисе в семье учителя французского языка, изучал юриспруденцию в Петербурге, жил в Москве и Париже. Мы уже упоминали о Зданевиче-“всёке”, авторе книги о Гончаровой и Ларионове и участнике встречи Маринетти в России; важнейший его вклад в футуризм — драматическая пенталогия („литерка дейстф”) „аслаабличья” — относится к более позднему периоду.
реди членов группы 41° выдающиеся художественные достижения, безусловно, принадлежат Илье Михайловичу Зданевичу (1894–1975). Он родился в Тифлисе в семье учителя французского языка, изучал юриспруденцию в Петербурге, жил в Москве и Париже. Мы уже упоминали о Зданевиче-“всёке”, авторе книги о Гончаровой и Ларионове и участнике встречи Маринетти в России; важнейший его вклад в футуризм — драматическая пенталогия („литерка дейстф”) „аслаабличья” — относится к более позднему периоду. 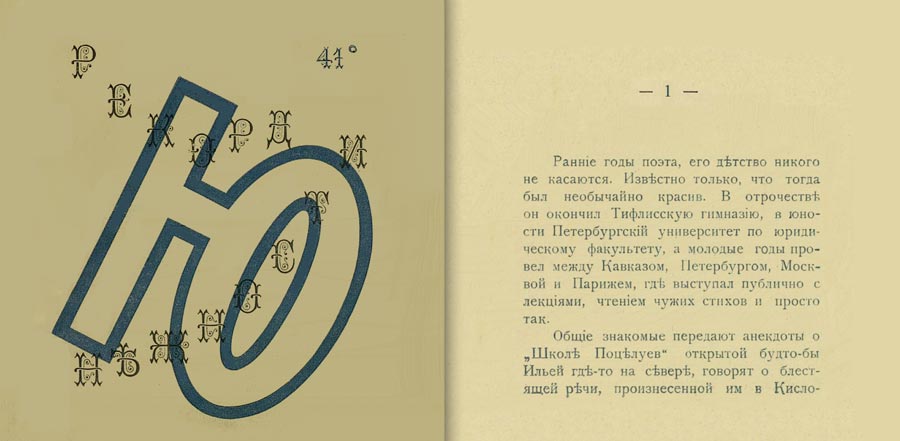
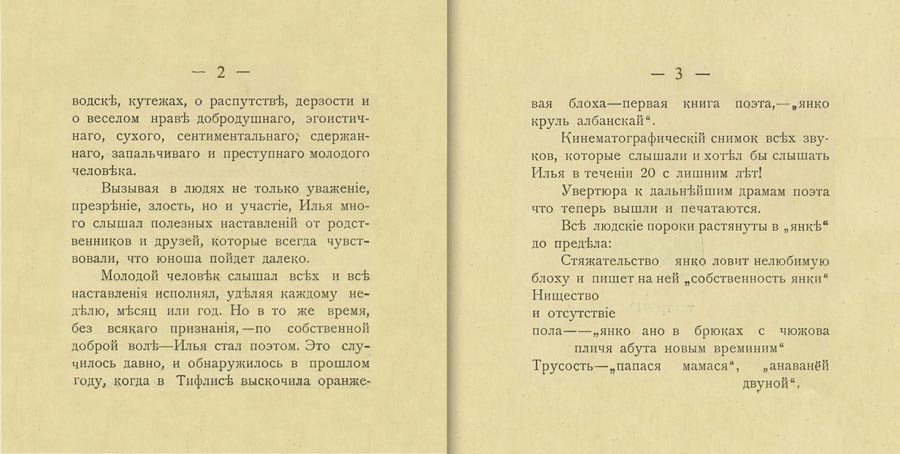
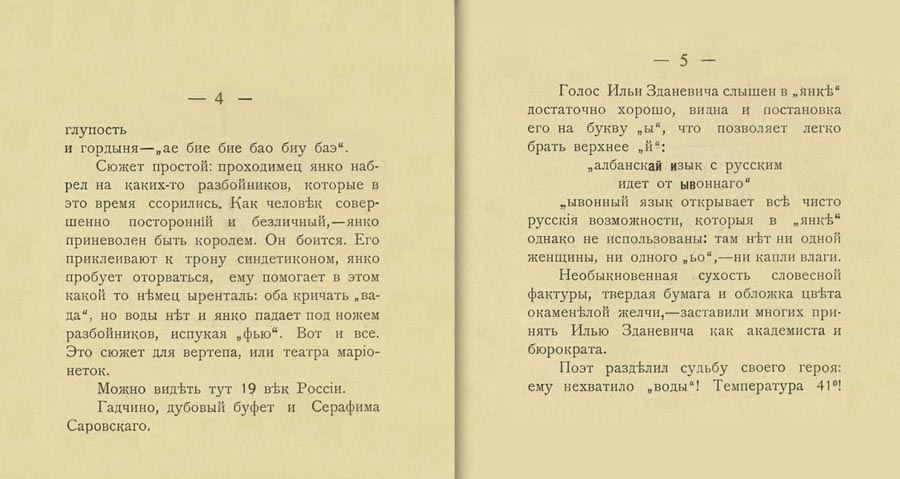
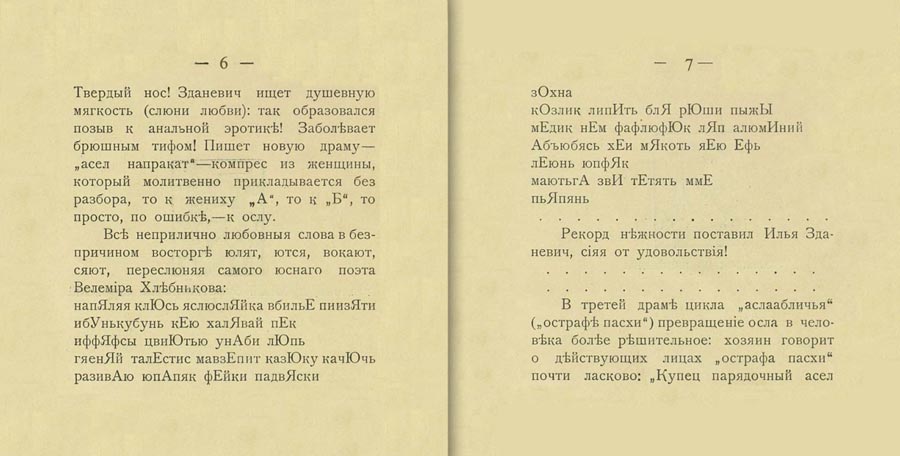
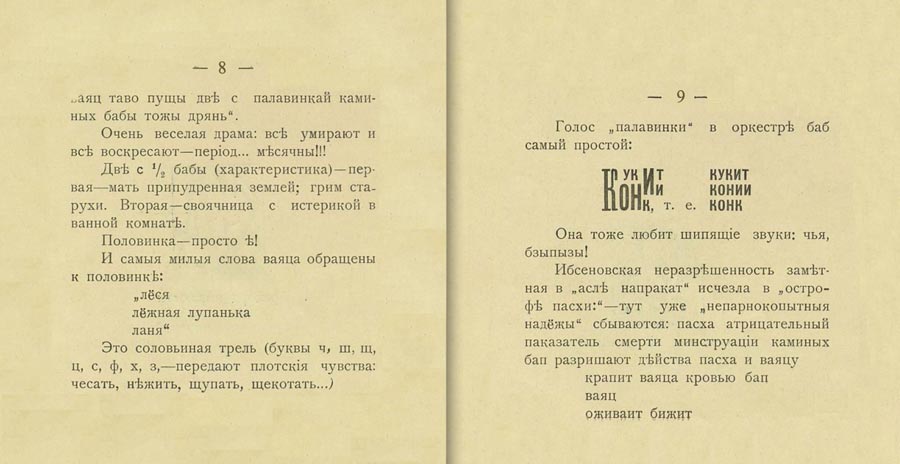
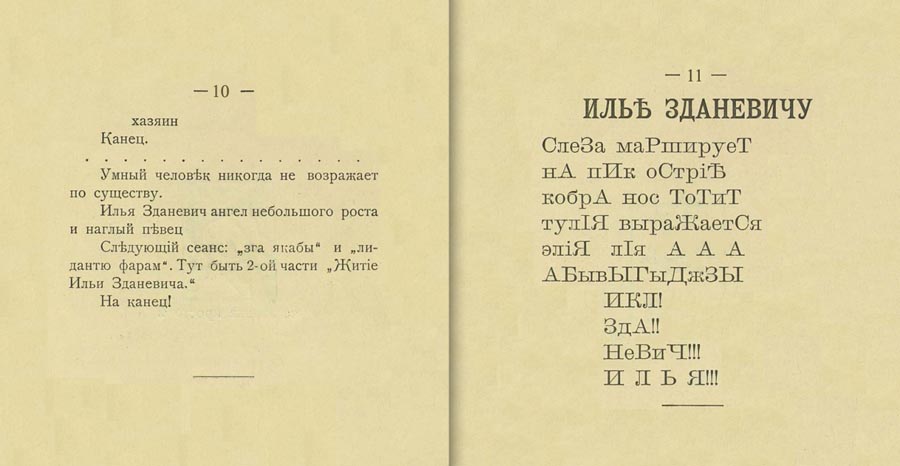
Первая „дра” была сочинена в 1916 году в Петрограде и напечатана в мае 1918 года в Тифлисе в издательстве «Синдикат» ещё до того, как группа 41° получила своё имя.133![]()
В этой „дра” преобладают ситуации комического абсурда. У одного из албанцев русское имя (брешкабрешкофскай); среди персонажей есть блоха, которая на протяжении всей пьесы не произносит ни слова, а также „свабодныи шкипидары” (согласно авторской ремарке, их играют зрители); немец говорит на языке, пародирующем немецкий. Самое смешное в пьесе — заумь.
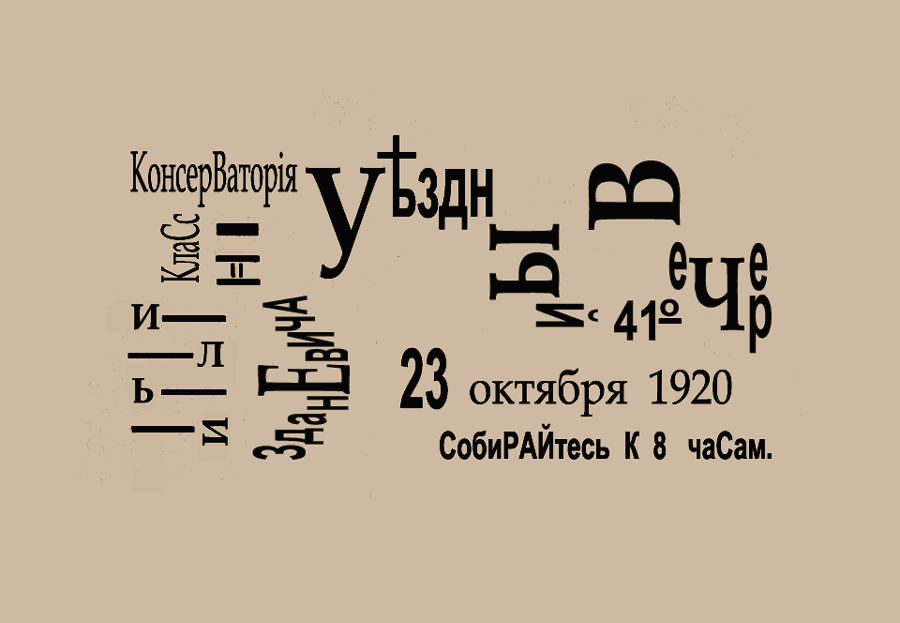
Следующая пьеса «асёл напрокат» сочинена в 1918 и напечатана в 1919 году134![]()
![]()
 Это самая короткая пьеса Зданевича, в ней всего четыре действующих лица: Зохна, два жениха (А и Б) и осёл, все реплики которого сводятся к крикам „и-a” в трио с женихами. По ходу пьесы один из женихов превращается в осла и тем самым становится неотразимым для Зохны, которая немедленно в него влюбляется. Женихи решают подменить оборотня настоящим ослом, и Зохна в подвенечном платье предаётся с ним нежностям. Жених А объясняет ей ситуацию, и Зохна предаётся нежностям с ним. После этого женихи исполняют дуэт и почему-то закалываются. „Дра” заканчивается тем, что Зохна оплакивает женихов.
Это самая короткая пьеса Зданевича, в ней всего четыре действующих лица: Зохна, два жениха (А и Б) и осёл, все реплики которого сводятся к крикам „и-a” в трио с женихами. По ходу пьесы один из женихов превращается в осла и тем самым становится неотразимым для Зохны, которая немедленно в него влюбляется. Женихи решают подменить оборотня настоящим ослом, и Зохна в подвенечном платье предаётся с ним нежностям. Жених А объясняет ей ситуацию, и Зохна предаётся нежностям с ним. После этого женихи исполняют дуэт и почему-то закалываются. „Дра” заканчивается тем, что Зохна оплакивает женихов.
Не вдаваясь в истолкование пьесы (вопреки заявлению Хозяина, что в ней что-нибудь да неспроста), можно указать на особенности, отличающие её от «Янко круль албанскай». Заумь в пьесе «асёл напрокат» носит явно выраженную восточную окраску. Оставаясь эксцентричным, текст пьесы гораздо легче произносится, даже если речь идёт о таких словесных монстрах, как „жавьюхалинипохаха”. В некоторых сценах автор пытается создать любовный язык: ласки выражены в нём уменьшительно-ласкательными суффиксами, йотированием и смягчением согласных. В дуэтах и трио Зданевич применяет метод, получивший развитие в его следующих произведениях. Совпадающие звуки, которые произносят и поют персонажи, он обозначает большими буквами, а остальные печатает в два или три этажа, создавая таким образом причудливые типографские фигуры. Зрительные приёмы нередко господствуют у него над звуковыми. Две иллюстрации к пьесе, изображающие главных героев, выполнены автором с использованием букв и напоминают композиции дадаистов.136![]()
Первой пьесой Зданевича, выпущенной под издательской маркой 41°, была «остраф пасхи»: по словам Терентьева, автор постарался избежать в ней „ибсеновской неразрешённости” предыдущей „дра”.137![]()
![]()
Следующая пьеса — единственная, к которой нет разъяснений ни автора, ни его друзей, что, конечно, ещё не значит, что её невозможно понять. «згА Якабы» — последняя „дра”, изданная Зданевичем в России (вновь в Тифлисе, в сентябре 1920 года). Она представляет собой новое направление в его творчестве, знаменующее отход от примитивистских принципов. Это классически уравновешенная пьеса на тему реальности и вымысла. Действия в ней мало, зато масса оттенков, в которых автор неожиданно раскрывается как сосредоточенный на своем внутреннем мире человек. Так и подмывает сказать, что «згА Якабы» занимает в творчестве Зданевича такое же место, какое в творчестве Расина занимает «Береника». «Зга» — редкое в русском языке слово, нечто среднее между ‘темнотой’ и ‘немного’; это имя главного героя, наделенного особенностями и мужского, и женского пола. Действие происходит между пробуждением Зги и его/её отходом ко сну. Зга смотрится в зеркало, и какое-то время кажется, что оно — единственный второй персонаж пьесы. Герой говорит на заумном языке, напоминающем русский язык больше, чем в других пьесах Зданевича, а речь Зеркала окрашена в восточный колорит. После того как Зеркало оживает и пляшет вместе с героем/героиней, появляется ещё один персонаж, Зга в Зеркале, который превращается затем в Згу Якобы, после чего возникает пятый персонаж, Зга Якобы в Зеркале. В конце концов Зеркало — источник всех коллизий — разбивается, Зга в Зеркале умирает, Зга Якобы становится Згой и засыпает. Один из самых интересных эпизодов пьесы — сцена гадания на картах с характерной цыганской атмосферой и использованием русских названий карт.
Издание «згА Якабы» демонстрирует возросший интерес автора к внешнему оформлению книги. Некоторые страницы Зданевич раскрасил и вставил между ними тонкую разноцветную (сиреневую, голубую, лиловую) кальку. Система записи слов стала ещё изощрённей: для указания на всевозможные фонетические тонкости использованы дополнительные знаки. Оба этих аспекта были развиты в последней пьесе пенталогии «лидантЮ фАрам», написанной, скорее всего, в России, но изданной в 1923 году в Париже.139![]()

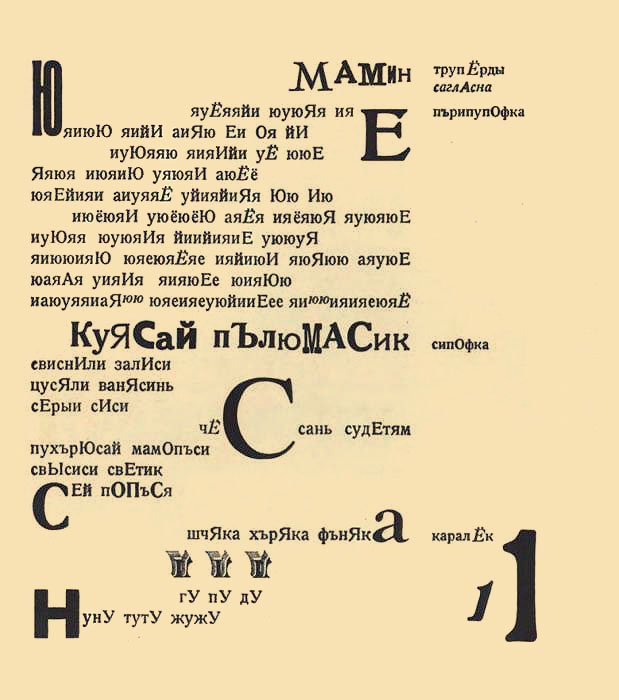 Книга подписана певдонимом Ильязд (соединение имени Илья с фамилией Зданевич), которое с тех пор осталось за автором навсегда. Пьеса посвящена памяти малоизвестного русского художника-авангардиста Михаила Ледантю (умер в 1917 году), героя этой „дра”.
Книга подписана певдонимом Ильязд (соединение имени Илья с фамилией Зданевич), которое с тех пор осталось за автором навсегда. Пьеса посвящена памяти малоизвестного русского художника-авангардиста Михаила Ледантю (умер в 1917 году), героя этой „дра”.«лидантЮ фАрам» — синтез всех прошлых тенденций и мотивов творчества Зданевича. Это насмешливая и сатирическая пьеса; как и в «згА Якабы», в ней исследуется природа реальности, на этот раз её отношение к искусству.
Оказавшись в Париже для организации выставки современного русского искусства, Зданевич почувствовал себя изгнанником. Новые указания из России погубили его проект выставки, и разочарованный Зданевич остался во Франции, где примкнул к дадаистам. Он написал заумное либретто балета, который собирался поставить (декорации должен был написать Матисс),140![]()
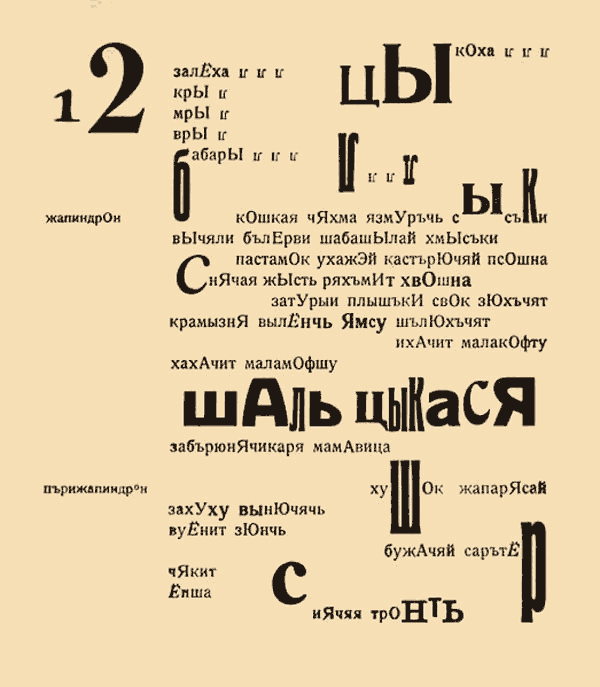 Эти сонеты, равно как и сборник написанных четырёхстопным ямбом катренов («Письмо», 1948), свидетельствуют об усиливающемся консерватизме Зданевича. Стихи сочинены не на зауми, а на русском литературном языке; это элегии, в которых оплакивается неразделённая любовь. Напечатаны они, впрочем, без знаков препинания и без соблюдения грамматических правил, их смысл размыт и не совсем понятен, в языке царит смешение стилей, романтические клише соседствуют с разговорными и архаическими словами, что вызывает эффект отчуждения. Сходное отчуждение возникает и при чтении романа Зданевича «Восхищение» (1930), на первый взгляд самого обычного приключенческого романа, действие которого происходит в воображаемой стране. Вскоре роман опознается как роман идей с руссоистскими акцентами, в нём то и дело возникает тема зауми. В 1949 году Зданевич опубликовал необычный труд под названием «Poésie de mots inconnus» — антологию зауми в произведениях европейских дадаистов и русских футуристов (русские слова приведены в ней латиницей). Среди русских авторов — не только члены группы 41°, но и поэт-эмигрант Борис Поплавский.141
Эти сонеты, равно как и сборник написанных четырёхстопным ямбом катренов («Письмо», 1948), свидетельствуют об усиливающемся консерватизме Зданевича. Стихи сочинены не на зауми, а на русском литературном языке; это элегии, в которых оплакивается неразделённая любовь. Напечатаны они, впрочем, без знаков препинания и без соблюдения грамматических правил, их смысл размыт и не совсем понятен, в языке царит смешение стилей, романтические клише соседствуют с разговорными и архаическими словами, что вызывает эффект отчуждения. Сходное отчуждение возникает и при чтении романа Зданевича «Восхищение» (1930), на первый взгляд самого обычного приключенческого романа, действие которого происходит в воображаемой стране. Вскоре роман опознается как роман идей с руссоистскими акцентами, в нём то и дело возникает тема зауми. В 1949 году Зданевич опубликовал необычный труд под названием «Poésie de mots inconnus» — антологию зауми в произведениях европейских дадаистов и русских футуристов (русские слова приведены в ней латиницей). Среди русских авторов — не только члены группы 41°, но и поэт-эмигрант Борис Поплавский.141![]()
В отличие от Кручёных и Терентьева, Зданевич свои теоретические работы не публиковал, однако в 1947 году известный дадаист Жорж Рибмон-Дессэнь написал шестистраничное предисловие на французском языке к пьесе Зданевича «лидантЮ фАрам». Помимо описания „дра” брошюра содержит рассуждения о зауми, скорее всего принадлежащие самому Зданевичу, и его историю русского футуризма, согласно которой он возник в 1912 году, а в 1914 его создатели раскололись на собственно футуристов и заумников из группы 41°. Заумный язык определяется как „язык, в котором слова и звукоподражания таковы, что они порождают несколько смыслов, соответствующих смежному звучанию”. Заумный язык возник на русской почве, но возможен в любом языке (впрочем, с куда более скромными результатами, поскольку русский язык — идеальное средство для зауми). В зауми, продолжает автор статьи, каждое слово обладает множеством более или менее явных смыслов разного порядка и уровня, конкретных и абстрактных, частных и общих. Читатель зауми открывает двери и окна в самого себя и даёт выход хранящимся в его памяти образам в соответствии со своей способностью вызывать эти образы. Его творческая роль, однако, так же ограничена, как и роль сочинителя зауми, поскольку у зауми с момента её возникновения хозяина нет. Возникают новые слова, „новые создания живут, подобно звёздам, и поют, словно страстные танцующие руки глухонемого”. Эти слова наделены разрушительной и саморазрушающей силой, соединяются и поглощают друг друга, несут в себе частицы эротизма и гордыни, разума и глупости.
Отношения Зданевича с дадаистами очень интересны,142![]()

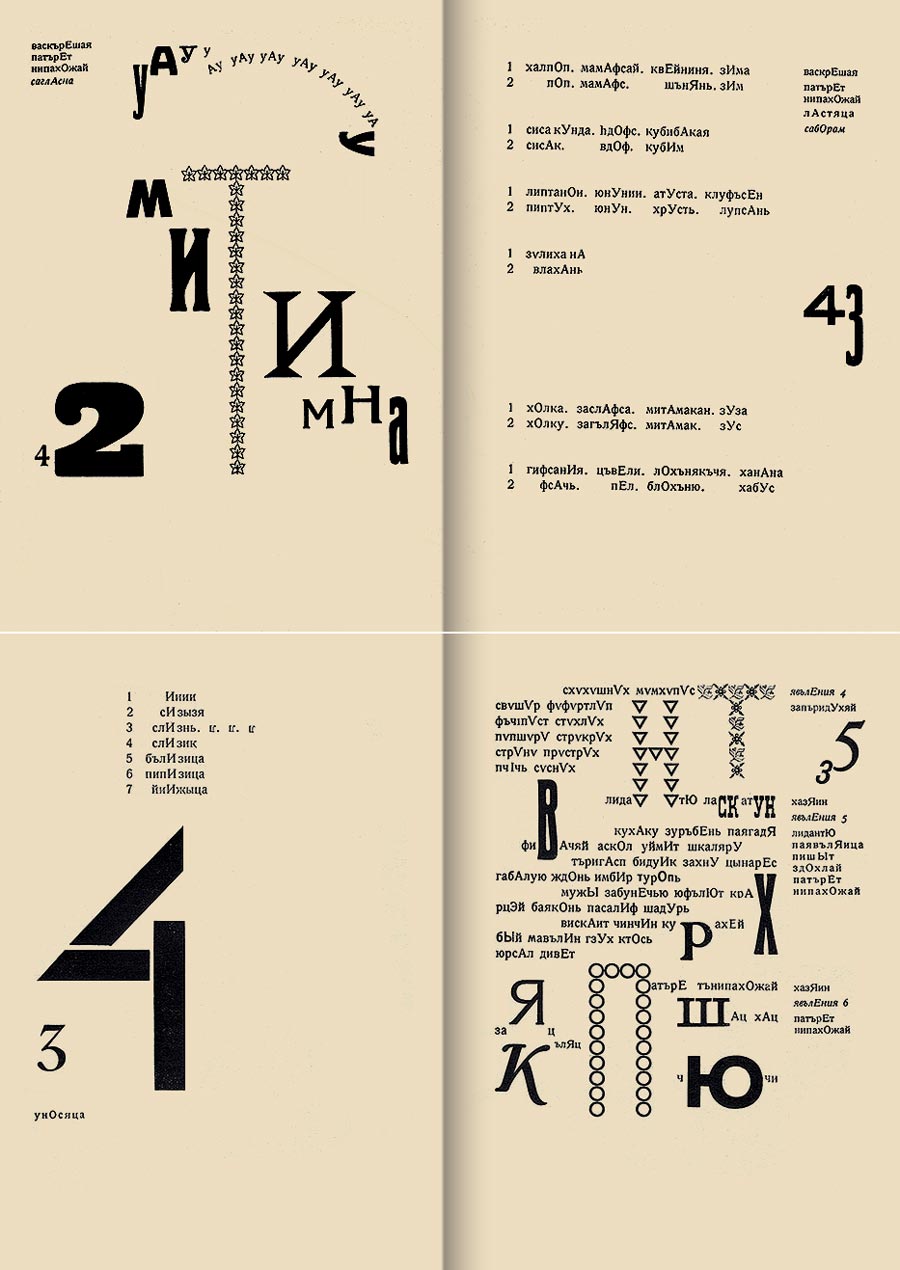
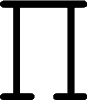 оэтическое творчество последнего члена трио 41° Игоря Герасимовича Терентьева (1892–1937) особого впечатления не производит, однако он заслуживает внимания как активный теоретик и воинствующий полемист. В своих поздних московских теоретических работах Кручёных немало заимствовал из трудов Терентьева (как известно, Терентьев плагиат одобрял).143
оэтическое творчество последнего члена трио 41° Игоря Герасимовича Терентьева (1892–1937) особого впечатления не производит, однако он заслуживает внимания как активный теоретик и воинствующий полемист. В своих поздних московских теоретических работах Кручёных немало заимствовал из трудов Терентьева (как известно, Терентьев плагиат одобрял).143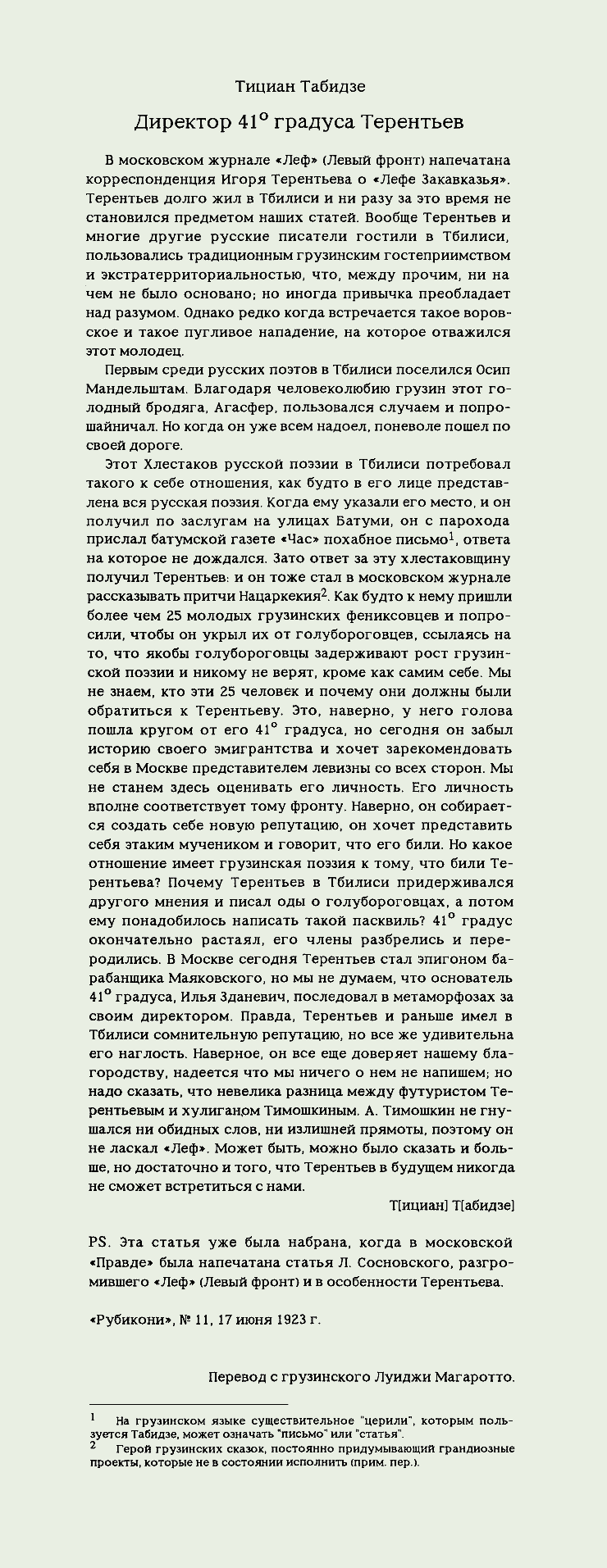 Терентьева о соратниках («Кручёных грандиозарь» и «Рекорд нежности»); в них же раскрываются его эстетические взгляды. С самого начала Терентьев был апостолом абсурда и апологетом агрессивной посредственности. Он очень высоко ценил Кручёных (которого воспел в стихах) за „голую чушь” его поэзии и хвалил “отца зауми” за то, что тот пребывает „вне стиля, вне всего, что заведомо хорошей марки, хотя бы футуристической”. Терентьев называл нелепость „единственным рычагом красоты, кочергой творчества, а заумь считал „подходом к иному, ещё большему вздору”. На некоторые идеи Терентьева проливают свет „запримечания” к сочинениям Кручёных, где можно наткнуться на такие указания: „читай скорее не думай” или „хотя не нравится, — читай — мучайся”.144
Терентьева о соратниках («Кручёных грандиозарь» и «Рекорд нежности»); в них же раскрываются его эстетические взгляды. С самого начала Терентьев был апостолом абсурда и апологетом агрессивной посредственности. Он очень высоко ценил Кручёных (которого воспел в стихах) за „голую чушь” его поэзии и хвалил “отца зауми” за то, что тот пребывает „вне стиля, вне всего, что заведомо хорошей марки, хотя бы футуристической”. Терентьев называл нелепость „единственным рычагом красоты, кочергой творчества, а заумь считал „подходом к иному, ещё большему вздору”. На некоторые идеи Терентьева проливают свет „запримечания” к сочинениям Кручёных, где можно наткнуться на такие указания: „читай скорее не думай” или „хотя не нравится, — читай — мучайся”.144Его первый изданный “трактат” называется «17 ерундовых орудий» (Тифлис, 1919) с категорическим заявлением на обложке „В книге опечаток нет” и начинается с апологии ошибок. Искусство, то есть нелепость, чепуха, голое чудо, появляется тогда, когда отсутствует диктатура ума. Главное — думать ухом, а не головой. Далее следует защита с самых радикальных позиций известного принципа русской формальной критики, согласно которому законы поэтического языка отличаются от законов практического языка как средства общения. Терентьев формулирует его в одной фразе: „Слова похожие по звуку имеют в поэзии похожий смысл” и иллюстрирует свою мысль восхитительными примерами из пушкинского «Евгения Онегина» и русских народных загадок, где звук живёт собственной жизнью и раскрывает истинный смысл произведения лучше, чем это делает “содержание”. Отсюда следует, что любой поэт является поэтом заумным, независимо от того, знает он об этом или нет, хочет этого или нет. Поэзия группы 41°, пишет Терентьев, может быть использована семью различными способами: это упражнение для голоса, материал для лингвиста, возможность случайного обретения новых слов, „отдых утомлённого мудреца”, „способ отмежеваться от прошляков, краткая новейшая теория стиха и удобрение языка” („заумь — гниение звука — лучшее условие для произрастания мысли”). Изложив любопытную неомаринеттиевскую теорию ритма, Терентьев высказывает в заключение свою любимую мысль о том, что группа 41° стоит на более высокой ступени авангарда, чем футуризм Маяковского, Хлебникова и Каменского. В другом месте («Кручёных грандиозарь») он сравнивает «Победу над солнцем» Кручёных с «Ошибкой Смерти» Хлебникова не в пользу последнего и презрительно упоминает Энциклопедический словарь как самое подходящее место для истории русского футуризма. Книга заканчивается восемнадцатью абсурдными и полуабсурдными советами (включая „семнадцать145![]()
Статья Терентьева «Маршрут шаризны» с заимствованным у Кручёных названием была опубликована последним в книге «Сдвигология русского стиха» (1923), но написана ещё в тифлисский период. Терентьев защищает в ней закон случайности в искусстве. Прямая линия — изобретение рассудка, тогда как поэзию всегда отличает склонность к „небрежной странности”. Поэзия постоянно прибегает к закону контраста, который мешает поэтам стрелять прямо в цель. Терентьев с усмешкой включает в эту традицию даже «Беременного мужчину» Давида Бурлюка. Он заявляет, что закон контраста с его очевидным сопоставлением или замещением безобразного прекрасным умер, а его место занял закон случайности или „маршрут шаризны”, который он разъясняет следующим образом: „вокруг земли под прямым углом к направлению творческой затеи дует ветер летаргии”. Попадание в цель возможно только при стрельбе в обратную сторону (наобум). В этом случае „снаряд должен облететь оба полушария, дважды сторонясь под ветром, и тогда описанная вокруг земли восьмерка ударится концом в цель”.
Самый выдающийся теоретический труд Терентьева — тщательно типографски оформленный (и в этом отношении соперничающий с «лидантЮ фАрам» Зданевича) «Трактат о сплошном неприличии», изданный, скорее всего, в 1920 году.
Слова и части слов набраны здесь особым, подчас очень причудливым шрифтом; некоторые буквы лежат на боку, кириллица перемешана с латиницей, типографски выделенные части слов порой напоминают бранные слова или совпадают с ними. «Трактат» написан в разговорной манере и постоянно подчёркивает возможность зауми, таящейся в каждом слове, из-за чего фразы превращаются в цепочки слов со сходным звучанием. Мысль буквально произрастает из звука. Слово ‘творчество’ содержит в себе слово ‘вор’, следовательно, красота происходит от воровства; Искариот, конечно же, самый искренний человек на земле и так далее. Здесь же знакомые нам нападки на разум, сопровождающиеся разоблачением метафизической философии XIX века. История изображена как царство разума, который порождает безумие (декаденты, футуристы) и вступает, наконец, в эпоху „бзыпызы” (заумное слово, заимствованное из пьесы Зданевича «остраф пасхи» и символизирующее смешной и безобразный вздор). Это гротескное слово нравится Терентьеву по трём причинам: во-первых, оно очень глупое; во-вторых, это гадость; в-третьих, оно может означать „хлеб наш насущный, честный труд или что-нибудь вроде дружбы”. В «Трактате» содержится немало фраз типа „Раздувать теорию познания до геморроидальных высот” и „блевотина мысли” или сентенций вроде „Каждое слово поэта торчит среди улицы на позоре, как собачья свадьба рядом с кафе”. Современники от Блока до Маяковского презрительно оцениваются как неженки, в то время как „каждое слово поэзии мы тщательно заливаем карболкой”. Терентьеву, кажется, не приходит в голову, что он повторяет идеи, пущенные в ход уже десяток лет назад. Он основывает из них теорию „голого факта”, который сменит безнадёжно устаревшую “вещь в себе”, “вечную женственность” и “решение проклятых вопросов” и который „лишён всякого смысла, бесполезный, злой, никакой, неуютный, простой”. Наконец, Терентьев берётся за богословие sui generis: Бог, чьё четвёртое лицо есть „сплошное неприличие”, объявляется им предтечей группы 41°, поскольку мир был создан им „наобум”.

В унисон теоретикам русского акмеизма (!) Терентьев славит окружающий мир и заявляет, что если какой-то Бог из системы Юпитера явится судить нашего Бога, „одни только мы трое — Зданевич, Кручёных и Терентьев — не перебежим к тому, а сядем с этим вчетвером на скамью подсудимых как соучастники всего натворённого”. Заканчивается брошюра пророчеством о времени, когда (после жрецов, полководцев, буржуев и пролетариев, в таком порядке) миром будут править художники: безбожники, провокаторы, нищие и лентяи.
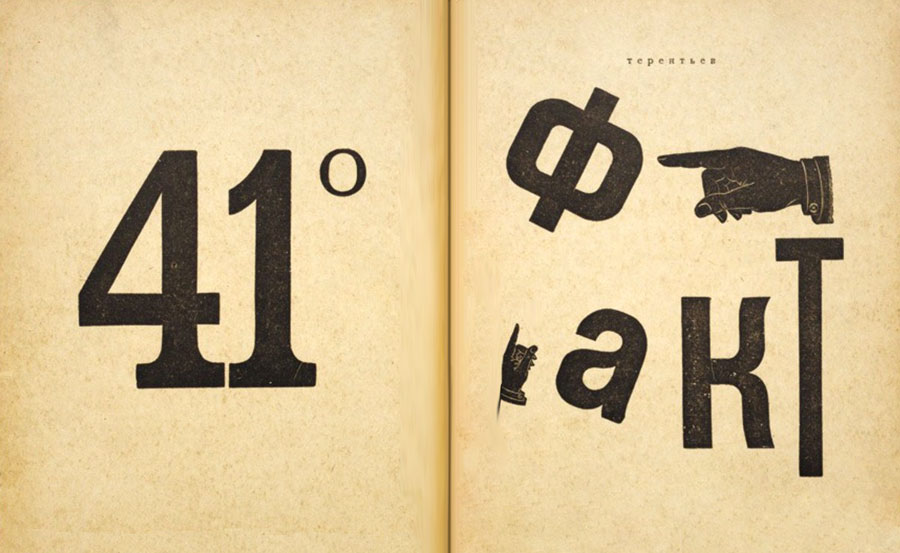
Поэзия Терентьева мало что добавляет к тому, что налицо у Кручёных, но в ней ещё сильнее подчёркивается абсурд. Среди стихов Терентьева есть чистая заумь (например, стихотворение «К занятию Палестины англичанами»), хотя чаще он смешивает заумь с обычным русским языком, как, например, в стихотворении «Серенький козлик» — возможно, лучшем своём стихотворении, возникшем в процессе „выборматывания”. Поэзия Терентьева разбросана по книгам Кручёных; самая большая и представительная подборка находится в его единственной стихотворной книге «Херувимы свистят» и в коллективном сборнике, посвящённом Мельниковой. «Херувимы свистят» (Тифлис, 1919) вышли в свет в издательстве «Куранты» и содержат десять стихотворений. Лучшее из них, пожалуй, первое: «Мои похороны». В нём есть заумь, абсурд, несколько антиэстетических образов (у солнца мигрень, мозоли мостовой, съеденные молью лошади) и звукоподражание (стук лошадиных копыт, шуршание ветра, свист херувимов). В конце книги поэт даёт совет: „Не упускайте случая сказать глупость”.
Стихи Терентьева в сборнике, посвящённом Мельниковой, имеют общее название «Готово» и обращают на себя внимание скорее типографским оформлением, чем содержанием. В них много звуковых ассоциаций (‘синицы’, ‘гусеницы’, ‘лиственницы’), искажённых, неприличных и грубых слов („поэзия моя цвети сукина дочь”) и чистой зауми („Юя яЯкая”). Часто появляются случайные эпитеты („родильный меридиан”), однако главенствующий принцип остается прежним: абсурдное нанизывание образов.
Вслед за Кручёных Терентьев переехал в Москву и ненадолго сблизился с группой ЛЕФ, возглавляемой Маяковским, но больше ничего не издал; «Грамматика заумного языка», анонсированная в одной из книг 41°, так и не вышла. В статье, опубликованной в 1928 году в книге Кручёных «15 лет русского футуризма», Терентьев, защищая заумь от атак напостовской критики, заявил, что заумники воспринимают слово материалистически и диалектически, и при этом сослался на Ленина. В это время он вёл активную работу в Ленинграде, где возглавлял театр «Дома печати», в основе деятельности которого, по его словам, лежала заумь, а также, судя по всему, старая добрая „анальная теория” Кручёных. Те, кому посчастливилось видеть терентьевскую постановку «Ревизора», рассказывали, что комедия начиналась с того, что все чиновники сидели на горшках, а Городничий прерывал свой монолог паузами, громко пуская при этом ветры. В 1931 году Терентьев был арестован, в 1937 году расстрелян.
Хотя группа 41° включала Кручёных, Зданевича и Терентьева, под её манифестом подписался и Николай Чернявский. В своей книге «Ожиренье роз» Кручёных писал, что Чернявский — собиратель сказок и заумник, чьи произведения типографскому воспроизведению не поддаются. Несколько стихотворений Чернявского напечатано в мельниковском сборнике. Зрительно они напоминают стихотворные комплексы Зданевича: трёхстрочные конструкции, самые большие буквы в которых занимают в высоту три строчки, так что какая-то часть буквы присутствует в каждой из них, буквы среднего размера — две строчки, самые маленькие — одну. При этом все три строки читаются самостоятельно и обладают собственным смыслом.
После того как группа 41° распалась, книги её бывших участников продолжали выходить под прежней издательской маркой. Кручёных с гордостью демонстрировал всемирное влияние группы, следующим образом перечисляя на задней обложке одной из своих книг имена её членов: Кручёных (Россия), Терентьев (Грузия), Зданевич (Германия, Франция).

Даже если группа 41° была самой авангардной группой в истории русского футуризма, наилучшее представление о футуристическом движении в Закавказье в это время даёт сборник, посвящённый актрисе Мельниковой. Сборник под названием «Софии Георгиевне Мельниковой» вышел в свет в 1919 году в издательстве «Фантастический кабачок» в виде роскошного тома. Он обильно иллюстрирован, а в конце книги приводится масса подробной информации о деятельности местных футуристов. Помимо Зданевича, Терентьева, Кручёных (чья подборка почти совпадает с тем, что он опубликовал в «Лакированном трико» и «Миллиорке») и Чернявского, в сборнике напечатаны стихи (на языке оригинала) армянского футуриста Кара-Дарвиша и грузинских поэтов Робакидзе, Табидзе и Яшвили. Что касается остальных участников, то следует упомянуть ещё трех второстепенных авторов.
«Убийство на романической почве» Василия Абгаровича Катаняна (1902–1980) представляет собой цикл из десяти стихотворений, которые автор в том же 1919 году выпустил отдельным изданием. Это лирическая любовная история, из которой видно, что начинающий провинциальный поэт ещё колеблется, следовать ли ему антиэстетизму кубо-футуристов или предаться эго-футуристскому изяществу: его стихи напоминают то второразрядного Большакова, то второсортного Маяковского. С одной стороны, в них есть галантные поцелуи, перчатки возлюбленной, духи l’Origan, „едкий дым английских папирос”, розовый ликёр, Бодлер и даже снежинки в осенний час; с другой — Катанян с гордостью пишет о „слюнявом небосводе”, „корявом рассвете”, „прогнившей любви” и „революционном бунте”. Это смешение образов происходит в рамках традиционного стиха, порой александрийского, и почти без отклонений от правил грамматики. Впоследствии Катанян стал известен как составитель хроники жизни Маяковского и муж Лили Брик.
Сходные противоречия характерны для стиля ещё одного местного поэта, Александра Михайловича Чачикова (1894–1941). Вступление к его „ассирийской” поэме «Наступление на Моссул» напоминает Маяковского, тогда как основная часть (о героических деяниях соотечественников в Первой мировой войне) написана в духе пушкинской «Полтавы». В том же 1919 году Чачиков выпустил книгу стихов «Крепкий гром», большинство которых написаны красивым квази-европейским стилем и похожи на произведения самых разных поэтов — от Гумилева до Северянина. Есть стихи и пооригинальнее: те, в которых присутствует восточный колорит. Но самая любопытная часть книги — предисловие Кручёных, где он „перегоняет” стихи Чачикова на заумный язык и сообщает занятные вещи о заумном и анальном аспектах поэзии Тютчева. В стихах Чачикова Кручёных слышит „гулкий металлический звон почвы Кавказа и сочность густого вина”. В 1922 году Чачиков возглавлял «Академию стиха» в Батуми. Впоследствии он продолжал публиковать свои стихи, но занимался преимущественно кинематографом.
Открывает мельниковский сборник несколько стихотворений Нины Васильевой, за которыми следует стихотворный цикл Татьяны Владимировны Вечорки (урожденная Ефимова, 1892–1965) под названием «Соблазн афиш», изобилующий образами театральных кулис и уборных. Подобно Катаняну и Чачикову, Вечорка демонстрирует отменную эрудицию и знакомство с европейской поэзией; как и они, пишет в эго-футуристической атмосфере салонов и иностранных слов. Вечорка — не новичок в поэзии: в 1918 году она выпустила поэтический сборник «Магнолии», в котором ахматовские стихи о женской душе сочетаются с дендизмом („близки душе моей Бердслей и Гойя”, „Люблю впивать поэмы Кузмина”, „Мне на рассвете грезилось, что я — любовница Гюи де-Мопассана”, „листаю Малларме «Divagations» опять”). Но уже тогда она посвятила стихотворение «Эскиз» Кручёных, которого назвала „бессребреник с ужимкой иезуита”. В 1919 году Вечорка издала цикл «Соблазн афиш» отдельной книгой, добавив несколько стихотворений и поэму об однополой любви; в новых стихотворениях присутствует робкий футуризм, каждое стихотворение набрано своим шрифтом. Подобно Кручёных, Вечорка перебралась сначала в Баку, а позже — в Москву. В Баку её близость к футуризму была самой тесной. Вместе с Хлебниковым и Кручёных она принимала участие в выпуске сборника «Мир и остальное» (1920) и подготовила к печати книгу заумных стихотворений, которая, к сожалению, так и не появилась. В изданной Кручёных записной книжке Хлебникова (1925) есть ценные воспоминания Вечорки о пребывании Хлебникова в Баку. Тогда же Вечорка добавила к своему псевдониму фамилию мужа и стала подписываться Вечорка-Толстая. Она вошла в московский «Цех поэтов», под чьей издательской маркой в 1927 году выпустила книгу стихов «Треть души», которые, несмотря на несколько авангардистских рифм и образов („луна как срезанный огромный ноготь”) и такие современные темы, как полёт на самолёте, редакция газеты и роды, свидетельствуют о возвращении Вечорки к традиционной поэзии.146![]()
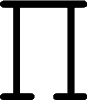 осле большевистского переворота Кручёных продолжал трудиться на строительстве железной дороги в Баку, потом нашёл работу в агентстве РОСТА и в газетах. Какое-то время здесь сохранялась приличная литературная атмосфера: из Тифлиса в Баку переехал Городецкий, в местном университете преподавал Вячеслав Иванов, живал здесь и Хлебников, но ничего сравнимого с героическими временами группы 41° не происходило. Кручёных удалось издать в Баку декларацию о зауми, около двенадцати брошюр и опубликовать несколько газетных статей.
осле большевистского переворота Кручёных продолжал трудиться на строительстве железной дороги в Баку, потом нашёл работу в агентстве РОСТА и в газетах. Какое-то время здесь сохранялась приличная литературная атмосфера: из Тифлиса в Баку переехал Городецкий, в местном университете преподавал Вячеслав Иванов, живал здесь и Хлебников, но ничего сравнимого с героическими временами группы 41° не происходило. Кручёных удалось издать в Баку декларацию о зауми, около двенадцати брошюр и опубликовать несколько газетных статей.В августе 1921 года он вернулся в Москву и немедленно погрузился в водоворот литературной деятельности. В Москве было голодно, зато культурная жизнь пульсировала во всех областях. Литературные группы росли как грибы, действовало свыше ста издательств, поэтов было, казалось, больше, чем читателей, и авангардисты усмотрели во всём этом возможность стать руководящей партией в искусстве. Друзья Кручёных — Маяковский, Асеев, Третьяков, Кушнер, Осип Брик — являлись влиятельными фигурами, некоторые из них уже успели вступить в коммунистическую партию. Кручёных немедленно занялся издательской деятельностью, чтением собственных стихов и организацией литературных диспутов. Впрочем, идеи, которые он защищал и пропагандировал, были не новы, время от времени он лишь подкрашивал то, что писал и проповедовал на Кавказе, советскими тонами. Естественно, его первые начинания были связаны с заумными книгами; некоторые иллюстрировал художник Александр Родченко («Цоца», «Ззудо», «Заумь»). Последняя (появилась в сентябре 1921 года), помимо перепечатки бакинской декларации, содержит страницы, покрытые крупными словами или обычными буквами и слогами, написанными от руки самыми разными способами и в самых разных направлениях. На одной странице вообще нет букв, зато есть пять сделанных случайным образом штрихов ручкой.
Следующие издания были напечатаны типографским способом и заметно уступали в разнообразии и выдумке тифлисским книгам. Книга «Заумники» появилась в 1922 году, в ней было несколько стихотворений Хлебникова и Петникова, но большую часть занимали заумные и не очень заумные стихи Кручёных, его теоретические статьи, перепечатки прежних деклараций и фактические сведения о футуризме на Кавказе и в Москве. Большинство стихотворений Кручёных посвящено временам года, написано верлибром и изобилует звукоподражаниями и образами, связанными с динамикой и разрушением (гной, отрава). Кручёных украшает свои стихи аллитерациями и ассонансами, предлагает особую интонацию при чтении (указывает длительность гласных, разбивает слова на слоги, соединённые дефисом ради эффекта стаккато) и применяет, хотя и скупо, заумь (лишние буквы, заменители букв). Использует он и необычные типографские приёмы.
После «Заумников» в 1922 году вышли ещё две поэтические книги — «Голодняк» и «Зудесник». Первая содержит несколько стихотворений Кручёных, написанных под впечатлением голода 1921–1922 года; что касается остальных стихов, то в обеих книгах немало упражнений в оркестровке поэтической фактуры (в частности, излюбленной Кручёных оркестровке на з) и заумной поэзии. Есть и сюрреалистическая проза. В 1926 году появилась ещё одна книга Кручёных, «Календарь» (последняя, изданная типографским способом), где были перепечатаны, хотя нередко в новой аранжировке, многие уже публиковавшиеся стихи о временах года. Особого внимания заслуживает предисловие Пастернака, признававшего значение Кручёных, но отвергавшего его метод, — первый и единственный случай серьёзной критики, которой Кручёных сподобился за всю свою жизнь. Описывая впечатление от чтения Кручёных стихотворений перед друзьями (он был превосходным чтецом и однажды, выступая перед солдатами с заумными стихами, был удостоен аплодисментов), Пастернак пишет:
Роль Кручёных в искусстве для Пастернака любопытна и поучительна:
На титульном листе «Зудесника» стоит число 119 — с этого издания Кручёных начал нумеровать свои книги, что противоречило ранее исповедуемому им принципу расточительства.147![]()
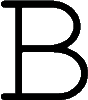 1923 году Маяковский организовал группу ЛЕФ, идеологию которой точнее всего выражает словосочетание “коммунистический футуризм”. В группу вошли такие ветераны футуризма, как Асеев и Третьяков, плюс периферийные фигуры прошлого, вдруг обретшие, подобно О. Брику и Кушнеру, вес. Были и новички, например, Б. Арватов. Каменский и Кручёных принадлежали, естественно, к внутреннему кругу, но в журнале под тем же названием «ЛЕФ» (1923–1925) особой роли не играли. Появление Кручёных в группе понятно, поскольку идеология ЛЕФа делала ударение на технической обработке слова;148
1923 году Маяковский организовал группу ЛЕФ, идеологию которой точнее всего выражает словосочетание “коммунистический футуризм”. В группу вошли такие ветераны футуризма, как Асеев и Третьяков, плюс периферийные фигуры прошлого, вдруг обретшие, подобно О. Брику и Кушнеру, вес. Были и новички, например, Б. Арватов. Каменский и Кручёных принадлежали, естественно, к внутреннему кругу, но в журнале под тем же названием «ЛЕФ» (1923–1925) особой роли не играли. Появление Кручёных в группе понятно, поскольку идеология ЛЕФа делала ударение на технической обработке слова;148На год раньше ЛЕФа возникла организация МАФ (Московская ассоциация футуристов) с издательством, в которое входили почти те же люди, что и в ЛЕФ. Эта группа в меньшей степени, чем ЛЕФ, принимала в расчёт коммунистическую идеологию и пыталась организовать издательскую деятельность за пределами Советской России (в Латвии и Германии), так что буква М в её названии вполне могла читаться и как “международная”. Главным её теоретиком был, очевидно, Кручёных, который в „серии теории” издал три свои книги. Как обычно, в его трактатах помимо теоретической части можно найти всё что угодно, от стихов до саморекламных цитат. В первый трактат «Фактура слова» (1922) входила декларация Кручёных на эту тему, образцы характерных фактурных приёмов и двенадцать страниц, перепечатанных из «Голодняка». Второй трактат «Сдвигология русского стиха» (1922) насчитывал пятьдесят страниц (чемпион среди книг Кручёных), где подробно разбиралось понятие сдвиг и приводились многочисленные примеры его благотворных и нежелательных последствий.149![]()
Официальную линию ЛЕФа хорошо представляют книги Кручёных «ЛЕФ-агитки Маяковского, Асеева и Третьякова» (1925) с примерами in toto и с обсуждением их эффективности, а также «Язык Ленина» (1925) с классификацией ленинского языкового стиля и попыткой выявить его источники. «Язык Ленина» трижды переиздавался, в последний раз под названием «Приёмы ленинской речи» (1928).
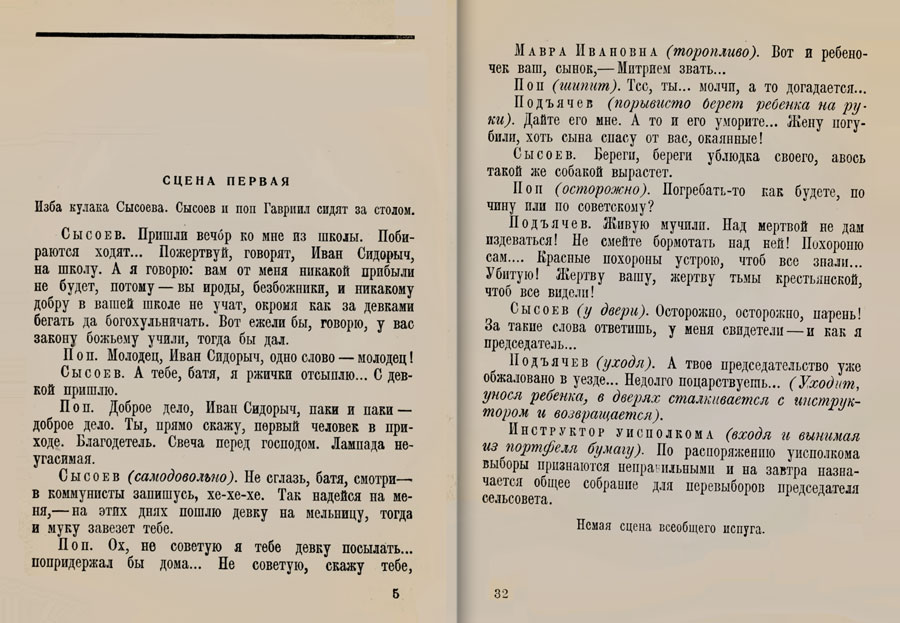
Кручёных по-прежнему проповедовал футуризм и заумный язык, хотя и не привносил в предмет ничего нового. Книга «Фонетика театра» (1923) с предисловием Кушнера, очерком истории заумного движения и толкованием стихов Кручёных артистом А. Олениным была проиллюстрирована в основном примерами из произведений самого Кручёных и его тифлисских соратников. На книге стояла издательская марка 41°, а в конце приводился список изданий этой группы. Но главным, несомненно, было заявление Кручёных о том, что заумь должна стать языком современного театра и кино, и это будет первым шагом к мировому языку. Приводились примеры из заумных стихов Кручёных, обыгрывающих звучание преимущественно восточных языков. Второе издание вышло в 1925 году. В 1928 году Кручёных выпустил довольно любопытную книгу «Говорящее кино» с подзаголовком «1-я книга стихов о кино». Название вводит читателя в заблуждение, так как книга посвящена немому кино (1928 год!): Кручёных попытался соединить искусство немых фильмов с “великой говоруньей” поэзией и передать верлибром свои впечатления от российских и зарубежных фильмов. В книге в виде киносценария приводится краткая история русского футуризма.
Антология поэтических и прозаических произведений детей, собранная Кручёных в 1921 и 1922 годах с добавлением материала из его дореволюционных публикаций, вышла под названием «Собственные рассказы детей» (1923). «500 новых острот и каламбуров Пушкина» (1924) — амбициозная попытка развенчать Пушкина, исходя из теории сдвига; в ней опубликована ещё одна (четвёртая) декларация, на этот раз посвящённая сдвигу.151![]()
В 1927 году, изменив предисловие, он переиздал эту книгу под названием «Новое в писательской технике».
В конце 1925 года вся Россия была потрясена известием, что Сергей Есенин повесился в гостиничном номере. Кручёных немедленно откликнулся на самоубийство поэта (тем самым присоединившись к потоку литературы о Есенине после его смерти) брошюрой «Драма Есенина», изданной, как и многие книги Кручёных того времени, Всероссийским союзом поэтов. Вероятно, брошюра встретила самый горячий приём, поскольку в 1926 году Кручёных написал на эту тему не менее девяти книг,152![]()
![]()
В нескольких книгах тема Есенина соседствовала с горячо обсуждавшейся тогда темой “хулиганства”. Кручёных она привлекла ещё раньше, когда он опубликовал сначала в 3-м номере журнала «ЛЕФ», а в 1925 году издал отдельной книгой „уголовный роман” «Разбойник Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица». Здесь была напечатана последняя из обнародованных деклараций Кручёных, на этот раз о художественных приёмах ЛЕФа, противопоставленного остальной современной литературе. Позднее Кручёных опубликовал серию полемических статей «На борьбу с хулиганством в литературе» и книгу «Четыре фонетических романа» с новым вариантом поэмы о Ваньке-Каине плюс ещё три поэмы и словарик блатных слов. Одна из поэм — «Дунька-Рубиха» — написана по мотивам подлинного серийного убийства.
По иронии судьбы, когда Кручёных решил отметить победу футуризма в России изданием книги «15 лет русского футуризма. 1912–1927» (1928), погребальный колокол по футуризму звонил уже вовсю: она оказалась последней книгой Кручёных, изданной типографским способом (на титульном листе стояло: № 151). В книге есть ценные автобиографические материалы ветеранов (Третьяков, Кручёных) и молодых футуристов (Кирсанов), много юбилейных стихов, исторические документы, похвалы Хлебникову, нападки на Максима Горького и т.д.
Но вот коммунистическая партия дала понять, что не потерпит в советской литературе никакого футуризма, и падение Кручёных свершилось в мгновение ока, хотя он и остался в живых. С помощью друзей его даже приняли в Союз советских писателей, что подразумевало право на жильё, а со временем и на пенсию. Тем не менее, Кручёных не перестал издавать свои произведения, хотя занимался этим в качестве хобби: как в старые добрые времена, он взялся за литографированные издания. Впрочем, имелось и существенное отличие: его произведения теперь не могли шокировать читателя, ибо не шли в продажу, а распространялись в кругу ближайших знакомых. Бывший „бука русской литературы” превратился в замшелого архивариуса, который время от времени публиковал материалы из неистощимой сокровищницы своего личного архива и памяти.
Впрочем, Кручёных начал составлять антологии и писать мемуары гораздо раньше: в 1925 году он издал «Записную книжку Хлебникова».




Кручёных продолжал издавать и собственные стихи: в 1930 году вышли «Ирониада» и «Рубиниада», где он смешал джаз и любовь, энергичные жесты авангардиста и плохо скрытую старомодную меланхолию, но главное — в них не было и следа зауми. Судя по имеющейся информации, после 1934 года Кручёных ничего не издавал154![]()
![]()
Все выдающиеся футуристы получили причитавшуюся им долю успеха, признания или забвения; одного Кручёных “серьёзные” критики с самого начала вывели за пределы литературы и, кажется, были довольны таким положением. Его имени нет в справочнике по литературно-художественным сборникам, выходившим с 1918 по 1927 год156![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
С расстояния в полвека роль Кручёных проясняется: он значил неизмеримо больше многих насельников энциклопедий и хрестоматий. Конечно, у Кручёных имелись свои недостатки. Он не всегда был грамотен, больше фантазировал, чем действительно знал, демонстрировал ложную утончённость, проклинал, не имея достаточной силы обосновать свои проклятия... и тем не менее, заслужил наше уважение — и не только своей поразительной преданностью футуризму, в которой превзошел своих соратников.
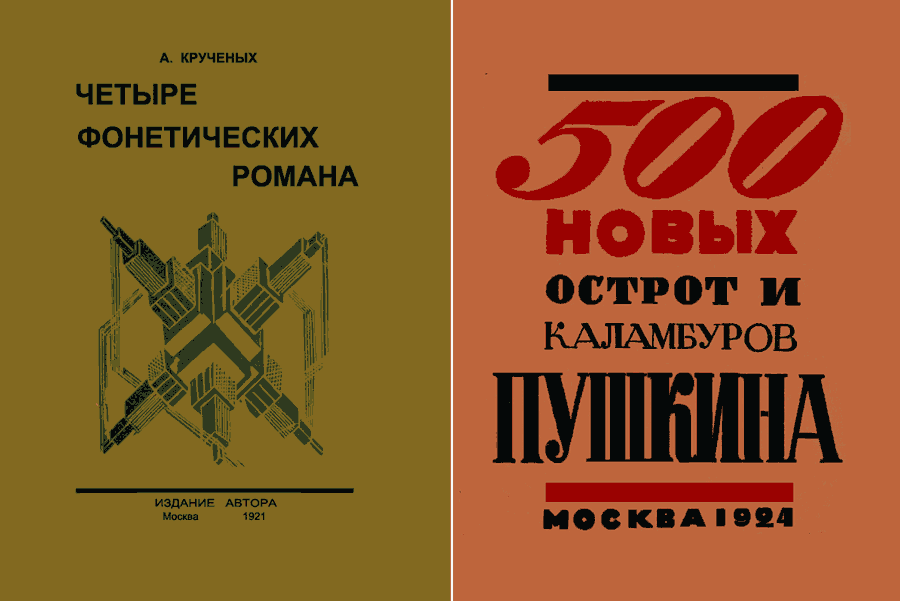
Величайшим вкладом Кручёных в развитие литературы была идея (а возможно, и кое-что из практики) зауми, идея восхитительная и вызывающая, которая привела футуризм и к его высшим достижениям, и к логическому концу. Идея “истинного” поэтического языка, говорившего непосредственно своей формой, оказалась невероятно привлекательной. Даже Маяковский, никогда не практиковавший заумь per se, признался кому-то из друзей, что в одном из вполне “понятных” его стихотворений советского периода возникла некая задача, и он предложил заумное её решение.163![]()
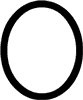 стаётся сказать несколько слов ещё об одном предводителе дореволюционного футуризма — Вадиме Шершеневиче. Последний раз мы упоминали о нём по поводу его непродолжительного альянса с «Гилеей» и как об объекте ядовитой критики «Центрифуги». В предреволюционные годы Шершеневич подвергся остракизму и остался один; единственным футуристом, сохранившим с ним дружеские отношения, был Сергей Третьяков. Однако Шершеневич рук не опустил. Помимо уже упомянутых переводов из Маринетти он выпустил шесть книг и публиковал свои произведения в различных изданиях.
стаётся сказать несколько слов ещё об одном предводителе дореволюционного футуризма — Вадиме Шершеневиче. Последний раз мы упоминали о нём по поводу его непродолжительного альянса с «Гилеей» и как об объекте ядовитой критики «Центрифуги». В предреволюционные годы Шершеневич подвергся остракизму и остался один; единственным футуристом, сохранившим с ним дружеские отношения, был Сергей Третьяков. Однако Шершеневич рук не опустил. Помимо уже упомянутых переводов из Маринетти он выпустил шесть книг и публиковал свои произведения в различных изданиях.Среди них наименее футуристическим является избранное Жюля Лафорга в довольно посредственном переводе, который был сделан в сотрудничестве с Валерием Брюсовым и Н. Львовой («Альциона», Москва, 1914). Название сборника «Феерический собор» взято из книги Лафорга «Le concile féérique». Шершеневич написал примечания и составил библиографию, ему же принадлежит вступительная статья, в которой он характеризует Лафорга как поэта города с его скоростью и тоской и как истинного денди в поэзии, то есть приписывает ему всё то, что хотел бы видеть в собственных стихах. В 1918 году он издал ещё одну книгу Лафорга под названием «Пьеро» (вероятно, перевод «Pierrot fumiste»).
Если ранняя книга Шершеневича «Футуризм без маски» содержит фактические сведения и критические статьи, то в «Зелёной улице» он тщится предстать перед читателем теоретиком. Книга появилась в Москве в 1916 году, но сочинена, судя по всему, в 1914 году. По принятой в «Мезонине поэзии» традиции она начинается с «Увертюры» (т.е. предисловия), написанной в виде беседы между автором в двух ипостасях, критической и поэтической, и его другом в двух ипостасях (вероятно, с Третьяковым, которому посвящена книга). В «Увертюре» Шершеневич не возражает против того, чтобы его называли футуристом, хотя и подчёркивает свою независимость. Теоретические основы футуризма вполне устраивают поэта, и потому он принимает это название. Однако футуризм Шершеневича — футуризм не для всех: в круг избранных входят он сам, Третьяков, Большаков, Ивнев, Гуро, Маринетти и отчасти Маяковский. Остальные члены «Гилеи» либо недостаточно талантливы, либо далеки от футуризма. Северянин на этот раз тоже не заслужил звания футуриста и определяется как „смесь дешёвого парнасца с Массне”. После революции Шершеневич станет одним из вождей имажинизма, чьи корни можно отыскать именно в этой книге, в предисловии к которой он заявляет, что „образы прежде всего”, и даже называет себя „имажионистом”. Через несколько страниц Шершеневич вновь возвращается к этой теме и определяет поэтический труд как „непрерывную череду образов”.
В «Зелёной улице» есть несколько отрывков, дословно перенесённых из «Футуризма без маски», но, в сущности, это совершенно другая книга, хотя в ней рассматриваются всё те же темы: реализм, символизм, научная поэзия (акмеизм на сей раз оставлен без внимания), взаимосвязь формы и содержания, различные аспекты поэтики. В целом это выглядит как уравновешенные суждения о поэзии эрудированного эклектика, апологета современности в литературе. Шершеневич черпает из самых разных источников, от Пушкина до Потебни, Маринетти и даже Хлебникова, и задачу современного поэта видит в „выразительной передаче динамики современного города”. Для этого необходимо уловить ритм современности, и Шершеневич предлагает свой метод, а именно: „политематизм” и „неподчинение образов лейт-образу”.
Если в «Футуризме без маски» утверждалось, что истинного футуризма в России ещё не существует, то в «Зелёной улице» проводится чёткая граница между итальянской и русской разновидностями футуризма, причём первый определяется как ars vivendi, т.е. общественное движение, тогда как второй представляет собой переворот в искусстве, то есть идёт впереди своего итальянского двойника. Футуризм — это поэзия большого города („хаос улицы, движение города, рёвы вокзалов и гаваней”), „полнь и быстрь современной жизни”, он ориентирован на земной мир, но с точки зрения цели футуризм — это движение от, а не к, призыв к преодолению привычек и застоя.
Вторая часть книги — полная противоположность первой. Объявив, что „критические шпицрутены оставляли на моей душе следы кровавые”, Шершеневич по большей части полемизирует здесь со своими критиками (начиная с безвестных газетных рецензентов и кончая Пастернаком и Брюсовым) и нередко призывает на помощь Пушкина и словарь Даля. Книга заканчивается чем-то вроде манифеста под названием «Два последних слова» — добротным образчиком влияния, оказанного на Шершеневича Маринетти: проповедуется урбанизм, превозносится скорость, отвергается прошлое и прославляется машина. Ко всему прочему, Шершеневич критикует в современном футуризме примитивизм и национализм, причём заявляет, что „со слов необходимо сбросить их смысл и содержание”.
 Примерно в это же время Шершеневич собрал большинство своих футуристских стихов, опубликованных после сборника «Carmina», в книгу «Автомобильная поступь». Она появилась в 1916 году, но была составлена (включая предисловие) летом 1914 года. Шершеневич добавил сюда лишь стихи о войне, не все футуристские. В целом, несмотря на присутствие эго-футуристских стихов, получилась очень внушительная подборка (около ста стихотворений) плюс предисловие (и то и другое — в духе Маринетти), которую он разбил на пять разделов: «Восклицательные скелеты», «Лунные окурки», «Веснушки радости», «В складках города» и «Священный сор войны». Шершеневич уподобляет своё предисловие, где вплотную приближается к Маринетти, автомобильной сирене: звук её, с одной стороны, привлекает внимание прохожих, с другой — позволяет спортсмену развить большую скорость. Если в предисловии к «Романтической пудре» Шершеневич скромно предсказывал, что она пройдёт незамеченной, то здесь он утверждает прямо противоположное и делает это не так давно усвоенным тоном — суетливо и заносчиво. Быть насквозь современной — главное достоинство лирики, заявляет он. Поэзия покинула Парнас. Воцарение урбанизма с его динамикой, красотой скорости и „внутренним американизмом” для “поэтического”, то есть лунных безделушек, „вперёд-народ”, башен из слоновой кости и рифмованной риторики не оставило места. „Мы потеряли способность постигать жизнь недвижной статуи, но движение холерных бацилл во время эпидемии — нам понятно и восхитительно”. Стихи, впервые напечатанные в этой книге, устрашающе живописуют современный город, названный Шершеневичем „истеричной мазуркой нервных облаков”. Общее впечатление можно определить как урбанистическое барокко, главная особенность которого — резкие краски и общий беспорядок, где и метафоры, и просодия неустанно подчёркивают насилие, безумие, вожделение и безобразие. Всё это слишком очевидно; Шершеневич — поэт, у которого нет ни тайн, ни je-ne-sais-quoi, и потому его нетрудно переводить на другие языки, причём в переводе он может оказаться даже более лиричным. Любопытно, что кое-где он подправил свои ранние стихи, заменив, например, эпитет ‘экзотический’ на ‘непристойный’, а слово ‘пишу’ на современное ‘печатаю’. В довольно ребяческой и крикливой смеси угадывается одна из главных тем зрелого Шершеневича: опустошённость человеческой души („Душа — только пепельница, полная окурков пепельница!”), но пока его гораздо сильнее волнует другая тема: „Я — важная телеграмма, которую мир должен грядущему передать!”
Примерно в это же время Шершеневич собрал большинство своих футуристских стихов, опубликованных после сборника «Carmina», в книгу «Автомобильная поступь». Она появилась в 1916 году, но была составлена (включая предисловие) летом 1914 года. Шершеневич добавил сюда лишь стихи о войне, не все футуристские. В целом, несмотря на присутствие эго-футуристских стихов, получилась очень внушительная подборка (около ста стихотворений) плюс предисловие (и то и другое — в духе Маринетти), которую он разбил на пять разделов: «Восклицательные скелеты», «Лунные окурки», «Веснушки радости», «В складках города» и «Священный сор войны». Шершеневич уподобляет своё предисловие, где вплотную приближается к Маринетти, автомобильной сирене: звук её, с одной стороны, привлекает внимание прохожих, с другой — позволяет спортсмену развить большую скорость. Если в предисловии к «Романтической пудре» Шершеневич скромно предсказывал, что она пройдёт незамеченной, то здесь он утверждает прямо противоположное и делает это не так давно усвоенным тоном — суетливо и заносчиво. Быть насквозь современной — главное достоинство лирики, заявляет он. Поэзия покинула Парнас. Воцарение урбанизма с его динамикой, красотой скорости и „внутренним американизмом” для “поэтического”, то есть лунных безделушек, „вперёд-народ”, башен из слоновой кости и рифмованной риторики не оставило места. „Мы потеряли способность постигать жизнь недвижной статуи, но движение холерных бацилл во время эпидемии — нам понятно и восхитительно”. Стихи, впервые напечатанные в этой книге, устрашающе живописуют современный город, названный Шершеневичем „истеричной мазуркой нервных облаков”. Общее впечатление можно определить как урбанистическое барокко, главная особенность которого — резкие краски и общий беспорядок, где и метафоры, и просодия неустанно подчёркивают насилие, безумие, вожделение и безобразие. Всё это слишком очевидно; Шершеневич — поэт, у которого нет ни тайн, ни je-ne-sais-quoi, и потому его нетрудно переводить на другие языки, причём в переводе он может оказаться даже более лиричным. Любопытно, что кое-где он подправил свои ранние стихи, заменив, например, эпитет ‘экзотический’ на ‘непристойный’, а слово ‘пишу’ на современное ‘печатаю’. В довольно ребяческой и крикливой смеси угадывается одна из главных тем зрелого Шершеневича: опустошённость человеческой души („Душа — только пепельница, полная окурков пепельница!”), но пока его гораздо сильнее волнует другая тема: „Я — важная телеграмма, которую мир должен грядущему передать!”
В том же 1916 году вышла в свет „монологическая драма” «Быстрь»; по словам Шершеневича, он написал её „на перегибе 1913–1914 годов”. Действие пьесы, как нетрудно догадаться, происходит в мегаполисе с его небоскрёбами, толпами, криками и шумом; это ряд монологов поэта-футуриста («Лирика»), прерываемый людьми, машинами и предметами. Лирик привлекает к себе людей и одновременно озадачивает их своими призывами понять город и отбросить прошлое. В монологах присутствуют все главные особенности поэзии Шершеневича. Упоминаемый в них трамвай — это „огромная электрическая акула”, мотоциклы сравниваются с „блохами в шерсти дворняжки”, женщина „вытекает из подъезда, как слеза, как слюна”, рифмы „ползают в мозгу, как вши”. Иногда встречается и пародия на современную нефутуристскую поэзию, но, в сущности, «Быстрь» — это неудачное подражание трагедии Маяковского «Владимир Маяковский». Из неё Шершеневич заимствовал главные темы, второстепенные подробности, отдельные фразы и, наконец, сам метод гиперболического гротеска, особенно в ремарках (прежде чем начать монолог, женщина спрыгивает с крыши, а Лирик вырастает до колоссальных размеров). Другой источник, из которого обильно черпает Шершеневич, — Маринетти. Лирик обращается, например, со словами обличения к старикам („Вы — только объедки, вам каждому под пятьдесят”) и порицает культуру („Человечество при смерти от книжного поноса”). Многочисленные примеры не слишком удачных звукоподражаний тоже наверняка заимствованы у Маринетти.
Все три книги написаны в героическую эпоху футуризма и представляют собой заметный вклад в движение, но появились слишком поздно — людей интересовало уже совсем другое. После них Шершеневич издал лишь популярный сборник стихотворений Языкова с вполне академическим предисловием.165![]()
Послереволюционный имажинистский период творчества Шершеневича, сделавший его знаменитостью, слишком богат для того, чтобы говорить о нём в двух словах. Когда в 1927 году имажинизм распался, Шершеневич нашёл себе литературную работу в советском кинематографе, и после 1928 года больше не издавался. Дореволюционный футуризм Шершеневича начисто забыт, хотя по разным причинам заслуживает внимания и достоин научного исследования. Главная из них: Шершеневич послужил мостом между эго-футуризмом и «Гилеей»; к тому же он более других способствовал известности Маринетти в России. У поэта были и другие связи с зарубежной поэзией. Вместе с Лившицем и Бобровым Шершеневич возглавил освоение русскими футуристами европейского модернизма.
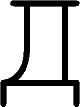 ля полноты картины следует упомянуть группу молодых поэтов из Одессы. Между 1914 и 1917 годами это сообщество (не имевшее названия) выпустило пять поэтических сборников. Первый, «Шёлковые фонари» (1914), составленный из стихов шести поэтов, отмечен смешением стилей и подражанием всевозможным направлениям модернизма, начиная с символизма. Один из авторов, грузин Георгий Цагарели, по своей манере близок к Северянину; в стихотворении «Игорю-Северянину» он сравнивает его появление на литературном горизонте с приходом Мессии. Цагарели оставался в группе до самого конца; его поздние стихотворения полны экзотикой Востока. Другой член группы, Исидор Бобович — эпигон акмеистической ориентации. Вскоре к ним присоединился Пётр Сторицын, по-видимому, взявший на себя издательские хлопоты. Вторым сборником группы стала книга «Серебряные трубы», свидетельствующая о том, что её авторы перешли в стан акмеистов и большинство из них до последней запятой подражают Гумилёву. Одним из них оказался Эдуард Багрицкий (1885–1934), волей судеб будущий классик советской поэзии. Единственным эго-футуристом в группе был Анатолий Фиолетов (см. главу 5).
ля полноты картины следует упомянуть группу молодых поэтов из Одессы. Между 1914 и 1917 годами это сообщество (не имевшее названия) выпустило пять поэтических сборников. Первый, «Шёлковые фонари» (1914), составленный из стихов шести поэтов, отмечен смешением стилей и подражанием всевозможным направлениям модернизма, начиная с символизма. Один из авторов, грузин Георгий Цагарели, по своей манере близок к Северянину; в стихотворении «Игорю-Северянину» он сравнивает его появление на литературном горизонте с приходом Мессии. Цагарели оставался в группе до самого конца; его поздние стихотворения полны экзотикой Востока. Другой член группы, Исидор Бобович — эпигон акмеистической ориентации. Вскоре к ним присоединился Пётр Сторицын, по-видимому, взявший на себя издательские хлопоты. Вторым сборником группы стала книга «Серебряные трубы», свидетельствующая о том, что её авторы перешли в стан акмеистов и большинство из них до последней запятой подражают Гумилёву. Одним из них оказался Эдуард Багрицкий (1885–1934), волей судеб будущий классик советской поэзии. Единственным эго-футуристом в группе был Анатолий Фиолетов (см. главу 5).В том же 1915 году группа выпустила в свет третью книгу, «Авто в облаках», с явной претензией на футуризм. На обложке грубо изображены городские здания, сквозь которые проступают газетные столбцы. Для большинства авторов футуризм был, очевидно, le dérnier cri, с которым они не знали толком что делать, а то и вовсе не принимали всерьёз. В стихах Бобовича, например, появляются пещерные люди и монгольские завоеватели, давящие вшей; упоминается и запах мочи в зоопарке. Сторицын воспевает автомобиль, называя его „бензиновым Пегасом”, а Багрицкий придумал себе футуристическое alter ego и большую часть своей “авангардистской” поэзии (очень похожей на стихи Маяковского и Шершеневича) подписывал именем Нины Воскресенской. Тем не менее, «Гимн Маяковскому» он опубликовал под собственным именем. Подлинно футуристская ориентация характерна для произведений не одесситов — Сергея Третьякова и Шершеневича. «Авто в облаках» заметили в столицах, и один петербургский обозреватель назвал группу „Оскарами Уайльдами с Дерибасовской”, добавив при этом, что „если в моде футуризм, то, будьте уверены, вся провинциальная молодежь запоёт по-футуристски, и в Архангельске и Эривани исчезнут со стен хмурый Добролюбов и косматый Маркс, и будут прославлены Игорь-Северянин и Маринетти”.166![]()
Члены одесской группы думали, однако, иначе, и следующая их книга «Седьмое покрывало» была шагом назад к более консервативному языку акмеизма и других школ, хотя обе главные разновидности футуризма по-прежнему присутствовали на её гостеприимных страницах. Члены группы готовили ещё один сборник, «Аметистовые зори», в котором к упомянутым участникам собирался присоединиться Рюрик Ивнев, но вместо этого весной 1917 года издали свою пятую и последнюю книгу «Чудо в пустыне» — уже публиковавшиеся ранее избранные стихотворения. Исключение составили несколько стихотворений Третьякова и Шершеневича, а также рièсе de résistance книги, первоначальный вариант четвёртой главы поэмы Маяковского «Война и мир».167![]()
История русского футуризма на этом далеко не кончается, однако после 1917 года его эволюция была довольно своеобразной, и её освещение нуждается в другой книге или, возможно, в серии статей. 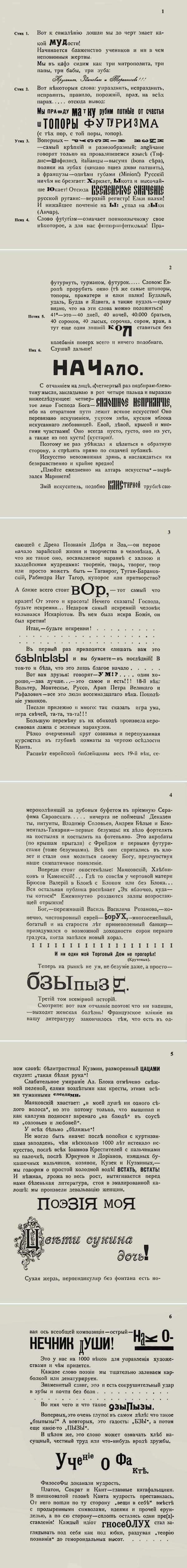 Эго-футуристская и неосимволистская разновидности футуризма существовать перестали, но кубо-футуризм не сдался. Давид Бурлюк, Каменский и Маяковский — та самая тройка, что в 1913–1914 годах предприняла своё знаменитое турне по России, — пытались приспособиться к периоду “устной литературы” (издавать книги во время революции было невозможно) и организовали в Москве футуристский ночной клуб; голод и анархия довольно быстро положили конец их начинанию. На протяжении нескольких лет авангард существовал в русских столицах в основном в области изобразительного искусства, и Маяковский оставался единственным крупным поэтом-авангардистом, хотя и ему немало времени приходилось заниматься агитационными плакатами. Футуристская литература создавалась преимущественно на окраинах России. В Харькове активно издавал книги Петников; в Тифлисе процветали Кручёных и К°; Хлебников скитался по югу России, записывая свои творения в толстую конторскую книгу (к счастью, она сохранилась, а вместе с ней — лучшие его произведения).
Эго-футуристская и неосимволистская разновидности футуризма существовать перестали, но кубо-футуризм не сдался. Давид Бурлюк, Каменский и Маяковский — та самая тройка, что в 1913–1914 годах предприняла своё знаменитое турне по России, — пытались приспособиться к периоду “устной литературы” (издавать книги во время революции было невозможно) и организовали в Москве футуристский ночной клуб; голод и анархия довольно быстро положили конец их начинанию. На протяжении нескольких лет авангард существовал в русских столицах в основном в области изобразительного искусства, и Маяковский оставался единственным крупным поэтом-авангардистом, хотя и ему немало времени приходилось заниматься агитационными плакатами. Футуристская литература создавалась преимущественно на окраинах России. В Харькове активно издавал книги Петников; в Тифлисе процветали Кручёных и К°; Хлебников скитался по югу России, записывая свои творения в толстую конторскую книгу (к счастью, она сохранилась, а вместе с ней — лучшие его произведения).
Активная группа возникла на Дальнем Востоке, где Давид Бурлюк, Асеев и Третьяков издавали журнал «Творчество». Большинство его авторов впоследствии перебрались в Читу, а оттуда — в Москву, где вместе с Н. Чужаком присоединились к Маяковскому. К тому времени (1922 год) Каменский и Кручёных уже были в Москве. Вместе с Пастернаком, Шкловским и Бриком они организовали МАФ, а затем знаменитое объединение ЛЕФ (Левый фронт искусств) и журнал под тем же названием.
История ЛЕФа — изумительная история попытки создать авангардистскую литературу на основе коммунистических идей, а также яростных литературных схваток с ортодоксальными пролетарскими писателями. В 1925 году ЛЕФ был распущен, в 1927 году снова возродился как «Новый ЛЕФ». Незадолго до смерти Маяковскому пришлось покинуть созданное им объединение и пойти на поклон к пролетарским писателям.
Что касается русского поэтического авангарда, то заслуживают внимания ещё две группы. Обе не признавали футуризм, но ни одна из них не смогла бы без него возникнуть. Это имажинисты (1919–1927), богемно-анархистские поэты во главе с Шершеневичем и Есениным, и конструктивисты (1923–1930), сочетавшие особенности ЛЕФа и дореволюционной «Центрифуги» (среди них оказался Аксёнов). Почти до конца 1920-х годов преобладающими формами футуризма были, с одной стороны, анархический индивидуализм (имажинисты, биокосмисты), с другой — тяготеющая к жизни технократическая литература (ЛЕФ, конструктивисты).
Сразу после революции возникло несколько недолговечных авангардистских групп, которые, не представляя ничего интересного в художественном отношении, чрезвычайно любопытны с исторической точки зрения. Особый интерес представляют ничевоки, фуисты и экспрессионисты. Каждая из этих групп усвоила одну-две характерных особенности “классического” футуризма и попыталась возвести на них собственное здание, производя при этом оглушительный, но непродолжительный шум. Завершением русского футуризма стали, вероятно, обериуты (Объединение реального искусства), к которым принадлежали Хармс, Заболоцкий, Олейников и Введенский: им удалось издать лишь крохи своего примитивистско-абсурдистско-дадаистского творчества.
Неверно думать, будто конец футуристской поэзии в России был вызван исключительно большевистскими запретами и преследованиями. Противостояли ей и несколько поэтических группировок неоклассической ориентации, воевавших с футуризмом “благородным” образом, то есть не с позиции силы и власти. Один из таких примеров — изданный в 1925 году в Москве альманах «Чёт и нечет». Его участники (Филипп Вермель, С. Спасский, А.В. Чичерин, Г. Винокур и другие) боролись, среди прочего, с разрушительными и “антикультурными” тенденциями футуризма, а себя характеризовали как тех, кто „вырвался из душного футуристического плена”.168![]()
Какие выводы можно сделать из изложенной мной истории (я имею в виду не те выводы, к которым приходят после длительного исчерпывающего анализа, а те, что возникают как бы сами собой)? Должен признаться, что, работая над книгой, я довольно легко пришёл к нескольким выводам и даже сделал ряд открытий. Например, с удивлением обнаружил, что кубо-футуризм прошёл три стадии развития; импрессионистскую, примитивистскую и ориентированную на слово. Сходная эволюция, хотя и менее выраженная, обнаружилась и у других групп. Я никак не думал, что «Центрифуга» окажется такой сложной, эго-футуризм таким значительным, а группа 41° такой увлекательной. Выяснилось, что Маринетти оказал на русский футуризм большее влияние, чем это было принято считать и чем признавали сами футуристы. Были открытия и не столь масштабные: альянс Маяковского с дендистами и богатая предыстория имажиниста Шершеневича, не говоря уже о существовании многочисленных поэтических произведений (Лившица, Боброва, Петникова. Аксёнова и других), которые игнорировались литературными критиками и историками. Во многих отношениях футуризм оказался гораздо богаче того, что я о нём знал. Так, вопреки утверждению Маяковского, что „подлинно футуристической прозы нет”,169![]()
Во времена дискуссий о футуризме в России (с 1913 по 1916 год, затем с 1918 по 1928 год) высказывались самые противоречивые суждения. Футуристов называли насильниками, которые „издеваются над Словом, оскопляют его, вытравляют из него душу” (Полонский) и „голубями из ковчега будущего” (Д. Бурлюк).170![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Удастся ли, познакомившись с историей русского футуризма, сказать что-либо о его сущности? Двенадцать лет тому назад, действуя в согласии с афоризмом Роберта Фроста „Храбрость прежде опыта”, я попробовал описать футуризм как особое внимание к слову, как попытку сделать слово главным действующим лицом поэзии, и, что важнее, как поэзию, созидаемую словом.175![]()
Символизм — ещё один усложняющий фактор. Для Боброва, например, футуризм означает неосимволизм, а в глазах Маяковского символизм — бесполезный хлам. Футуристы не были единодушны в своём понимании символизма и в отношении к нему, что, конечно, не оправдывает советских литературоведов, называвшим футуризм прокрустовым ложем для молодых поэтов; напротив, это одна из самых гибких поэтических теорий в России. Бесполезно искать точные очертания и образцовую чистоту в движении, объединившем, в сущности, всех тех, кто считал себя “современным”. По-видимому, самое короткое, пусть и бесполезное определение футуризма таково: „Постсимволистское движение в русской поэзии 1910–1930-х годов, объединившее все авангардистские силы”. И неважно, что эти силы были совершенно разными. Даже в такой, казалось бы, однородной футуристской группе, как «Гилея», обозначились две фракции: Бурлюка и Матюшина, не говоря о менее значительных центробежных тенденциях.
И тем не менее, во всем этом видимом хаосе существовало общее направление, о котором догадывались далеко не все участники движения. “Импрессионизм” постепенно преодолевался, поэзия медленно двигалась в направлении “чистого слова”. Движение к этому “идеалу” можно обнаружить у всех футуристских групп, хотя только Хлебников и Кручёных с группой 41° вплотную занялись его реализацией. То, что даже они не всегда являлись поэтами чистого слова, ровно ничего не доказывает. В стихосложении (по крайней мере, в русском стихосложении) чистый размер встречается крайне редко, и однако же он существует — то же самое можно сказать и о чистом футуризме. Соотношение между метром и ритмом — довольно удачная, хотя и не исчерпывающая модель взаимоотношений между теоретическим и практическим футуризмом. Надеюсь, меня простят за то, что я проявляю слишком большое нетерпение в тех случаях, когда история, преследуя идеал, движется, на мой взгляд, слишком медленно и оказывается слишком далека от совершенства.
Не составляет труда повторять банальности о том, что литературные движения ровно ничего не значат, что движения приходят и уходят, а прекрасная поэзия остается и тому подобное. Безусловно, поэтические достижения Хлебникова, Маяковского и Пастернака монументальны и не зависят от их принадлежности к футуризму. Но не будем забывать о жизни иного рода — о тех одновременно неуловимых и громоздких образованиях, которые мы обозначаем словами, оканчивающимися на -изм. Все эти группы, направления, течения, школы способны привести учёного в отчаяние, а у простого читателя вызвать чувство досады; и однако же они существуют, у них есть своя душа (местонахождение которой не всегда удаётся определить), они рождаются и умирают, а после смерти порой оставляют о себе долгую и действенную память. Я отнюдь не гегельянец, однако история русского футуризма представляется мне несовершенным и неупорядоченным проявлением эстетической идеи, согласно которой поэзия произрастает непосредственно из языка. „Идеи не есть мысли, это особый род реальности” (Лосский).

| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта | 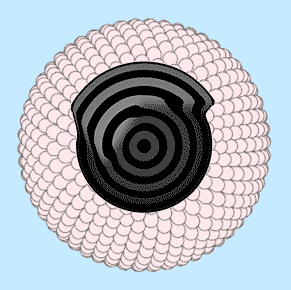 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||