

В.Ф. Марков




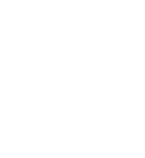 то первая книга по истории русского футуризма, хотя, насколько мне известно, не менее пяти человек (учёных, критиков, поэтов-футуристов) пытались в своё время написать такого рода труд. Две-три подобные книги наверняка хранятся в государственных российских архивах или у частных лиц, но возможность издать их в ближайшие годы по-прежнему маловероятна. Несмотря на то, что поэты и художники русского авангарда с энтузиазмом восприняли большевистскую революцию и готовы были служить молодому советскому государству, это государство отвергло и их эстетику, и практически всё, что они создали. Футуризм, пионер авангарда, долгие годы занимал свое место у “позорного столба” советской пропаганды. Это колоритное и очень влиятельное движение систематически принижали, рассматривали как „вредное буржуазное заблуждение”, а после 1930 года и вовсе перестали воспринимать всерьёз.
то первая книга по истории русского футуризма, хотя, насколько мне известно, не менее пяти человек (учёных, критиков, поэтов-футуристов) пытались в своё время написать такого рода труд. Две-три подобные книги наверняка хранятся в государственных российских архивах или у частных лиц, но возможность издать их в ближайшие годы по-прежнему маловероятна. Несмотря на то, что поэты и художники русского авангарда с энтузиазмом восприняли большевистскую революцию и готовы были служить молодому советскому государству, это государство отвергло и их эстетику, и практически всё, что они создали. Футуризм, пионер авангарда, долгие годы занимал свое место у “позорного столба” советской пропаганды. Это колоритное и очень влиятельное движение систематически принижали, рассматривали как „вредное буржуазное заблуждение”, а после 1930 года и вовсе перестали воспринимать всерьёз.Эта ситуация, естественно, привела к вполне предсказуемым результатам и, прежде всего, — к прискорбному незнанию того, чем был футуризм на самом деле, даже у тех, кто хотел бы это знать. Специалисты по русской литературе имеют, как правило, весьма одностороннее представление о том, что происходило в действительности, кто принадлежал к русскому футуризму, каковы были его цели, и чего он достиг. Само слово ‘футуризм’, равно и другие, связанные с ним термины (например, ‘заумь’) зачастую используется неверно. Короче говоря, я просто вынужден был написать эту книгу.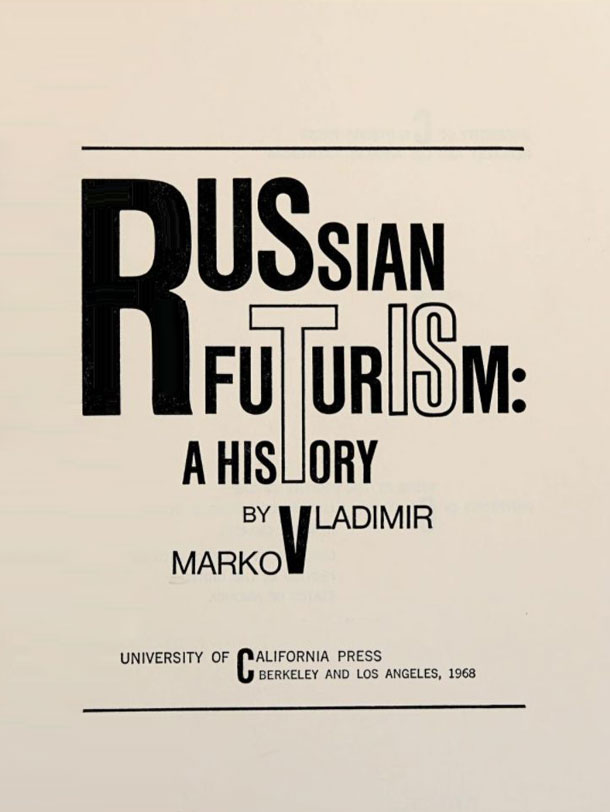 Парадоксально, что первая книга по истории русского футуризма выходит на английском языке, хотя значительная часть футуристской поэзии не только не переведена на английский, но и в принципе на него непереводима, и более того — по сей день остаётся непонятной большинству русских читателей. Этим объясняется скудность стихотворных цитат в моей книге. Вместе с тем я писал свой труд не только для тех, кто изучает русскую литературу и кое-что о ней уже знает, но и для тех, кто хотел бы расширить свои представления об истории европейского авангарда, но плохо разбирается в русской литературе.
Парадоксально, что первая книга по истории русского футуризма выходит на английском языке, хотя значительная часть футуристской поэзии не только не переведена на английский, но и в принципе на него непереводима, и более того — по сей день остаётся непонятной большинству русских читателей. Этим объясняется скудность стихотворных цитат в моей книге. Вместе с тем я писал свой труд не только для тех, кто изучает русскую литературу и кое-что о ней уже знает, но и для тех, кто хотел бы расширить свои представления об истории европейского авангарда, но плохо разбирается в русской литературе.
Стоявшие передо мной задачи были одновременно и масштабны и ограниченны. Я воспользовался уникальной возможностью ознакомиться (в оригиналах, микрофильмах и ксерокопиях) с 90% того, что было издано русскими футуристами, и с большей частью того, что было о них написано. Мне хотелось отметить все самые значительные факты и обсудить, хотя бы вкратце, все книги и главные статьи, написанные футуристами или их современниками о футуризме. Не оставлены без внимания и графоманские подражания, в такой же степени принадлежащие истории футуризма, как и признанные шедевры. Я решил дать по возможности полное описание русского футуризма, чтобы впоследствии обсудить со своими коллегами вопрос о том, чем он являлся. Этим и объясняется ограниченность моей книги: я старался избегать анализа, определений и общих рассуждений и предпочитал собирать хронологические факты и излагать тексты, уподобившись человеку, который по очереди снимает книги с книжной полки и честно пересказывает то, что в них написано. Мне кажется (возможно, я ошибаюсь), что такого рода собирание фактов предпочтительнее сосредоточенности на тех или иных аспектах русского футуризма. Я постарался представить конкретных людей и группы в процессе их постепенного роста, с тем, чтобы по прочтении моей книги читатель погрузился в атмосферу футуризма, как если бы он прожил в нём от начала и до конца, а не просто рассеянно перелистал книгу, оставив в памяти несколько анекдотических подробностей и запоминающихся определений.1![]()
Изложенный мною подход немногим отличается от составления аннотированной хронологической библиографии, и потому я не стал пренебрегать критическими суждениями о творчестве отдельных поэтов и набросал литературные портреты некоторых из них. Короче говоря, библиографию я попытался уравновесить критикой и биографией, что, конечно же, не противоречит методу снимания книг с полки, зато придает повествованию определённое единство. В противном случае оно тяготеет к аморфности и повторяемости.
Как правило, я не касался событий после революции 1917 года по той (надеюсь, убедительной) причине, что футуризм возник и в определённом смысле завершился до неё. После революции русский авангард стал очень разобщённым (хотя и не менее богатым); лишь несколько ветеранов продолжали называть себя футуристами, тогда как остальные, по крайней мере, внешне, выступали против футуризма, что, впрочем, не мешало им без зазрения совести заимствовать у него всё, что только можно.
С превеликой горечью сознаю я многочисленные несовершенства своей книги. Я не использовал архивные материалы и лишь частично воспользовался газетами и журналами того времени. И всё же не менее 85% материала, представленного в книге, большинству исследователей русской литературы до сих пор не было известно. Наверняка они впервые познакомятся (приведу лишь несколько примеров) с группами «Центрифуга» и «Мезонин поэзии», с историей эго-футуризма, с группой «41°», с поэзией Лившица и Боброва, с дореволюционным творчеством Шершеневича.
Но и как средство описания эта книга — лишь первый этап; вторым этапом должно стать изучение русского футуризма после революции. Следует уяснить также значение русского футуризма в контексте русского (и европейского) модернизма. И, конечно же, необходимо издать полную антологию русской футуристской поэзии, прозы и литературной теории. Часть этой работы я собираюсь проделать, и только после того как она будет полностью выполнена, настанет время задуматься о природе и смысле русского футуризма.
И ещё одно замечание. Начиная с главы 5 (особенно в главе 7), читатель будет расставаться с главными поэтами-футуристами по мере того, как те покидают движение или движение прекращает своё развитие. Он узнает об этом во вставных очерках, в “эпилогах” которых говорится о послереволюционной деятельности тех или иных поэтов. Объёмы эпилогов существенно разнятся, и этому есть объяснение. У поэтов, чье творчество после 1917 года хорошо изучено (Маяковский, Хлебников, Асеев), эпилоги сравнительно короткие; о тех же, кто обойдён вниманием исследователей, говорится подробнее. Больше других пострадал, вероятно, Хлебников (которого я считаю величайшим поэтом-футуристом в России и одним из величайших поэтов-авангардистов во всём мире), однако я подробно проанализировал его поэмы в книге «The Longer Poems of Velimir Khlebnikov», где изложил биографию поэта и дал краткий обзор его творчества.
Описывай, не мудрствуя лукаво.
Александр Пушкин
Футуризма как единого, точно формулированного течения в России
до Октябрьской революции не существовало.
Владимир Маяковский
Я затрудняюсь указать ту точку, где термин ‘футуризм’ мог бы
быть действительной характеристикой нашего движения.
Бенедикт Лившиц
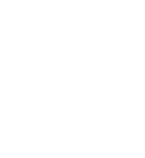 ту книгу можно было бы начать в духе романов Тургенева или Гончарова: „Осенним днем 1908 года, около десяти часов утра, в редакции петербургского еженедельника «Весна», где печаталось буквально всё, отворилась дверь, и в неё робко вошёл высокий светловолосый юноша в студенческом пальто. Юношу звали Виктором Хлебниковым, редактора — Василием Каменским. Каменский был молодой человек двадцати четырёх лет, одетый в...”. Такой была первая встреча двух поэтов, впоследствии связавших свою судьбу с футуризмом. Более того, благодаря этой встрече было впервые опубликовано хлебниковское сочинение, которое вполне заслуживало названия “футуристическое”, если бы это слово тогда уже существовало2
ту книгу можно было бы начать в духе романов Тургенева или Гончарова: „Осенним днем 1908 года, около десяти часов утра, в редакции петербургского еженедельника «Весна», где печаталось буквально всё, отворилась дверь, и в неё робко вошёл высокий светловолосый юноша в студенческом пальто. Юношу звали Виктором Хлебниковым, редактора — Василием Каменским. Каменский был молодой человек двадцати четырёх лет, одетый в...”. Такой была первая встреча двух поэтов, впоследствии связавших свою судьбу с футуризмом. Более того, благодаря этой встрече было впервые опубликовано хлебниковское сочинение, которое вполне заслуживало названия “футуристическое”, если бы это слово тогда уже существовало2Но начинать подобным образом было бы слишком самонадеянно. У русского футуризма более сложное начало, которое трудно точно обозначить, у него несколько источников, и прежде чем заниматься его историей, необходимо упомянуть хотя бы два из них.
Первый: яркий феномен русского символизма (или декадентства) — удивительное явление русской поэзии, возникшее в 90-х годах XIX века и до неузнаваемости изменившее русскую литературу. Символизм нанёс смертельный удар по уже загнивающему реализму, Россия вновь повернулась лицом к Европе, литература которой буквально бурлила новыми идеями, и после десятилетий застоя заставила поэтов осознать своё место в литературном процессе. Но ещё важнее то, что символизм вызвал к жизни таких замечательных поэтов, как Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Зинаида Гиппиус, Фёдор Сологуб, Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый, Михаил Кузмин, имена которых то и дело будут появляться на страницах этой книги. Зрелище поистине величественное: горстка образованных и непростых для восприятия поэтов, сочинявших исключительно для избранных, подвергла пересмотру всю иерархию эстетических ценностей. В стране, где читающую публику с 40-х годов XIX века направляли политически ориентированные интеллигенты, которые использовали литературу как иллюстрацию к своим вполне благонамеренным, но многословным и однообразным рассуждениям в духе социальной критики и вообще не видели в поэзии особого смысла, в этой стране символисты стали господствующей и победоносной силой.
Те, кто впоследствии назвал себя футуристами, не смогли не испытать влияния символистических “отцов”;3![]()
![]()
![]()
Вторым важным источником русского литературного футуризма была русская авангардная живопись.6![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Помимо символистских истоков русского футуризма и его симбиоза с авангардной живописью, следует указать на связь русского футуризма с западноевропейской поэзией,11![]()
![]()
![]()
Относительно импрессионизма в изобразительном искусстве нет, кажется, ничего неясного, зато импрессионизм в литературе до сих пор плохо исследован. Собственно говоря, импрессионизм означает “как я вижу в данный момент”, но нетрудно представить себе два совершенно разных и даже взаимоисключающих пути, берущих начало в этой исходной точке. Первый из них — желание представить мгновение реальности с максимальной объективностью. И именно это случилось во французской живописи, особенно у такого “классического” импрессиониста, как Клод Моне („Это только глаз, но какой глаз!” — воскликнул о нём Сезанн). Второй путь прямо противоположен. Достаточно только в утверждении “как я вижу” перенести ударение с вижу на я — и объективность окажется в опасности. Импрессионизм в литературе ставит ударение именно на я. Конечно, у литературного символизма нетрудно отыскать особенности, сближающие его с импрессионизмом в живописи: размытые очертания предметов, широкие мазки (не надо, впрочем, забывать, что в литературном контексте такого рода выражения являются метафорами и употреблять их следует очень осторожно), “случайные детали”, вынесенные на передний план, и так далее,14![]()
![]()
Ранние футуристы вовсе не собирались примыкать к Зайцеву.16![]()
![]()
![]()
Среди тех, кто был близок к футуризму и футуристам в художественной среде России 1910-х годов, укажем на такие колоритные фигуры, как Николай Евреинов (1879–1953), режиссёр, драматург, теоретик и историк театра, и Николай Кульбин. Оба принадлежали к неоимпрессионистам, но Кульбин заслуживает особого внимания. Не входя ни в одну футуристскую группу, Кульбин был настолько близок к авангарду своего времени, что один из современников называл его впоследствии истинным футуристом, которому удалось выразить программу футуризма задолго до его возникновения.19![]()
Николай Иванович Кульбин (1868–1917) был человеком, казалось бы, немыслимым для модернистской богемы. Приват-доцент Военно-медицинской академии, врач Генерального штаба, действительный статский советник — и ко всему прочему художник, фанатичный покровитель авангардистских начинаний, организатор выставок модернистов («Импрессионисты», «Треугольник», «Венок–Стефанос»), неутомимый пропагандист (посредством публичных лекций) новых идей в искусстве. Его опыты в живописи были довольно эклектичны, в них прослеживалось влияние кубизма, Гогена и русской иконы. Кульбин проповедовал „свободное искусство”, называл себя импрессионистом и „интуитивистом”, но правильнее, пожалуй, назвать его авангардистским индивидуалистом-эклектиком. Во всём разнообразии импрессионистского движения в России он был, вероятно, самым субъективным художником. Его основной принцип: „Кроме своих собственных ощущений “я” ничего не знает, и, проецируя эти ощущения, оно творит свой мир”.20![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
В «Студии импрессионистов» Кульбина несколько ведущих футуристов впервые были замечены и предстали на суд читающей публики. Книга была издана в Петербурге в марте 1910 года, за два месяца до появления «Садка судей» и является своеобразным прологом к истории русского футуризма. Открывает её статья самого издателя «Свободное искусство как основа жизни». В ней Кульбин подчёркивает значение диссонанса, в котором он видит проявление жизни, и приводит соответствующие примеры из Софокла, «Слова о полку Игореве» и «Гамлета». Он не отвергает и не отрицает гармонии, даже абсолютной гармонии, т.е. смерти. Кульбин заявляет, что смерть вовсе не есть отсутствие жизни, но лишь отдых от жизни, и делает отсюда вывод: „Нета нет”. Далее Кульбин рассуждает о необходимости “теории искусства” в помощь людям творчества и даже пытается дать несколько путаный набросок такой теории, усматривая источники искусства в природе и психологии художника, для которого искусство является откровением. Статья Кульбина, поначалу ясная и последовательная, постепенно становится бессвязной и хаотичной; в её завершение автор обращается к музыке и указывает, как достичь здесь новизны (четвертьтоновая музыка, “цветовая” музыка, „упразднение нотного стана”). Часть книги содержит образцы дилетантской поэзии, преимущественно в символистской традиции, порой с попытками наивного эксперимента (в одном стихотворении, например, обыгрываются формы прошедшего времени). Остальные статьи посвящены самой разной тематике — от яванского кукольного театра до проблем живописи в музыке, есть здесь и монодрама Евреинова «Представление любви» (жанр которой автор относит к „самым совершенным формам драмы”), наверняка задуманная как piece de resistance. И, наконец, пять коротких стихотворений, подписанных именами, которые вскоре станут широко известными и знаменитыми. Два произведения Давида Бурлюка звучат невнятно и разочаровывают своей символистской тональностью. Его брат Николай представлен одним стихотворением. Как и стихи Давида, оно написано в символистском ключе, однако демонстрирует чувство языка и даже стиля. Зато два стихотворения никому не известного тогда Велимира Хлебникова — подлинные шедевры. Одно из них, «Были наполнены звуком трущобы», представляет вполне законченного мастера-примитивиста, второе, «Заклятие смехом», и по сей день остается самым знаменитым стихотворением Хлебникова, нередко затмевающим собой более выдающиеся его сочинения. Это опыт поэтического исследования возможностей словотворчества в русском языке путём прибавления различных суффиксов и приставок к корню ‘смех’:
Понятно, что в журналах и газетах над этим стихотворением издевались, особенно после того как Маяковский принялся то и дело читать его на своих публичных выступлениях; нашлись, однако, критики, пришедшие от него в восторг. Одним из них был Корней Чуковский, который, процитировав стихотворение in toto, воскликнул: „Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь!”28![]()
По-настоящему единой группой русские футуристы предстали перед публикой в сборнике «Садок судей», вышедшем в апреле 1910 года, через год после рождения итальянского футуризма. Первенство итальянцев было, естественно, русским неприятно: называя свои произведения “футуристическими”, они постоянно подчёркивали свою независимость от итальянских поэтов, а то и пытались доказать свое первородство. Название для сборника придумал Хлебников, о чём нетрудно догадаться по сочности его звучания: одинаковые согласные при разных гласных предваряют хлебниковскую теорию внутреннего склонения. Смысл названия несколько двусмыслен, что для Хлебникова тоже характерно. Его можно понять как “западня для судей” в том смысле, что литературные критики-традиционалисты, конечно же, прозевают появление новой литературы, ибо у них нет критериев для её оценки. Возможно и другое понимание — “инкубатор судей”, и в этом случае книга оказывается колыбелью новых судей русской литературы и одновременно её творцов. Неудивительно, что даже соратник Хлебникова по футуризму Виктор Шкловский находил это двусмысленное и грамматически не совсем ясное название „несколько загадочным”.29![]()
![]()
У сборника есть своя предыстория, возвращающая нас в 1908 год (этот год совпал с появлением во Франции кубизма), когда в Петербург приехал Давид Бурлюк, участник нескольких модернистских художественных выставок, и познакомился здесь с Кульбиным, а затем и с Каменским. Каменский, уже знавший Хлебникова, был знаком с возглавляемой Кульбиным группой художников, в которую входили Елена Гуро и её муж Михаил Матюшин. Группа, называвшаяся «Треугольник», через некоторое время вступила в союз с группировкой «Венок–Стефанос» в которую входил Давид Бурлюк со своим братом Владимиром (она представляла собой часть группы художников, выставлявшихся в Москве под названием «Стефанос»), В результате нового альянса в марте – апреле 1910 года в Петербурге состоялась выставка, была издана «Студия импрессионистов» и началась подготовка к изданию «Садка судей».
Одним из главных авторов «Садка судей» был художник и поэт Давид Давидович Бурлюк31![]()
![]()
![]()
![]()
У Давида Бурлюка было два брата, и оба участвовали в новом художественном движении. Владимир (1888–1917), добродушный великан, кровь с молоком, стихов не писал, зато иллюстрировал некоторые футуристские издания. Николай (1890–1920), напротив, писал стихи и прозу. Лившиц описывает его так: „застенчивый ‹...› он отличался крайней незлобивостью ‹...› был подлинный поэт, то есть имел неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи”.35![]()
Василий Васильевич Каменский (1884–1961), прежде чем стать автором «Садка судей», вёл непростую и яркую жизнь, которую впоследствии подробно описал в пяти автобиографиях. Он родился на Урале, в семье смотрителя золотых приисков, рано остался сиротой и детство провёл в семье своего дяди в Перми, где позднее работал конторщиком на железной дороге. Каменский дважды побывал в Турции (1902, 1906), в Персии (1906) и был потрясён сказочным колоритом этих стран. Через некоторое время он бежал от унылой провинциальной жизни с труппой бродячих актёров. Его выступление видел в Ялте Антон Чехов, но вскоре Всеволод Мейерхольд, совсем ещё юный и никому не известный режиссёр, убедил Каменского бросить сцену. В 1905 году Каменский, член партии социалистов-революционеров, принял активное участие в революции, и после её поражения сидел в тюрьме. Затем он переехал из Перми в Петербург, где учился на высших сельскохозяйственных курсах. Диапазон его деятельности был невероятно широк: от чтения лекций по проблемам пола до реставрации старинных икон.
В 1908 году Каменский, чьи литературные занятия до сих пор ограничивались статьями на злобу дня и сочинением “гражданских” стихов для пермской газеты, стал постоянным сотрудником, а вскоре и главным редактором петербургского еженедельника «Весна»,36![]()
![]()
Виктор Владимирович Хлебников, сменивший своё имя на Велимир (так его называли в одном литературном салоне), родился в 1885 году в калмыцкой степи под Астраханью в семье орнитолога. Его семья недолгое время жила на Волыни, затем в Симбирске и Казани и, наконец, осела в Астрахани. Хлебников питал страстную любовь к математике, которую изучал в Казанском университете, потом увлёкся зоологией. Когда этот застенчивый юноша впервые побывал в 1904 году в Москве, он отправил родным письмо,38![]()
О ранних сочинениях Хлебникова почти ничего не известно; по слухам, он посылал что-то на отзыв Максиму Горькому. Несколько сохранившихся прозаических отрывков, датированных 1903 и 1904-м годами, — явное подражание русскому фольклору. Произведения 1905 года отмечены влиянием символизма. После неудачного опыта с политикой и тюремного заключения Хлебников оказался в Крыму, где познакомился с Вячеславом Ивановым, влиятельным и образованным вождём символистского движения, которому Хлебников очень понравился. В 1908 году Хлебников перебрался из Казани в Петербург, вскоре оставил занятия зоологией и перешёл на славянское отделение историко-филологического факультета. Для университетских занятий у него совсем не оставалось времени: вероятно, не без помощи Вячеслава Иванова он вошёл в петербургские литературные круги, стал посещать собрания «Академии стиха» и литературные среды в знаменитой “башне” Вячеслава Иванова. «Академия стиха», которую возглавляли Вячеслав Иванов, Николай Гумилёв и ещё один покровитель Хлебникова, Михаил Кузмин, возвышалась над всеми литературными группами. Поэты самого разного возраста и известности читали здесь стихи, предоставляя их профессиональному суду своих коллег. Собрания проходили раз в месяц у Вячеслава Иванова, но с октября 1909 года переместились в редакцию влиятельного художественного журнала «Аполлон». Поначалу Хлебников был полон радужных ожиданий. Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные,39![]()
Издателю «Аполлона» Сергею Маковскому поэзия Хлебникова должна была казаться не просто непонятной, но полнейшей чепухой, где невозможно отыскать и пары приличных строк. За всю свою жизнь Маковский так и не сумел принять поэзию Блока, поскольку в её основе лежала катахрезная образная система,40![]()
![]()
![]()
Елена Гуро (1877–1913) в среде ранних футуристов казалась чужой. Единственная женщина среди мужчин (большинство которых старалось выглядеть в стихах и жизни как можно более мужественными, шумными и яркими), она была тихой и замкнутой, избегала общества и в своей работе сосредоточилась на тончайших нюансах. Уже одно то, что Гуро родилась в Петербурге в генеральской семье (поговаривали даже, что она незаконная дочь императора), отделяло её от товарищей-футуристов, в большинстве своём разночинцев и провинциалов. Гуро была профессиональной художницей; окончив школу Общества поощрения художеств, она работала под руководством таких знаменитостей, как Ционглинский, Бакст и Добужинский, и имела собственную мастерскую. В Финляндии у неё была своя дача, где впоследствии она умерла от лейкемии. Гуро прекрасно знала французскую поэзию, её творчество свидетельствует и об интересе к германской и скандинавской литературе. Любимыми авторами Гуро были Верхарн, Вьеле-Гриффен, Александр Блок, Иван Коневской, Андрей Белый (особенно «Симфонии»), Ремизов.
Среди русских футуристов Гуро, вероятно, известна меньше остальных, хотя она — одна из самых оригинальных и талантливых русских писательниц — явно заслуживает иной участи. Гуро дебютировала в 1905 году рассказом «Ранняя весна» в «Сборнике молодых писателей», не обратившем на себя особого внимания. Некоторые её сочинения были опубликованы в пяти футуристских альманахах. Сборник «Трое», в котором она участвовала, вышел после смерти Гуро, как и три последние её книги. Анонсированное издание «Бедного рыцаря» так и не состоялось, хотя Маяковский даже в 1917 году продолжал уговаривать Горького напечатать его.
В период подготовки «Садка судей» к печати Гуро уже была автором «Шарманки», которая появилась в феврале 1909 года и совершенно не привлекла к себе внимания, несмотря на то, что в ней Гуро заявила о себе как о зрелом и интересном писателе. Большинство иллюстраций к тексту она сделала сама. Хотя в прозе, поэзии и особенно в драматических произведениях этой книги безошибочно угадывается влияние символизма, Гуро воспринимается в ней как, пожалуй, самый характерный представитель русского импрессионизма. Её импрессионизм особенно заметен в первой части книги, где представлено восемь образцов прозы. Например, рассказ «Перед весной» — импрессионистское описание Петербурга сначала в дневное время, затем в сумерки; героиня, не в силах сидеть в четырёх стенах, выходит на улицу, измученная возвращается домой, не раздеваясь, падает на кровать и засыпает. В рассказе ничего не происходит. Беглые описания прохожих, воспоминания о Ницце, нищий, которому героиня — она же рассказчица — подаёт милостыню, цветочный магазин, куда она случайно забредает и пытается представить себе воображаемую жизнь его хозяев (здесь Гуро вплотную подходит к технике “потока сознания”)... Всё содержание рассказа и составляют „лёгкие, чуть касающиеся до всего мысли”, мимолётные, эфемерные состояния сознания бесцельно бродящей по городу рассказчицы. Чтобы выразить эти „лёгкие касания”, Гуро зачастую прибегает к коротким и даже однословным предложениям: „Чисто умытая. Сыро. Ветерок... — И светлая”. Ещё в двух рассказах (их можно назвать урбанистическими) — такие же отрывки впечатлений от города, преимущественно ночного, нередко не связанные друг с другом и перемежаемые фрагментами, в которых автор пытается представить себе, что творится в головах встречных людей, в комнатах за освещёнными окнами, что может случиться с тем или иным прохожим... Порой появляется намёк на фабулу (например, в рассказе «Так жизнь идёт», где городские впечатления и болезненные переживания принадлежат девочке-подростку Нельке, которая думает о мужчинах и над которой издевается отчим), но рассказ так ничем и не завершается. Время от времени встречается и откровенный символизм, как, например, в рассказе «Песни города», где среди городской толпы возникает вдруг таинственный Король.
Гуро не только поэтизирует город, но и благоговеет перед природой, как это видно из рассказов, фоном для которых служит сельская местность (обычно это финская дача среди сосен на берегу залива). Гуро почти уравнивает природу с поэзией: „Возьмите комок чёрной земли, разведите его водой из дождевой кадки или из канавки, и из этого выйдут прекрасные стихи”. Природа у неё напоминает человека (совершающие творческие усилия деревья и камни из рассказа «Да будет»), но, с другой стороны, человечество лишается порой всяких признаков цивилизованности, как в этом же рассказе, где современная жизнь представлена извечной жизнью доисторических людей. В своих попытках одушевить вселенную Гуро нередко превращает мёртвые вещи в живые. В её прозе „спинки стульев улыбаются”, „тёмный день сгорбился и совсем ушёл в плечи”, „комод и кресло видят за пределы мира” — они тесно связаны с великой Судьбой. Пытаясь приблизиться к природе, обрести её свежесть, Гуро особое внимание уделяет детству. Вещи в её произведениях нередко изображены так, как их видит или воображает ребёнок. В прозаической миниатюре «Домашние» на улице идёт дождь, и ребёнку являются разные фантастические существа. Дети способны не только видеть вещи словно впервые, но и слышать слова в их изначальной новизне. В одном рассказе девочки приезжают в только что выстроенный загородный дом, слышат там разговоры взрослых о кирпичном заводе и доставке газовой смолы, и „новизна, и подъём от новых, свежих, не сношенных обиходом слов и названий — грубовато-твёрдых, передавались нам”. Чем не футуризм с его стремлением к обновлению слова?.. Однако такое утверждение звучит анахронизмом по отношению к книге, изданной в начале 1909 года. Слово “импрессионизм” здесь гораздо уместнее, и знатоку русской литературы это место напомнит чеховский рассказ «Мужики», в котором простую женщину до слёз трогают непонятные ей слова Евангелия.
Поэзия Гуро в целом не столь удачна и самобытна, как проза. Чем лучше стихи укладываются в традиционные метры, тем менее непринуждённо она себя чувствует. В первой книге ей уже известен вкус акцентного стиха, кое-где она близка к верлибру. Можно отметить определённое пристрастие к германской тематике (Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам у гроба Елизаветы). С другой стороны, лирика Гуро, её ритмизованная проза свидетельствуют о зрелой, уверенной руке, фрагментарность композиции подчёркивается отточьями, отделяющими части “рассказов” друг от друга. Гуро использует и более оригинальные изобразительные средства для обрамления прозаических отрывков и создания определённого настроения: листики, елочки, звёздочки, кружки с точками — всё это располагается в тексте или на полях.
Лучший рассказ в «Шарманке», пожалуй, «Порыв»: история знакомства и дружбы двух встретившихся в дачном посёлке писательниц, у одной из которых больное сердце. В том, как излагается эта история, явно проглядывает импрессионистская манера. Сначала читателю ничего не известно ни о героинях рассказа, ни о том, что, собственно говоря, происходит. Постепенно, главным образом из отрывочных диалогов, отношения между персонажами и коллизии их жизни проясняются. Завершая повествование, Гуро отказывается “закончить историю”, и рассказ как бы повисает в воздухе. Налицо влияние символизма, особенно Андрея Белого: рассказ ведётся в нескольких планах („сквозь ёлки вечность улыбалась”), а женщины оказываются некими метафизическими сущностями („где-то в мирах два луча друг за друга зацепились”). Помимо разделов «Проза», «Мелочи» и «Стихи» в «Шарманке» есть раздел «Пьесы» с двумя лирическими драмами — «Нищий Арлекин» и «В закрытой чаше». Обе пьесы добротно выстроены, но обе, к сожалению, слишком блоковские.
Бóльшую часть следующей книги Гуро «Осенний сон», вышедшей в свет в 1912 году, занимает пьеса под тем же названием. Пьеса написана в память об её якобы умершем сыне, о котором она продолжала думать как о живом, покупала ему игрушки и рисовала таким, каким он ей представлялся. В рисунках к «Осеннему сну» — это высокий худощавый юноша лет восемнадцати с задумчивым благородным лицом. Герой пьесы барон Вильгельм Кранц, возвышенный мечтатель, над которым посмеиваются грубые неотёсанные обыватели, — ещё одно воплощение образа Дон Кихота и вместе с тем воображаемый портрет сына Гуро. В конце пьесы Гуро выводит довольно известную мысль о торжестве грубой действительности над романтическим идеалом, сулящим нам, однако, вечную жизнь. За пьесой следуют несколько типичных для Гуро отрывков лирической прозы: например, описание человека по имени Буланка, на которого с треском садятся стрекозы. Третья книга Гуро «Небесные верблюжата» была издана в 1914 году, после её смерти, в апогей развития русского футуризма. Это очень характерная для Гуро книга: сквозь буквы заголовка прорастают листья, две фотографии автора, многочисленные иллюстрации; пожалуй, лучшая её книга. Она содержит лирические миниатюры в прозе и несколько верлибров, которые не распределены по разделам, как в «Шарманке», а свободно сменяют друг друга, стирая грань между поэзией и прозой. Фрагментарность книги усиливается тем, что озаглавленные и неозаглавленные произведения напечатаны так, что зачастую трудно понять, является ли этот отрывок самостоятельным произведением или продолжением предыдущего. В книге присутствуют уже знакомые темы и мотивы: деревья, весна, молчание, земля, природа вообще, верность своей молодости и мечтам, угловатая застенчивость детей и поэтов, одушевлённые предметы, Дон Кихот... Несмотря на некоторую неровность письма, чувствуется уверенная рука и присущая Гуро очаровательная чистота души. Камертон всей книги — первый отрывок «Газетное объявление», насыщенный детскими фантазиями и очень серьёзными интонациями; в нём рассказывается о том, как ловят „небесных верблюжат” — добрых светлых духов, как собирают их пух, ткут из него фуфайки, а духов выпускают обратно в небо. Фантазии и лирические зарисовки реальной жизни свободно переплетаются с морализирующими рассуждениями. Заключительная миниатюра «Обещайте!» призывает людей не предавать свою мечту и творчество; этот отрывок был прочитан на похоронах Гуро. В «Небесных верблюжатах» Гуро воздает должное футуристическому увлечению неологизмами, хотя использует их довольно редко; самые удачные созданы в манере детской речи.
Елена Гуро — камень преткновения для каждого, кто хочет нарисовать цельную картину русского футуризма. На первый взгляд она ничуть не похожа на футуристов, и некоторые критики протестуют против её причисления к ним.43![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
По-видимому, истинное значение Гуро и её место в литературе можно установить только в процессе исследования её творчества в общем контексте русского импрессионизма, что не является моей задачей. Неслучайно в самой импрессионистской книге Василия Каменского «Землянка», изданной в 1910 году, заметно влияние Гуро. Можно предположить, что источник импрессионизма Гуро имеет отчасти чужеземное происхождение, но такое предположение нуждается в тщательной и подробной проверке. Заимствовать из немецко-австрийской литературы, в которой импрессионизм проявил себя в самом чистом виде, было вполне естественно. Например, среди произведений австрийского импрессиониста Петера Альтенберга (особенно в его «Was mir der Tag zutragt», 1901) мы находим прозаические миниатюры, наброски, заметки, отрывки диалогов, порой перебиваемые верлибром, — впрочем, Альтенберга отличало от Гуро гедонистическое восприятие мира. В интонациях Гуро нетрудно уловить отголоски импрессионистских произведений Райнера Марии Рильке, особенно «Записок Мальте Лауридса Бригге»; у Рильке мы находим знакомое по произведениям Гуро одушевление предметов. Тем не менее питавшие творчество Гуро источники глубже и сложней. Её верлибры, вероятно, многим обязаны Вьеле-Гриффену, а прозаические миниатюры — Ремизову («Посолонь»). В третьем выпуске «Союза молодёжи» анонимный автор пытался связать творчество Гуро с живописью Артура Фонвизина;48![]()
![]()
Большинство футуристов с уважением относились к творчеству Гуро и способствовали росту её прижизненной и посмертной известности. Но были и такие, кто оценивал значение Гуро гораздо сдержаннее и называл её произведения „смесью Метерлинка с Жаммом, разведённой на русском киселе” и даже „тихой мелопейей обескровленных слов, которыми Гуро пыталась переводить свое астральное свечение на разговорный русский”.50![]()
![]()
Елена Гуро оказала сильное влияние на малоизвестную поэтессу Аду Владимирову; хорошо известная в 20-е годы поэтесса Мария Шкапская назвала свой сборник строкой из пьесы Гуро («Барабан строгого господина»). Влияние Гуро на Бориса Пильняка и Полетаева, пожалуй, несколько преувеличивают.52![]()
![]()
![]()
Одним из издателей «Садка судей» был муж Елены Гуро Михаил Васильевич Матюшин (1861–1934), художник, музыкант и композитор, увлечённый проблемами четвертьтоновой музыки. Матюшин был первой скрипкой в оркестре Петербургской филармонии, а кроме того — издателем второго тома «Садка судей», «Рыкающего Парнаса», сборника «Трое» и нескольких книг (Гуро, Хлебников) в издательстве «Журавль», часть которых он сам иллюстрировал. Матюшин писал статьи о цвете и редактировал русский перевод книги Глеза и Метценже «О кубизме».
Таковы главные силы русского футуризма, собравшиеся на страницах «Садка судей», небольшого формата книге с красными пятнами на светло-серой обложке и наклеенной цветной полосой с названием. Тексты были напечатаны на обратной стороне обоев, лицевая сторона которых осталась нетронутой и не пронумерованной. Произведения набраны без отступа друг от друга, так что не всегда удаётся понять, новое это произведение или продолжение старого. Впрочем, на полях они обозначены номерами опусов (вероятно, идея принадлежала Давиду Бурлюку, который продолжал делать так на протяжении всей жизни). В книге девять рисунков Владимира Бурлюка, в основном — портреты авторов, в текстах нет ятей и твёрдых знаков. Использование обоев вызвало некоторые трудности при печати: печатникам приходилось то и дело счищать краску обоев с печатных форм. Давид Бурлюк позднее вспоминал: „Наши прихоти вызвали в типографии массу недовольства”.55![]()
![]()
Книгу открывают двенадцать стихотворений Василия Каменского (большинство из них с незначительными изменениями и дополнениями вошли в его роман «Землянка»), воспевающие природу и радости жизни. Неоруссоизм Каменского ярче всего выражен в стихотворении «Ростань», в котором поэт делит человечество на две части: тех, кто по утрам, умывшись, вытирается полотенцем, и тех, кто просто катается по росистой поляне. Некоторые стихотворения громозвучны и цветасты, в них прославляется солнце и день, они переполнены восклицаниями, однако большинство носит описательный характер и содержит массу подробностей. Так, в одном стихотворении описывается, как герой лежит на высокой зелёной горке и слушает звуки, наполняющие окрестные поля; в другом, лёжа на краю плота, он наблюдает за плавающими в воде рыбами. Каменский хорошо знает природу, но, кажется, у него недостаёт средств её описания, и он прибегает к непосредственному выражению своих чувств. Образы встречаются редко, да и те в зачаточном состоянии. Большинство стихотворений написаны верлибром, хотя есть и образцы традиционного метрического стихосложения, иногда попадается рифма. Влияние Хлебникова просматривается в робком и неуверенном употреблении неологизмов („журчеёк чурлит”, „грусточки”); одно стихотворение посвящено Хлебникову. Самое “футуристическое” стихотворение — «На высокой горке», с грубоватым языком и предлогом в конце одной строки. Критики не упустили случай посмеяться над этим стихотворением.57![]()
Слово “свежесть” приходит в голову и тогда, когда беглым взглядом окидываешь шесть поэтических и прозаических произведений Гуро. Несомненно, они несут на себе следы символизма, но в них присутствуют и индивидуальные особенности, например, пристальное внимание к атмосфере детства. Впрочем, стихи Гуро из «Садка судей» её лучшими произведениями не назовёшь, за исключением разве что «Камушков» — очаровательного стихотворения с одушевленными предметами и детскими неологизмами.
Хлебниковский вклад в «Садок судей», как и следовало ожидать, на голову выше вклада остальных авторов, хотя выбор произведений типичным для него признать нельзя. Это изумительный «Зверинец», написанный в духе Уитмена, и первая часть поэмы «Журавль», в которой гигантская птица, сделанная из неодушевлённых предметов, терроризирует человечество. Но самая интересная работа, конечно, — «Маркиза Дэзес», прекрасная ранняя драма в стихах, чьи диалоги, как указывают исследователи, восходят к «Горю от ума» Грибоедова.58![]()
Ничего похвального по адресу Николая Бурлюка с его восемнадцатью стихотворениями сказать невозможно — это третьеразрядный поэт символистской школы. Стихи его — чистейшей воды дилетантские опусы, в них нет ни чувства языка, ни намёка на самобытность, хотя он и делает порой неуклюжие попытки смешать разные стили. Этим он напоминает Хлебникова с одним-единственным отличием: Хлебников достигает смешением безусловного поэтического эффекта, а Н. Бурлюк тонет в им же созданном хаосе.
Эти слова приходится повторить и о девятнадцати стихотворениях Давида Бурлюка. Их вряд ли можно назвать удачными по содержанию и технике, но нельзя не заметить пристрастия автора к теме насилия: в них не менее четырех самоубийств. Лившиц увидел в стихах Бурлюка „тяжеловесный архаизм и незавершённость формы”59![]()
![]()
Среди участников «Садка судей» есть три малоизвестных автора, два из которых появляются в футуристских изданиях в первый и последний раз. Под псевдонимом Е. Низен скрывается сестра Елены Гуро Екатерина (1875–1972). «Садок судей», таким образом, оказался почти двухсемейным предприятием: Елена Гуро, её сестра и муж, с одной стороны, и три брата Бурлюка — с другой. О Екатерине Гуро известно только то, что за свою социал-демократическую деятельность она была выслана в Вятку. В «Садке судей» напечатаны два прозаических отрывка, написанные под явным влиянием сестры, но очень интересные и совершенно не ученические; это комбинация импрессионистских приёмов с чисто символистскими образами горбунов и карликов. Первый рассказ («Детский рай») представляет собой описание детской площадки в дачном посёлке и использует важный приём, впоследствии названный критиками-формалистами „остранением”: вместо слова ‘дети’ употребляется выражение „маленькие животные”, а их матери зовутся „лиловыми”. Другой рассказ («Праздник») вводит читателя в мир мыслей и чувств ребёнка (который стоит у окна, смотрит на улицу и, наконец, засыпает) и в мысли случайных прохожих на улице.
Очаровательное прозаическое произведение «В дороге» принадлежит Сергею Николаевичу Мясоедову (1884–1942); в нём рассказывается, как поезд долго везёт людей в загадочную страну Блейану; повествование обрывается в тот момент, когда поезд вот-вот должен пересечь границу. Мясоедов был по профессии учителем математики. В детстве он изобрёл со своими братьями какой-то особый язык, на котором они говорили. В 1911 году Хлебников спрашивает в одном из писем у своего адресата, пишет ли Мясоедов, и добавляет, что о„н мог бы создать большое и прекрасное”.61![]()
Одно стихотворение в «Садке судей», написанное в символистском, “музыкальном” стиле, принадлежит А.М. Гею, единственному участнику сборника, портрет которого отсутствует. Гей — псевдоним Александра Митрофановича Городецкого (1886–1914), брата поэта Сергея Городецкого.62![]()
Давид Бурлюк и Каменский считали «Садок судей» отправной точкой русского футуризма и вспоминали о нём с восторгом и нежностью; однако в ретроспективе вряд ли можно говорить о сборнике как о великом событии или крупном успехе. В 1910 году вышла лучшая книга Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец»; Валерий Брюсов подвёл итог самому значительному периоду своего творчества в книге «Все напевы»; Андрей Белый доказал «Серебряным голубем», что он первоклассный романист, и внёс весомый вклад в эстетику символизма, выпустив сборник статей «Символизм»; Николай Гумилёв вошёл в русскую поэзию книгой стихов «Жемчуга». На этом фоне «Садок судей» с его неровным и не вполне характерным набором произведений, отдававших порой дилетантством, остался незамеченным. Его радикализм сейчас почти неприметен, если, конечно, не считать, что напечатанная на обоях книжка означает революцию в литературе; пропущенные авторами “еры” через несколько лет были упразднены большевиками отнюдь не под влиянием «Садка судей» (и прежде находились люди, которые это делали).63![]()
«Садок судей» был всё же замечен двумя ведущими критиками того времени. По словам Валерия Брюсова, сборник стоит почти „за пределами литературы”, он „переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса”. Брюсов нашёл „недурные образы” у Каменского и Н. Бурлюка, но тут же добавил, что „нелегко разыскать такие счастливые стихи в бесконечной нелепице поэм и рассказов”.64![]()
![]()
Тем не менее, собравшиеся под обложкой «Садка судей» поэты составили единую группу, которая с незначительными потерями и пополнениями вновь выступит через два года, когда русский футуризм действительно начнёт свое шествие по стране. Таким образом, нельзя не согласиться с Бурлюком и Каменским, заявлявшими, что русский футуризм возник в 1909 году (точнее, в конце 1909 года, когда началась работа по изданию книги). Если принять за точку отсчёта эту дату, итальянский футуризм окажется почти на год старше, несмотря на все попытки русских доказать свое первородство. Верно, однако, и то, что русская группа возникла совершенно независимо от итальянцев. В 1909 году ни один из участников «Садка судей» не знал об итальянском футуризме, никто из них и представить себе не мог, что через каких-то три года их тоже будут называть футуристами.
Стоит упомянуть и о том, что среди самих футуристов в оценке «Садка судей» полного согласия не было. Кручёных с Маяковским датировали начало футуризма 1912 годом (знаменательно, что Маяковский называл «Садок судей» „первой импрессионистической вспышкой” футуризма,66![]()
![]()
![]()
Прежде чем закончить обсуждение первых шагов русского футуризма, необходимо добавить следующее. Практически все работы по истории русской литературы упоминают о том, что русские футуристы называли себя будетлянами (слово придумано Хлебниковым). Иначе говоря, русские футуристы называли себя футуристами (по-русски) ещё до того, как приняли название “футуристы” (по-латыни). Несмотря на это, слово будетляне так и осталось личным изобретением Хлебникова; остальные футуристы употребляли его редко и не использовали как официальное название группы. В своих мемуарах Каменский неясно упоминает о том, что Хлебников хотел „пропагандировать пришествие будетлян”,69![]()
![]()
![]()
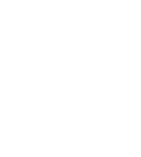 ноябре 1910 года72
ноябре 1910 года72«Землянка» — антиурбанистическое произведение, в первых его главах город описан как царство смерти. Герой покидает трагический хаос городской жизни и возвращается к матери-земле. Для автора эта книга представляла собой воплощение возвышенного и честолюбивого замысла, нечто невероятно значительное, своего рода «Божественную комедию», герой которой проходит сквозь городской ад, очищает себя в одиноком общении с природой и наконец обретает рай крестьянской жизни. Крестьянин, по Каменскому, знает „огромную земную тайну”, о которой автор, впрочем, умалчивает. Тем не менее, завесу над одной тайной он приоткрывает: оказывается, Каменский — последователь Льва Толстого. Толстой удостаивается в повести похвалы за его способность писать на родном русском языке „хорошо, понятно” в отличие от прочих русских литераторов, этих „русских иностранцев”.
Лучшие страницы «Землянки» — описание природы. Это радостный гимн миру естества, который превращает умного ребёнка в мужчину. Справедливости ради следует сказать, что, хотя Каменский неплохо знал и любил природу (особенно Пермской губернии), его наблюдения не всегда точны: например, лютики, колокольчики и васильки расцветают у него одновременно. Лирическая насыщенность страниц, посвящённых природному миру, постепенно усиливается: ткань эмоциональной прозы прорывают верлибры, часть которых уже была опубликована в «Садке судей». Впоследствии Каменский придавал особое значение тому, что перебивал в повести прозу поэзией. Он считал «Землянку» „совершенно новой формой романа”73![]()
![]()
В целом «Землянку» трудно назвать шедевром. Повесть не мешало бы подсократить, её язык зачастую банален и свидетельствует о том, что со вкусом у Каменского не всё в порядке. Читая о том, как после разрыва с Мариной Филипп плачет на улице, а бездомные собаки подходят к нему и с участием нюхают слёзы, падающие на серые плиты тротуара, нельзя не подумать, что это уже перебор. То же самое можно сказать о ребяческом общении героя с природой — когда, например, обуянный пробудившимся в нем ребёнком, он выхватывает из костра горящее дерево и прямо в одежде прыгает с обрывистого берега в реку. И всё-таки «Землянка» Каменского занимает важное место в истории русской литературы: во-первых, она лишний раз подтверждает, что русский футуризм начинался с импрессионизма; во-вторых, это первое крупное произведение, изданное одним из вожаков футуризма; в-третьих, первое пространное изображение излюбленного предмета Каменского — русской природы и всего, что связано с охотой и рыбной ловлей. Заслуживает внимания и то, что, импрессионист в технике, Каменский является, так сказать, примитивистом в идеологии (он призывает вернуться к природе) — идеология примитивизма явно увлекала русских футуристов. Каменский писал «Землянку», окружённый всеми благами современной цивилизации, только что женившись на очень богатой женщине (которая, к сожалению, вскоре разорилась). Жене Каменского (первой из длинного списка его жён) повесть не понравилась. Вскоре стали прибывать вырезки из газет с отрицательными рецензиями, авторитет Каменского в семье был изрядно подорван, и разочарованный писатель забросил литературу. Чтобы вновь обрести чувство самоуважения, Каменский решает стать авиатором — авиация в России только-только зарождалась и была занятием небезопасным. После обучения в Европе он покупает французский аэроплан и становится знаменитым российским лётчиком-пионером, но вскоре аэроплан разбивается в Польше на глазах у многочисленной публики во время демонстрационного полёта. Каменский, к счастью, остается жив. Он бросает авиацию, покупает большой участок земли недалеко от Перми и уезжает туда, чтобы на деле претворить в жизнь всё то, к чему призывал в «Землянке». До 1913 года Каменский в литературной жизни участия не принимал, и если бы не Давид Бурлюк, возможно, никогда бы к ней не вернулся.
Все это время Давид Бурлюк был как всегда активен. В Москве он изучает живопись,75![]()
В декабре 1911 года Давид Бурлюк по пути в родное гнездо на рождественские каникулы остановился в Киеве, где его приятельница, художница Александра Экстер,76![]()
Чернянка — имение графа Мордвинова недалеко от Херсона и Чёрного моря; там жил и работал отец Бурлюка, чьими стараниями огромное и богатое поместье графа становилось ещё больше и ещё богаче. Давид Бурлюк-старший жил в патриархальной простоте, достатке и изобилии, в окружении большой семьи (три сына и три дочери) и необъятных степных просторов, на которых паслись бесчисленные овечьи отары и стада племенных свиней. Лившицу такой образ жизни напоминал жизнь гомеровских греков. Древняя история была не только в меандрах орнаментов, украшавших дома, и в скифских стрелах, откапываемых в курганах, но и в той простоте, с какой здесь принимали пищу, охотились, ухаживали за женщинами. Одним словом, здесь была Гилея,77![]()
![]()
Во время каникул братья Бурлюки с головой окунулись в искусство. Они только что открыли для себя Пикассо и кубизм и теперь старались освоить своё открытие и применить его на практике — через месяц в Москве должна была состояться очередная выставка «Бубнового валета». Какие бы приёмы они не использовали — множественную перспективу, плоскостное изображение, смещение планов, необычные цвета (бросали свеженаписанный холст в грязь и вновь записывали его, чтобы поверхность не была “слишком спокойной”), — всё это служило для Лившица одной цели: „обновлению восприятия мира”.79![]()
![]()
Так трое братьев Бурлюков вместе с Лившицем основали группу «Гилея». Название возникло за два с лишним года до того, как они стали называться футуристами. Само собой разумеется, Хлебников был с ними. Вскоре к группе присоединились Маяковский и Кручёных. Лившицу название «Гилея» не совсем нравилось, оно казалось ему слишком „томным” и возникшим из „гимназических реминисценций и уступая соблазну обступившей нас мифологии”81![]()
Бурлюки собирались в Москву, чтобы поразить всех новым знанием — кубизмом, но с точки зрения поэзии «Гилея» была не кубизмом (кубизм появился в поэзии русских футуристов позднее), а скорее примитивизмом. Русский примитивизм — явление широкое и сложное, включающее в себя не только поэзию и живопись, но и музыку (лучший пример — «Весна священная» Стравинского). Его начало было в значительной мере связано с глубоким интересом символизма к славянской мифологии, а также с занимавшей русских прозаиков (Леонид Андреев, Арцыбашев) темой животного начала в человеке. В более узком смысле о начале русского примитивизма можно говорить после третьей выставки «Золотое руно» в декабре 1909 года — она могла похвастаться не только образцами фовизма и использованием цвета как абстрактной категории, но и такими предметами народного искусства, как кружева, лубки, иконы, раскрашенные пряники. Вскоре Кульбин писал об „искусстве первобытного человека и ребёнка”,82![]()
Примитивизм в русском искусстве представлен тремя выдающимися фигурами: Давид Бурлюк, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. У примитивизма Бурлюка (к сожалению, до сих пор плохо изученного и недостаточно оценённого) несколько истоков: древняя скифская скульптура (каменные бабы южнорусских степей, не раз появляющиеся в поэзии Хлебникова), современные вывески (Бурлюк собрал неплохую коллекцию), а также изучение полинезийского искусства и искусства мексиканских индейцев. На творчество Гончаровой мощное влияние оказали иконы, лубок и народный орнамент, а Ларионов ввёл в свой примитивизм элементы инфантилизма (то же самое делал Хлебников), пародии (и это можно найти у Хлебникова) и эротизма (здесь Ларионов напоминает Кручёных). Примитивистское искусство создавалось в условиях тесного сотрудничества: Ларионов и Гончарова были супругами, Бурлюк — с 1907 по 1911 год — их близким другом. Вероятно, живопись Ларионова оказала сильное воздействие на творчество русских поэтов-футуристов (особенно Хлебникова и Кручёных) в его примитивистском аспекте. Права Камилла Грей, писавшая, что поэты-футуристы взяли у Ларионова „“непочтительно-неуместные” ассоциации, подражание детскому творчеству и использование фольклорных мотивов и образов”.83![]()
Русских поэтов-футуристов в примитивистских произведениях привлекали три главных момента. Первый — детское сознание; здесь примитивистский футуризм пересекался со своей собственной импрессионистской стадией (например, у Гуро, которую очень интересовали внутренние процессы жизни ребёнка). Гуро, как и Каменский, призывала к сохранению и защите детского во взрослом человеке. В период «Гилеи» Хлебников использовал детскость как творческий метод, а позднее пытался писать стихотворения на основе детской лексики. И Хлебников и Кручёных увлекались поэзией и прозой, написанной детьми, и публиковали их образцы. Каменский собирал детские рисунки. Второй момент, занимавший писателей примитивистского крыла футуризма, — первобытное человечество. Действие некоторых поэм Хлебникова происходит в воображаемом славянском каменном веке, иные поэтические наброски напоминают о пещерной живописи. И, наконец, третий момент: и Хлебников и Кручёных увлекались русским фольклором. Впрочем, относились они к нему довольно своеобразно: никакого “благоговения”, подражания или использования мотивов народного эпоса, лирических песен и сказок, как это случалось в русской литературе. Зато наблюдался сильнейший интерес к наивной и зачастую “безграмотной” имитации фольклором высокой литературы (в частности, романтической поэзии) в песнях, городских романсах, балладах и стихотворениях, которые редко привлекали внимание учёных, склонных и по сей день считать, что они лишены какой-либо художественной ценности.
Вершиной русского примитивизма в поэзии, несомненно, являются поэмы Хлебникова. В 1911 году он сочинил поэмы «Лесная дева» и «И и Э. Повесть каменного века». В 1912 году выходит в свет «Игра в аду» (Хлебников написал её вместе с Кручёных), «Гибель Атлантиды», «Вила и леший» и «Шаман и Венера». После революции он продолжал творить в духе примитивизма: поэмы «Лесная тоска», отчасти «Ладомир», «Поэт» и «Уструг Разина».84![]()
Группа «Гилея» объявила о своём существовании в конце 1912 года изданием сборника «Пощёчина общественному вкусу», но ещё за несколько месяцев до этого ведущие футуристы активно участвовали в диспутах по вопросам современного искусства, возникавших на выставках художников-авангардистов. Такие диспуты нередко сопровождались публичными скандалами и создавали атмосферу, в которой расцветал литературный футуризм. Чтобы понять эту ситуацию, необходим хотя бы краткий обзор русской авангардной живописи (некоторые факты уже отмечались).
27 декабря 1907 года в Москве была открыта выставка «Стефанос», организованная группой художников, большинству из которых предстояло сыграть важную роль в истории русского авангарда. Помимо художников из «Голубой розы» (импрессионистская группа, тяготеющая к лирическому мистицизму) в ней участвовали Давид и Владимир Бурлюки, их сестра Людмила, Ларионов, Гончарова, Лентулов, Якулов, Сапунов и Судейкин. После произошедшего раскола Бурлюки и Лентулов организовали в 1909 году в Петербурге выставку «Венок–Стефанос», тогда как Ларионов остался с «Голубой розой» и под покровительством журнала «Золотое руно» и его основателя миллионера Рябушинского принял участие в организации трёх выставок (в 1908 и 1909 годах), на которых были выставлены картины Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Руо и Брака. В ноябре 1908 года Давид Бурлюк и Александра Экстер стали инициаторами киевской выставки «Звено», не имевшей, впрочем, успеха. В 1909 году усилиями Давида Бурлюка возник союз «Венка–Стефанос» с импрессионистским «Треугольником» Кульбина, в результате чего в Петербурге прошла объединённая выставка под названием «Импрессионисты». Между прочим, как раз во время этой выставки появился (как и планировался) альманах «Студия импрессионистов» и готовился к выходу в свет «Садок судей». За год до этого, в 1908 году, Кульбин организовал в Петербурге выставку «Современные течения в искусстве» (среди прочего на ней экспонировались работы одного слепого художника). Куда более глубокое влияние на художественную жизнь оказали выставки «Салона» В. Издебского (Одесса, Киев, Петербург), открывшегося в октябре 1909 года. Наряду с работами Ларионова, Лентулова, Матюшина и Экстер, а также детскими рисунками на них были выставлены полотна Брака, Матисса и других знаменитых европейских постимпрессионистов. Выставка «Салона» в Киеве произвела сильнейшее впечатление на молодого киевского поэта Бенедикта Лившица.85![]()
Именно в этот сложный и богатый событиями период русская живопись усвоила западный импрессионизм и двинулась дальше, чтобы на основе европейского постимпрессионизма внести в мировое искусство чисто русский вклад. В наибольшей степени это связано с деятельностью «Бубнового валета», поначалу небольшой группы художников, которая вскоре стала очень влиятельной и на протяжении нескольких лет господствовала в художественной жизни России. Первая выставка «Бубнового валета» состоялась в декабре 1910 года в Москве; на ней были представлены работы Ларионова, Гончаровой, Бурлюков, Экстер, Кандинского, Лентулова, Кончаловского, Ильи Машкова и Роберта Фалька. К тому времени, когда возникла «Гилея», члены «Бубнового валета» готовились ко второй выставке, открывшейся в Москве 25 января 1912 года.
Помимо выставки решено было устраивать лекции и публичные диспуты по вопросам современного искусства. На вошедшем в историю диспуте «Бубнового валета» 12 февраля в Москве в переполненной аудитории Политехнического музея Бурлюк буквально потряс публику. В докладе о кубизме он заявил, что предмет изображения в живописи не имеет никакого значения, и что Рафаэль и Веласкес были в своем творчестве фотографами и мещанами духа. Ещё большее впечатление произвело на собравшихся незапланированное выступление Гончаровой, которая обрушилась с нападками на «Бубновый валет» и объявила о будущей выставке авангардистской группы «Ослиный хвост». Конец вечера прошёл в общем шуме и смехе.
Второй диспут «Бубнового валета» состоялся через две недели без представителей «Ослиного хвоста» и обошёлся на этот раз без скандала. Бурлюк выступил с докладом «Эволюция понятия красоты в живописи». Он заявил, что всякая истина в искусстве существует от силы двадцать пять лет, и потому любое понятие красоты относительно и зависит от времени. По Бурлюку, искусство должно не копировать действительность, а искажать её. Он говорил о том, что современная живопись покоится на трёх принципах: дисгармонии, диссимметрии и дисконструкции. Интересно, что в своем докладе Бурлюк впервые публично упомянул об итальянском футуризме. И хотя он почти ничего о нём не знал и не видел ни подлинников, ни даже репродукций картин итальянских художников-футуристов, он обвинил их в том, что принципы чистой живописи приносятся ими в жертву литературности. А члены «Ослиного хвоста» как раз поддерживали идеи итальянских футуристов, хотя в работах Гончаровой, Малевича и других эти идеи, оказавшись лишь эпизодом, так и не стали художественным мировоззрением.
Группа «Ослиный хвост» начала формироваться ещё до января 1912 года, когда произошёл её разрыв с «Бубновым валетом»; мысль организовать собственную группу возникла у Ларионова в начале 1911 года. Эта группа, в которую входили Малевич, Татлин, Фонвизин, Ледантю и Марк Шагал, не приняла “консерватизм” «Бубнового валета», утверждая, что главную роль в живописи играет предмет изображения, и подчёркивая свою связь с русским народным искусством, равно как и с искусством Востока. Члены группы протестовали против войны, объявленной Бурлюком прошлому, и не видели в идеях кубизма ничего нового (настоящий кубизм, по их мнению, — это русские матрёшки и скифские каменные бабы). В разрыве было немало личного: Гончарова и Ларионов, с одной стороны, и Бурлюк — с другой, были не только основателями русского примитивизма, но и друзьями. Их дружба прервалась в 1913 году и больше не возобновлялась.
В отличие от бурных схваток, то и дело будораживших художников, литературная деятельность будущих футуристов протекала мирно, в атмосфере взаимной терпимости. В начале 1912 года Бенедикт Лившиц продолжал сотрудничать в «Аполлоне», Николай Бурлюк собирался вступить в колыбель русского акмеизма «Цех поэтов», и ни тот, ни другой не видел в этом противоречия со своим членством в «Гилее». Приготовления к новым действиям шли подспудно, хотя «Гилея» в 1912 году, казалось бы, попала в полосу затишья: Лившица призвали на год в армию, Давид Бурлюк всё лето пропутешествовал по Европе, Каменский наслаждался деревенской жизнью на далёком Урале. Однако не всё было так мирно. Давид Бурлюк доверил своему брату Николаю издательские дела, и тот спокойно и деловито собирал материал для будущих книг. Николай сумел найти общий язык с требовательным Лившицем, которому всё меньше и меньше нравился Давид из-за его склонности к компромиссам и явного безразличия к теории.
По возвращении из Европы Давид Бурлюк нашёл время помочь Хлебникову издать его первую книгу — брошюру «Учитель и ученик»: она вышла в Херсоне на деньги Бурлюка. В этой брошюре Хлебников в форме диалога рассуждает о внутреннем склонении слов и подвергает критике ведущих русских символистов за их проповедь смерти и отрыв от корней — русской народной песни. Здесь впервые обнародованы попытки Хлебникова найти математические законы истории, позволившие ему сделать удивительное по своей точности предсказание о падении государства в 1917 году. Совершенно неважно, представляют ли формулы Хлебникова научную ценность; благодаря этим вычислениям он оказался единственным подлинным “футуристом” среди своих друзей, заслуживающих скорее имя “презентистов”.
У Давида Бурлюка был замысел напечатать на средства «Бубнового валета» книгу, авторами которой стали бы художники и поэты группы «Гилея». Книга готовилась к печати весь 1912 год, но так и не вышла: художникам из «Бубнового валета» не понравилось то, что Хлебников и Кручёных одну за другой издавали книги с иллюстрациями заклятых врагов “бубнововалетцев” — Гончаровой, Ларионова и других художников из «Ослиного хвоста». Это привело к окончательному разрыву “гилейцев” с «Бубновым валетом» и вынудило их искать другие издательские возможности. Давид Бурлюк нашёл, наконец, издателей — авиатора Георгия Кузьмина и композитора Сергея Долинского; результатом их совместной деятельности и стала «Пощёчина общественному вкусу».
Но ещё до появления «Пощёчины» Кручёных выпустил три небольшие книги (две из них в сотрудничестве с Хлебниковым): «Игра в аду», «Старинная любовь» и «Мирскóнца». Алексей Елисеевич Кручёных (1886–1968) родился под Херсоном в семье крестьянина. Когда в 1907 году Кручёных познакомился с Бурлюками, он работал учителем рисования в гимназии. Оказав Давиду Бурлюку помощь в организации несколько выставок (Кручёных выставил на них картины в импрессионистском духе), он вскоре переехал в Москву, где, бросив живопись ради литературы, превратился в одного из самых противоречивых русских футуристов и, вероятно, в самого непреклонного среди них новатора. Он называл себя „дичайшим”86![]()
Книга «Игра в аду» вышла в свет в августе 1912 года с шестнадцатью рисунками Гончаровой и представляла собой литографированное издание с напоминающими церковно-славянский устав буквами. Это была длинная поэма о карточной игре в аду между чертями и грешниками, начало которой, по его собственным словам, написал Кручёных.87![]()
Одновременно с «Игрой в аду» (а возможно, и раньше) появилась ещё одна примитивистская книжка, авторство которой принадлежало на этот раз одному Кручёных и которая называлась «Старинная любовь». Большинство иллюстраций было выполнено Ларионовым в стиле, который мы назвали бы сейчас абстрактным экспрессионизмом. Текст литографированный, с массой опечаток, без запятых и точек; восклицательные знаки, впрочем, оставлены. Всего в книге семь стихотворений, каждое написано в своей манере. Первое, например, пародирует любовные стихи, сочинённые провинциальным поэтом, в нём использовано множество штампов из меланхолической романтической лирики XIX века, сдобренных стилистическими диссонансами и неэстетическими подробностями (гной, рвота). Два стихотворения образуют цикл под названием «Из писем Наташи к Герцену» — это подражание романтической лирике без малейшего следа иронии.88![]()
![]()
Третья книга, «Мирскóнца», изданная Кручёных в 1912 году и проиллюстрированная Ларионовым, Гончаровой, Татлиным и И. Роговиным, имеет ещё более экспериментальный характер. На каждой стороне желтой обложки наклеен зелёный лист из фольги, тексты напечатаны только на нечётных страницах, некоторые исполнены автором вручную, некоторые — так, словно каждая буква оттиснута специально изготовленной для неё печаткой, причём все — разного размера. Всевозможные ошибки и опечатки правят здесь бал, в книге масса неверных переносов, правописание то и дело нарушается, между словами пропуски разной длины, прописные буквы появляются в середине слова, некоторые части текста повторяются (иногда в перевёрнутом виде). Множество букв в одном стихотворении Хлебникова напечатано в зеркальном изображении. Хлебников представлен в этой книге довольно случайной подборкой стихотворений, отрывков из поэм и импровизаций. Произведения Кручёных, которые занимают бóльшую часть книги, обнаруживают новые особенности. Не считая торжественного стихотворения в начале книги, написанного традиционным трёхстопным ямбом, в его стихах использованы обороты разговорной речи, в их коротких нервных строчках чувствуется грубая сила. Что касается содержания, то чаще всего это почти бессвязные ряды образов (в одном стихотворении бессвязность мотивируется сном). Самое интересное в книге — попытка написать прозу нового типа. Таковы двадцать страниц текста без знаков препинания с перепутанными предложениями под общим заглавием «Путешествие вокруг света», в котором, несмотря на массу постороннего материала, действительно описано некое путешествие; текст отчасти напоминает “автоматическое письмо” сюрреалистов.
За этими тремя книгами появились ещё три книги Кручёных, изданные в начале 1913 года на средства Кузьмина и Долинского. «Полуживой» — очередной образец примитивистской поэзии с иллюстрациями Ларионова: довольно мрачная поэма, насыщенная образами войны и насилия и увенчанная изображением вампира, который сосёт кровь убитых и раненых воинов. Анализ стиля и метрики поэмы свидетельствует о подражании примитивистскому стилю Хлебникова вплоть до мельчайших деталей. И действительно, Хлебников “ретушировал” эту книгу, как и следующую за ней, «Пустынники», которая содержит две поэмы (вторая называется «Пустынница»). Начало её напоминает “духовные стихи” и повествует об отшёльнической жизни, но постепенно поэма принимает всё более сюрреалистический характер и описывает не только жизнь отшельников, но и их сознательные и подсознательные желания. Довольно простая и ясная главная тема постепенно усложняется и доходит до абсурда и алогичности. Никакое изучение русского примитивизма не обойдется без тщательного анализа поэмы «Пустынница», местами напоминающей поэзию Николая Заболоцкого 1920-х годов. Обычное стремление Кручёных шокировать читателя с особой силой проявляется в эротических сценах, а также в изображении святых, которые в его описании являются кем угодно, но только не святыми (в 1913 году это воспринималось как богохульство). Эротикой и богохульством насыщены и превосходные иллюстрации Гончаровой, в которых заметно влияние русской иконописи. Ещё одна книга под названием «Помада» вышла в январе 1913 года; в ней меньше десяти стихотворений, три из которых, с искусными составными рифмами, написаны, как сообщает на последней странице Кручёных, совместно с Е. Луневым.90![]()
Таким образом, уже в первых своих публикациях Кручёных добавил к русскому примитивизму свой собственный голос, создал в сотрудничестве с художниками Гончаровой и Ларионовым классическую форму футуристического издания и освятил самое радикальное достижение футуризма: заумный язык. Этот поразительный писатель, который не достиг ничего, кроме сомнительной известности, заслуживает всяческого уважения. И, однако, даже его соратники готовы были отвернуться от него как от человека, „доводившего до абсурда своим легкомысленным максимализмом самые крайние наши положения”.92![]()
Ко времени выхода «Полуживого», «Пустынников» и «Помады» знаменитый сборник поэтов «Гилеи» «Пощёчина общественному вкусу» был уже издан. После того как «Бубновый валет» отказался финансировать его издание, Бурлюк нашёл поддержку в лице Кузьмина и Долинского, посулив им вечную благодарность потомков. «Пощёчина» была напечатана на серой обёрточной бумаге, обложка из грубого холста, цвета, как писали позднейшие рецензенты, „вши, упавшей в обморок”.93![]()
![]()
Как полемическое произведение, манифест оказался очень эффективным. Нападки на знаменитых современников привлекли к себе внимание в литературных и журналистских кругах, хотя никто из жертв оскорблённым себя, кажется, не чувствовал. Призыв сбросить классиков прозвучал куда сенсационнее и долго не забывался. Оба тезиса манифеста являлись, однако, тактическим приёмом и подлинных идей авторов не выражали. Большинство из них вовсе не собирались низвергать Пушкина и к тому же поддерживали хорошие отношения с критикуемыми современниками. Когда в 1915 году Максим Горький публично похвалил нескольких футуристов (см. главу 7), они не столько его „с ужасом отстранили”, сколько с подобострастием выслушали. Строго говоря, один только Кручёных в подавляющем большинстве своих произведений воплощал „ненависть к существовавшему до них языку”, отрицал здравый смысл и хороший вкус. Обещание стоять на глыбе слова “мы” (если понимать его как обет верности друзьям-футуристам) он сдерживал даже в самые трудные времена. Что касается позитивной программы, то её расплывчатость и недейственность свидетельствует о неуверенности авторов манифеста в своих собственных целях. Словотворчества для эстетического основания нового движения было явно недостаточно, к тому же только Хлебников деятельно им занимался (Игорь-Северянин гилейцем не был). Упоминание о „самовитом слове”, к сожалению, так и осталось упоминанием.
Остальная часть «Пощёчины» разочаровывает в том смысле, что в ней нет „высоты небоскрёбов”; некоторые произведения с содержательной точки зрения безнадёжно устарели. Но, в отличие от «Садка судей», качество представленного здесь материала достаточно высоко. Книга начинается с Хлебникова, и вообще бóльшую её часть занимают произведения Хлебникова. Напечатано восемь коротких стихотворений, большинство из которых поистине прелестны, особенно полуабстрактное «Бобэоби», совершенное по своей звуковой живописи. Среди крупных произведений следует отметить драматический отрывок «Девий бог» из времен языческой Руси. Он уснащён множеством анахронизмов, действие происходит на нескольких пересекающихся друг с другом уровнях. Затем следует шедевр хлебниковского примитивизма поэма «И и Э» и стихотворение «Памятник», возможно, самое художественно совершенное выражение его национализма. Необходимо упомянуть и «Песнь мирязя» как типичный для Хлебникова словотворческий образец прозы.
Бенедикт Лившиц вошёл в «Пощёчину» шестью стихотворениями, впоследствии опубликованными в его втором поэтическом сборнике «Волчье солнце». Они полны намёков, изысканного артистизма и сдержанной красоты и приводят на ум поэзию Рембо. После Хлебникова нерусское звучание стихов Лившица (кстати сказать, характерная черта значительной части русской символистской поэзии) особенно заметно. Самое поразительное произведение Лившица в сборнике — «Люди в пейзаже» (название заимствовано у Леже, назвавшего так одну из своих картин). Оно состоит из трёх небольших прозаических глав, где целью автора является „кубистическое построение словесной массы”,96![]()
Николай Бурлюк выступил в «Пощёчине» исключительно как прозаик. Все три его произведения приятным образом необычны (чувствуется влияние Хлебникова и Гуро), но ни к кубизму, ни к примитивизму отношения не имеют, скорее, это — импрессионизм. В рассказе «Смерть легкомысленного молодого человека» герой принимает яд и умирает, но, перебравшись в лодке Харона через Лету, узнаёт, что Аид упразднён. «Тишина Эллады» — лирическая проза, живописующая черноморские пейзажи (собственно Гилею). Описание детства в рассказе «Солнечный дом» носит автобиографический характер; постепенно оно превращается в фантастическое повествование о том, как некие таинственные силы постепенно захватывают одну комнату в доме за другой. Несколько стихотворений Давида Бурлюка в сборнике говорят о более твёрдой, чем раньше, руке и о прежней неспособности ясно излагать свои мысли.
Участие в «Пощёчине» Василия Кандинского делает книгу ещё более любопытной, хотя сами футуристы признавались, что в их группе он оказался человеком случайным.97![]()
Как член литературной группы Кручёных дебютировал интересным примитивистским стихотворением, написанным своеобразным хореем, который уступает место ритмизованной прозе с намёком на участие некого офицера и рыжеволосой Поли. Стихотворение напечатано без знаков препинания и заглавных букв, иногда с неправильным ударением (началъ глàзами вертѣть) — один из обычных приёмов Кручёных. Завершает стихотворение авторское примечание, в котором сообщается, что вместо хронологического порядка 1 —2 — 3 события в стихотворении располагаются 3 — 2 — 1 или 3 — 1 — 2.
Следующий поэтический дебют, как выяснилось впоследствии, оказался историческим событием: имя дебютанта — Владимир Маяковский. Два его стихотворения «Ночь» и «Утро» с их ярко выраженной урбанистической окраской и очеловечиванием города вносят в этот мирный сборник странную диссонирующую ноту: в них угадываются раскаты громового голоса Маяковского. Своей динамичностью они напоминают сочинения итальянских футуристов, а никак не славянскую золотую липовость,98![]()
Завершают «Пощёчину» четыре статьи, две из которых приписывают Николаю Бурлюку, хотя на самом деле они принадлежат Давиду. В довольно беспорядочной статье «Кубизм», со стоящими не там, где положено, заглавными буквами, — не только скучные многословные пассажи в импрессионистском духе, напоминающие худшие опусы критиков-символистов, но и превосходные наблюдения профессионала. Живопись, говорит Бурлюк, в XX веке превратилась в искусство, поскольку только сейчас она стала целью для самой себя. Прежде живопись знала лишь линию и цвет; новая живопись открыла поверхность и фактуру. Сезанн провозглашается отцом кубизма, а сам кубизм определяется как „понимание всего, что мы видим, только как ряд сечений различных плоскостей поверхностей”. Бурлюк говорит далее о „свободном рисунке”, лучшие образцы которого находит в детских рисунках, а также у Кандинского и Ларионова. Поэтический эквивалент „свободного рисунка” — верлибр, лучшие образцы которого он обнаруживает у Хлебникова. В обеих статьях Бурлюк часто использует понятия “сдвиг” и “фактура”, которые станут излюбленными терминами футуристской литературной критики. Вторая статья так и называется — «Фактура»; она написана в прихотливой манере лирической прозы, которая чередуется с сухими и точными замечаниями. Бурлюк нападает на традиционное искусствоведение и критику (мальчиком для битья ему, как обычно, служит Александр Бенуа), но есть в ней и подробная классификация поверхностей живописных холстов и тонкие рассуждения о фактуре у Моне, Сезанна и современных русских живописцев. Статья Хлебникова «Образчик словоновшеств в языке» служит подтверждением первого пункта манифеста. Завершает «Пощёчину» предсказание Хлебникова о разрушении в 1917 году некоего государства. Это предсказание произвело на Бурлюка столь сильное впечатление, что он поместил его в конце книги в виде простого перечня названий и дат.99![]()
Желая, вероятно, совершенно запутать будущих библиографов, гилейцы выпустили в феврале 1913 года в Москве листовку, которую тоже назвали «Пощёчина общественному вкусу». В ней повторяются основные принципы манифеста, хотя в целом она отличается от своего предшественника. В листовке авторы жестоко бранят петербургских мэтров за то, что после выхода «Садка судей» в 1908 году (sic!) те не признали Хлебникова гением. Они обрушиваются с нападками на ведущих журналистов, которые приняли гилейцев за “декадентов”, и характеризуют окружающую Хлебникова плеяду писателей как людей, объединившихся в отрицании слова как средства и в восхвалении самоценного слова, хотя и идущих различными путями. В листовке помещены несколько стихотворений Маяковского и других, а вместо подписей — фотография Маяковского, Хлебникова, Давида и Николая Бурлюков и обоих гилейских издателей (Кузьмина и Долинского).
Одновременно с «Пощёчиной» Бурлюк начал собирать материал для ещё одного коллективного издания, которое собирались осуществить в Петербурге Гуро и Матюшин. Чтобы подчеркнуть единство и непрерывность движения, сборник решили назвать «Садок судей II», но название группы на этот раз не указывалось, так как Гуро не нравилось слово Гилея. Её, северянку (Финляндия, Петербург), классические обертоны, придаваемые этим словом южнорусским степям, оставляли равнодушной. Книга появилась в феврале 1913 года и разве что обложкой напоминала ту обойную бумагу, на которой был напечатан первый том. Иллюстрировали «Садок судей II» не только Гуро и Матюшин, но и Владимир и Давид Бурлюки, а также Ларионов и Гончарова, которые, несмотря на разрыв с группой, в последний раз почтили деятельным вниманием гилейскую акцию. Два второстепенных автора первого тома, Мясоедов и Гей, в сборнике не участвовали, но особенно заметным было отсутствие одной из “звёзд” группы — Василия Каменского, который всё ещё переживал неудачу «Землянки» в своём поместье.
Как и «Пощёчину», открывал «Садок судей II» неозаглавленный манифест — самое значительное произведение сборника. Хотя его известность не столь велика, этот манифест интереснее первого, поскольку в нём впервые предпринята попытка выдвинуть подробную и конструктивную программу. Ему не хватало разве что цельности и задора своего предшественника. К тому же он слишком расплывчат: это не изложение общих принципов, а эклектическое соединение излюбленных идей разных членов группы. Манифест достаточно путаный и не столько потому, что научная терминология, пребывавшая в 1913 году в зачаточном состоянии, употребляется не по делу, сколько по причине неуместных претензий и противоречивых заявлений. В начале манифеста, как ни странно, нет никаких нападок на литературных противников, зато высокомерно утверждается, что выраженные в первом «Садке судей» принципы признаны авторами пройденными, что первый «Садок» оказался лишь робкой и неумелой попыткой выдвинуть „новые принципы творчества”. Эта стадия уже в прошлом, и то, что родилось в 1908 году (sic!), ныне предоставлено „тем, у кого нет более новых задач”. Таким образом, авторы манифеста принимают позу взрослых, которые далеко обогнали детей, безнадежно отставших, повторяющих их зады и не способных понять новые задачи. Из остальной части манифеста, где подробнейшим образом перечисляются достижения группы, становится ясно, что теория в очередной раз опережает практику. Особого внимания заслуживает туманное заявление из вступительной части о „пресловутых и богатых” футуристах — явный намёк на группу петербургских эго-футуристов, которые как раз в это время обратились к словесному эксперименту и тем самым оказались соперниками гилейцев (см. главу 3). Удивительно видеть, как те, кто станет в общественном сознании русскими футуристами, называют футуристами кого-то другого. Перечисленные в манифесте „новые принципы творчества” по пунктам разбираются ниже.
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис. Автор этих слов Хлебников. Несмотря на некоторую неточность (смешение грамматики и произношения) и сомнительную терминологию (буквы вместо ‘звуков’), которые заставят современного лингвиста поморщиться, это достаточно точное определение того, что пытался сделать или уже сделал Хлебников. Предпринимающий собственные усилия по „расшатыванию синтаксиса” Лившиц был с ним абсолютно согласен.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике. Великолепный программный пункт для любого последовательного футуризма.
3. Нами осознана роль приставок и суффиксов. Ещё одно заявление Хлебникова о самом себе.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание. Что в полном объёме было продемонстрировано Кручёных в его литографированных изданиях.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания,
в) в почерке полагая составляющую поэтического импульса,
с) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) „само-письма”. Этот довольно длинный фрагмент несомненно имеет в виду издания Кручёных.100![]()
6. Нами уничтожены знаки препинания, — чем роль словесной массы выдвинута впервые и осознана. Этот пункт понравился Лившицу — прекрасное толкование того, что делали, хотя и непоследовательно гилейцы; впрочем, сама идея была уже не нова.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные — краска, звук, залах. Только через несколько лет Давид Бурлюк воплотит эти идеи в одном из своих стихотворений. Хлебниковский опыт с согласными есть в стихотворении «Бобэоби», напечатанном в «Пощёчине».
8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках — всякое движение рождает новый свободный ритм поэту. Хлебников, безусловно, вводил в поэзию разговорные ритмы, но этим же занимался и его учитель, символист Михаил Кузмин. Кроме того, главные усилия Хлебникова были направлены в другую сторону, а именно на смешение известных размеров в одной строке и на их чередование в соседних строках. Лишь после революции он стал последовательно применять верлибр. Переворот, совершённый в русской метрике Маяковским, произойдет позднее. Бурлюк так и не смог порвать с „размерами в учебниках”, а Лившиц и не пытался это сделать.
9. Передняя рифма (Давид Бурлюк), средняя, обратная рифмы (Маяковский) разработаны нами. „Разработаны” — осторожное выражение; вероятно, авторы опасались претендовать на изобретение такого рода рифм, которыми уже не однажды пользовались символисты.
10. Богатство словаря поэта — его оправдание. Имеется в виду не только словотворчество Хлебникова, но и общая тенденция футуристов вводить в свои произведения диалектные и необычные слова.
11. Мы считаем слово творцом мифа; слово, умирая, рождает миф, и наоборот. Этот не слишком оригинальный пункт был предложен Николаем Бурлюком и поддержан Лившицем. Лившиц понимал, что это заявление напоминает о лингвистических теориях Потебни, но считал необходимым „связать научную теорию, обращённую взором к истокам человеческого бытия, с практикой сегодняшнего искусства”.101![]()
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты нами. Этот пункт принадлежит Кручёных, против него особенно выступал Лившиц.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас. Лившиц приписывает этот пункт Кручёных, в действительности же здесь повторяется то, о чем уже говорилось в манифесте «Пощёчины».
Завершают документ слова: Мы новые люди новой жизни, за которыми следуют подписи: Д. Бурлюк, Гуро, Н. Бурлюк, Маяковский, Низен, Хлебников, Лившиц, Кручёных.
Хотя Лившиц и подписал манифест, ему не понравилась путаница и разнородность его идей, в чём он обвинял Давида Бурлюка. Но это неизбежно должно было случиться: каждый из его участников создавал уже свою собственную поэтическую технику, не во всём разделяемую остальными. Именно поэтому в следующем коллективном поэтическом манифесте («Рыкающий Парнас») гилейцы отказались от поэтических тонкостей и занялись критикой современной литературы — метод уже знакомый и с большим успехом использованный в «Пощёчине»,
Помимо манифеста существенных новаций в «Садке судей II» было немного. Разочарованный Лившиц дал в сборник всего шесть стихотворений, написанных вскоре после выхода своей первой книги стихов, которые сам он считал „слишком академическими”. Как всегда, наибольшего внимания заслуживает Хлебников с его написанными в примитивистской манере поэмами — сдержанной и мрачной, почти классической по фактуре «Гибелью Атлантиды» и построенной на приёмах пародии и абсурда «Шаманом и Венерой»; кроме того он дал восхитительное стихотворение в духе инфантилистского романтизма под названием «Мария Вечора», посвящённое знаменитой трагедии Майерлинга; верлибр, в котором он упражняется в придумывании сложных рифм, в основном омонимических; несколько вещей, насыщенных неологизмами и напоминающих «Заклятие смехом»; и, наконец, коротенький перевертень, проба пера в этой технике, совершенствуя которую, Хлебников создал в 1920 году свой шедевр, 408-строчный палиндром «Разин». Далее следует короткая статья «О бродниках» — исторический очерк о кочевых славянах, содержащий этимологическую гипотезу. Вопреки оглавлению, статья принадлежит не Давиду Бурлюку, а Хлебникову. Зато в четырнадцати стихотворениях с их старомодным языком, мелодикой и метрикой безошибочно узнаются произведения Давида Бурлюка. А ведь именно в это время он как никогда старался выглядеть новатором и экспериментатором; например, в Ор. 29 (обозначать свои стихотворения порядковыми номерами Бурлюк начал ещё в «Садке судей») он не только насыщает текст звуком ‘с’, но и сообщает об этом в примечании. Бурлюк печатает также некоторые слова более крупными, чем обычно, буквами (в другом примечании он называет их „лейт-словами”, т.е. “ведущими словами”). Все эти ухищрения были позднейшими и, так сказать, “отделочными”, а сами стихи написаны, главным образом, между 1908 и 1910 годами, что и объясняет их импрессионистичность (например, Ор. 29 и Ор. 33). Впрочем, два более поздних стихотворения демонстрируют эксперименты Бурлюка с алогичным соединением слов102![]()
Николай Бурлюк в двух прозаических миниатюрах сохранил верность своей импрессионистской манере. В «Сбежавших музах» рассказывается о том, как с фотографии саркофага исчезли изображённые на нём музы. В «Полуночном огне», о котором можно говорить как о первом художественном достижении Николая Бурлюка, герой приезжает домой и находит там письмо с вложенным в него сухим дубовым листом. Ночью его будит шум в душевой кабине, где он обнаруживает незнакомого юношу с закрытыми глазами. К юноше подбирается язык пламени и, несмотря на струю воды, пожирает его, превращая в дубовый лист. Менее оригинальны, но не менее трогательны своей скромной простотой стихотворения Николая Бурлюка, написанные в символистской манере. Николай Бурлюк был единственным членом группы, который не увлёкся ни примитивизмом, ни словесным экспериментом, оставаясь верным импрессионизму. В отличие от него Алексей Кручёных в «Садке судей II» демонстрирует новую манеру, которую можно назвать абстрактной или полуабстрактной. Его стихотворения, напечатанные под общим заглавием «Мятеж на снегу» с подзаголовком «Слова с чужими брюхами», начинаются пятью строчками, составленными из придуманных, искажённых, а иногда обычных русских слов без знаков препинания (не считая единственной запятой после первого слова).103![]()
В марте 1913 года, не дав читающей публике передышки, гилейцы вновь появились в печати — на этот раз в виде автономной секции при петербургском обществе художников «Союз молодёжи».104![]()
В 1912 году «Союз молодёжи» начал издавать сборник под тем же названием, в котором печатались не только статьи по искусству, но и переводы из китайской поэзии. Во втором выпуске сборника были опубликованы два манифеста итальянских футуристов. В третьем выпуске нашлось место и для гилейцев, и название «Гилея» на титульном листе ознаменовало их первое публичное выступление под этим именем. В предисловии к сборнику объявлялось о создании при «Союзе молодёжи» автономной поэтической секции «Гилея» и провозглашалось, что „настало время совместного труда живописи и поэзии для единения”. О гилейцах говорилось как о „наиболее существенных и прозорливых из поэтов”. Здесь же перечислялись довольно неопределённые положения, близкие обеим группам:
1. Определение философии прекрасного.
2. Установление различий между творцом и соглядатаем.
3. Борьба с механичностью и временностью.
За ними следовали ещё три пункта, “как единящие и разнящие”:
1. Расширение оценки прекрасного за пределы сознания (принцип относительности).
2. Принятие теории познания (как критерия).
3. Единение так называемого “материала”.
Третий выпуск сборника «Союз молодёжи» состоит из двух частей, первая отдана статьям об искусстве. Среди них особенно интересны «Аполлон будничный и Аполлон чернявый» — полемика Августа Балльера с журналом «Аполлон»; «Основы нового творчества» О. Розановой; матюшинский обзор книги Глеза и Метценже «О кубизме», перемежаемый пространными выписками из «Tertium Organum» Петра Успенского. Две статьи принадлежат гилейцам. Николай Бурлюк написал очерк «Владимир Давидович Бурлюк», в котором упоминает имя брата лишь однажды — в последнем абзаце, а всё остальное место посвящает уяснению его эстетических установок. Хлебников представлен сокращённым вариантом «Учителя и ученика» (опубликованного ранее отдельной книгой) и диалогом «Разговор двух особ», в котором он критикует Иммануила Канта и пытается выявить связь между словами и числами. Вторая часть сборника целиком отдана поэзии гилейцев. Два стихотворения представил Давид Бурлюк, его брат Николай — шесть, из своих лучших (особенно «Πάντα ρει» и «Бабочки в колодце»), Лившиц — три. Из четырёх стихотворений Кручёных два заслуживают особого внимания. Стихотворение «Тянут коней» — в сущности, типографское произведение, в котором большинство букв в словах прописные; есть несколько интересных предвидений приёмов Э.Э. Каммингса, например, слово ‘зажатый’ набрано так: зАЖАтый. Второе стихотворение, воспевающее поэта, который с наслаждением развалился в грязи рядом со свиньей, ещё долго служило излюбленной мишенью язвительных критиков. Гуро представлена коротким импрессионистским наброском «Щебет весенних», а Хлебников — великолепным tour de force, поэмой «Война — смерть», единственной из его поэм, построенной на неологизмах.
В марте 1913 года Кузьмин и Долинский издали ещё один футуристский сборник «Требник троих», чьё название свидетельствует о победе аллитерации над содержанием, поскольку авторов было четверо, не считая иллюстраторов — Владимира и Надежды Бурлюков и В. Татлина. Эти четверо — Хлебников, Маяковский, Давид и Николай Бурлюки, причём Маяковский и Давид Бурлюк дали не только стихи, но и рисунки. Внешний вид книги довольно консервативен: серая обложка, на которой наклеен белый прямоугольник с названием, каждое стихотворение напечатано с новой страницы, хорошая печать. Имеются портреты Хлебникова, Маяковского и всех Бурлюков, включая Владимира. От прежних коллективных изданий футуристов «Требник троих» отличается тем, что в нём нет ни статей, ни прозы. Цель сборника — познакомить читателей с поэтическими достижениями, и надо сказать, что цель эта была достигнута. В прошлых изданиях Хлебников был представлен, как правило, большими произведениями; здесь в нём впервые узнали мастера миниатюры, отрывка — их в «Требнике» двадцать пять. Позднейшие издатели не смогли прийти к общему мнению, какие из этих произведений следует считать законченными, а какие — лишь набросками к будущим стихотворениям и поэмам, и обвиняли первого публикатора Давида Бурлюка и друг друга в смешении этих категорий. Вот почему в советском пятитомнике произведений Хлебникова некоторые его лучшие стихотворения находятся в конце тома. Конечно, Бурлюк, мягко говоря, не преуспел в научном издании Хлебникова, и, тем не менее, хлебниковская подборка в «Требнике» превосходна, большинство стихотворений — подлинные жемчужины, и вообще складывается впечатление, что на этот раз Бурлюк действовал с одобрения автора. Специалисты всегда говорили о невозможности установить чёткие границы между законченными и незавершенными произведениями Хлебникова; автор не однажды включал свои ранние стихотворения в более поздние, большие по объёму произведения. Стихотворения Хлебникова из «Требника» содержат немало неологизмов или построены с их помощью, и многие из них достигают совершенства в своей, как это ни парадоксально звучит, прозрачной неясности. Иногда даже простой перечень неологизмов, напечатанных один под другим, воспринимается как прекрасное стихотворение. Особенно искусно придуманы имена персонажей воображаемой русской трагедии (какую мог бы написать, к примеру, Сумароков): Негава, Служава, Белыня, Быстрец, Умнец, Влад, Сладыка. В этих именах выражены характер и положение действующих лиц в духе XVIII века; начинаешь даже смутно представлять себе некий сюжет, который они разыгрывают.
Что касается Маяковского, то его урбанистический кубизм нигде больше не был так хорошо представлен, как в «Требнике». Впоследствии в некоторые из стихотворений он внёс правку, хотя далеко не все стали от этого лучше. Например, широко известное стихотворение «Из улицы в улицу» в «Требнике»105![]()
Но самое удивительное в сборнике то, что стихи Николая и Давида Бурлюков находятся вполне на уровне творчества их товарищей. Пятнадцать стихотворений Николая Бурлюка (некоторые напечатаны вторично) свидетельствуют о том, что он вырос в зрелого, хотя и второстепенного поэта, обладающего своей поэтической техникой; только предубеждённый человек способен назвать его поэзию эклектичной. Конечно, бесполезно искать в стихах Николая Бурлюка типичные “футуристические” особенности — громогласие, грубую образность, рискованные эксперименты со словом и т.п. Порой его стихи (особенно короткие четверостишия) напоминают хлебниковские, хотя неологизмов Николай Бурлюк избегает. Он может мешать архаизмы с “низкой лексикой” («К ланитам клонится корявый палец»), но никогда не педалирует этот приём. Порой он кажется акмеистом со случайной эксцентричностью; трудно избежать искушения назвать его акмеистом среди футуристов, который хочет казаться футуристом среди акмеистов. Он не принадлежал ни к какой партии и далеко не случайно в одном стихотворении упоминает о себе как о человеке с „душой иноверца”, которая идёт своим собственным путем. Нетрудно себе представить, что стало бы с нижеследующей стихотворной миниатюрой, попади она в руки другого футуриста (или послереволюционного имажиниста). Николай Бурлюк делает её почти классической:
В его первом стихотворении нельзя не заметить футуристически окрашенный поворот в сторону Востока:
Ещё поразительнее подборка стихотворений Давида Бурлюка. Ни в одной его предыдущей публикации (да, пожалуй, и в последующих) нет и намёка на поэзию столь высокой пробы. Давид Бурлюк зачастую выглядит провинциалом, которому не удаётся замаскировать свою поэтическую старомодность сверхдерзким “новаторством”. Он тонет в банальностях, пытаясь быть оригинальным; это профессиональный художник, который неуклюже переносит свои живописные приёмы в поэзию, не понимая, что подобный перенос положения не спасает; это стихотворец, который полагает, что для новаторства достаточно наспех изобретённой головной рифмы или шокирующего образа. Но в «Требнике» он достигает настоящего успеха — и стилистического и ритмического. Даже стихи об осени убедительны и очаровательны. В стихотворении «Закат маляр широкой кистью», слегка примитивистском по манере, нет ни одного лишнего слова; четверостишие «Вещатель тайного союза» достойно занять место рядом с лучшими стихами Хлебникова, а стихотворение о „блохе болот, лягушке” просто превосходно. Не ощущается даже малейшего напряжения, нередкого в творчестве Бурлюка, ни в стихах с рифмой в начале строки, ни в других tour de force. Всего четыре стихотворения из шестнадцати не дотягивают до этого уровня, вызывающего удивление и восхищение.
Если в «Пощёчине общественному вкусу» русские футуристы внезапно и энергично напали на современную и прошлую русскую литературу, если в «Садке судей II» они заявили о себе как о единственных обладателях новой эстетики, а в «Союзе молодёжи» продемонстрировали, что в русском искусстве у них есть союзники, то в «Требнике троих» они доказали, что способны создавать первоклассную поэзию.

| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта | 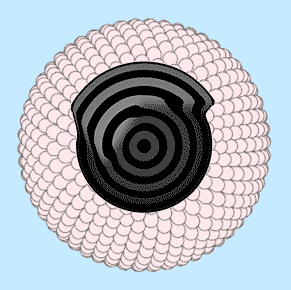 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||