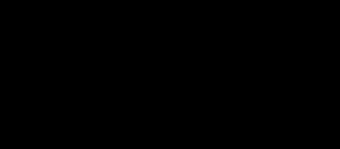
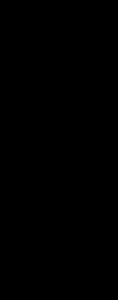
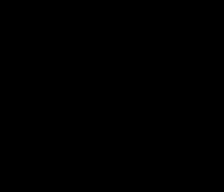
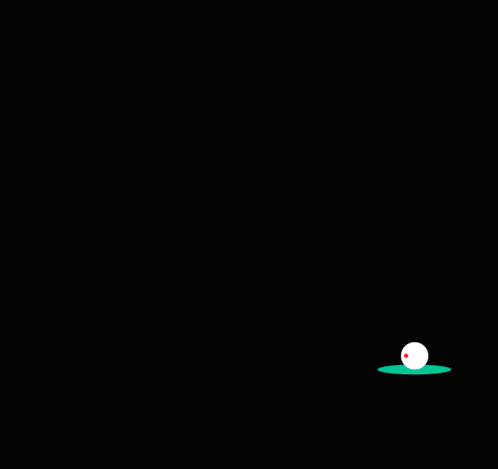
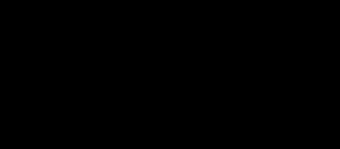
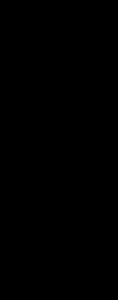
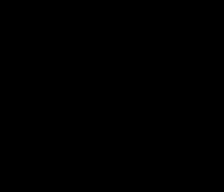
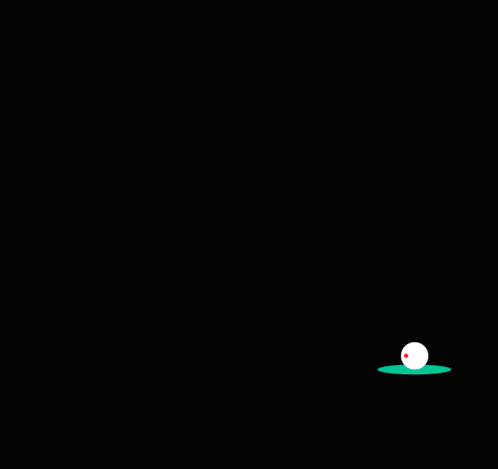
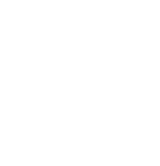 режде всего, предлагаемый очерк не есть работа чисто литературного порядка.
режде всего, предлагаемый очерк не есть работа чисто литературного порядка.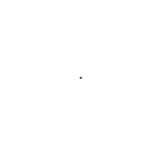 ервые годы после революции дали чрезвычайно мало исследований марксистского характера в области культуры. Те, что налицо, принадлежат перу уже известных всем писателей в этой области. Молодых сил я не встретил. Потому с особенным удовольствием приветствую интересную работу молодого марксиста Я.Е. Шапирштейна. Его исследование в области неонародничества вносит чрезвычайно оригинальную струю в вопрос о русском футуризме. Конечно, некоторые марксисты — по крайней мере, в небольших статьях — писали о футуризме, но большей частью суммарно, принимая весь русский футуризм за простой извод западноевропейского футуризма, ища, и, по-моему, совершенно правильно находя настоящий социалистический базис для этих последних проявлений западноевропейской буржуазной культуры.
ервые годы после революции дали чрезвычайно мало исследований марксистского характера в области культуры. Те, что налицо, принадлежат перу уже известных всем писателей в этой области. Молодых сил я не встретил. Потому с особенным удовольствием приветствую интересную работу молодого марксиста Я.Е. Шапирштейна. Его исследование в области неонародничества вносит чрезвычайно оригинальную струю в вопрос о русском футуризме. Конечно, некоторые марксисты — по крайней мере, в небольших статьях — писали о футуризме, но большей частью суммарно, принимая весь русский футуризм за простой извод западноевропейского футуризма, ища, и, по-моему, совершенно правильно находя настоящий социалистический базис для этих последних проявлений западноевропейской буржуазной культуры.
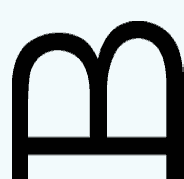 ысказываний о русской литературе чрезвычайно много. При этом разговор ведётся преимущественно в двух плоскостях:
ысказываний о русской литературе чрезвычайно много. При этом разговор ведётся преимущественно в двух плоскостях:Когда делаются подобного рода заявления, следует немедленно реагировать. Но сама обязательность отклика обуславливает превалирование злободневности в ущерб взгляду с исторической точки зрения. Оценка даётся зачастую неприлично грубо, суммарно, научно несостоятельно. Самая, пожалуй, добросовестная попытка разобраться2![]()
Рассуждения эти признать удовлетворительными нельзя. Исходя из марксистского понимания общественных отношений, утверждать, будто какой-либо класс начнёт преследовать своих же идеологов, в высшей степени опрометчиво.
Далее Ф.И. Калинин опускается до прямого искажения исторических реалий.
Это явное народничество с его мессианскими воззрениями на Россию, мужика и т.д. В начале второго десятилетия XX века утверждать, будто социалистический переворот у нас должен был произойти раньше, чем на Западе, нелепо. Царизм с его капиталистической пристяжкой погубила империалистическая война, хотя футуризм действительно возник до её начала.
Другие критики дали ещё менее обоснованные и твёрдые утверждения. Так, А.В. Луначарский в предисловии к «Ржаному слову» высказался весьма туманно:
Это, разумеется, не может быть названо определением, даже пояснением. В дальнейшем А.В. Луначарский делается более решительным, но ничуть не менее голословным:
Статьи некоторых критиков — как сторонников футуризма, так и его хулителей — служат наглядными примерами того, как не следует дискутировать по данному вопросу. Таков, например, спор В.М. Фриче и О.М. Брика. Воспроизводим в лицах:
Фриче: Маринетти — империалист, а Верхарн — певец масс. Следовательно, футуризм — исчадье буржуазии.
Брик: Маяковский написал антимилитаристскую поэму «Война и Мир», а Верхарн шовинистическую «Окровавленную Бельгию», значит, футуризм — поэзия пролетариата.7![]()
Ясно, что из таких посылок ровным счётом никаких выводов сделать нельзя. Комментарии, как говорится, излишни. Того же пошиба и высказывание Н. Альтмана:
Мы намеренно собрали воедино мнения, непосредственно для нашей работы бесполезные, чтобы пояснить поставленную задачу. Она может быть сформулирована так: дать возможно точно классовое определение футуризма как художественно-общественного течения, базируясь главным образом на футуристической литературе, поскольку та в этом отношении даёт несравненно больше материала, чем живопись или театр. При этом речь пойдёт в основном о содержании, а не форме разбираемых футуристических произведений: касаться таковой допустимо лишь в плане формального сравнительного анализа всей русской литературы.
Первым и естественным подходом к теме является чисто временное, промежуточное определение футуризма, т.е. ответ на вопрос: какие конкретно явления литературы будут привлечены для сопоставления с ним. Как правило, критики сравнивают русский футуризм с двумя, для них самих не вполне ясными (во всяком случае, попыток анализа не наблюдаем) литературными направлениями:
1) западноевропейским футуризмом, который обычно и — как мы далее увидим — неправомерно считается идейным предком русского футуризма;
2) декадентством, оно же символизм. Таковое уже получило довольно точное идейное определение, без которого изучение футуризма немыслимо.
Насколько велика нужда в грамотном соотнесении этих аспектов, следует хотя бы из того, что налицо увесистый фолиант со множеством доказательств того, что Валерий Брюсов — футурист.9![]()
Прежде чем касаться западноевропейского футуризма, уясним классовую подоплёку творчества двух зарубежных писателей — Маринетти и Уитмэна. Последнее имя наверняка вызовет недоумение. Разумеется, Уитмэн не футурист в том смысле, в каком это обозначение прилагают к Маринетти; футуристом он себя не называл и никаких манифестов не подписывал.
Но если Маринетти — не более чем изготовитель воинственных лозунгов, Уитмэн оказал значительное влияние и на западноевропейских, и на русских писателей, давая мотивы подражаний; некоторые русские футуристы прямо указывают на Уитмэна как на своего предшественника.10![]()
Но сначала о Маринетти.
Его исходная точка — механизированный по последнему слову техники жизненный уклад.
Социальный враг Маринетти — феодализм, с его древними предрассудками, величавым спокойствием дворцов вместо небоскрёбов и лошадьми вместо автомобилей.
Итак, враг Маринетти — феодализм. Но, строго говоря, это враг скорее декоративный — вроде тёмного фона, на котором красное пятно лучше выделяется. Подлинный же враг Маринетти — мелкая и средняя буржуазия, для которой религия, семья и государство — нерушимые святыни. Маринетти — идеолог империалистической буржуазии, причём идеолог не политический, а эстетический. Это даёт ему возможность идти дальше самих империалистов, “предвосхитить”, как говорится в таких случаях.
Маринетти предчувствует эпоху, которая ещё не наступила (а может, и не наступит), когда концентрация капитала достигнет крайних пределов.
В этом случае неизбежно возникнет небольшая группа людей, которым всё позволено. И это не наследники своих отцов, не гордящиеся родословной аристократы, а смелые и сильные люди.
Это империалисты, они собственными усилиями нажили свои состояния.
Их миллиарды — не капитал ренты, предназначенный для беспечальной жизни во дворцах. Деньги этих дельцов обращаются в бешеном вихре спекуляции; страстная жажда приращения капитала, новой сделки, нового рекорда наживы заставляет их мечтать об ограблении всего мира.
Ради острых ощущений империалисты прибегают к самым рискованным средствам. Бросить, нежась в постели, народы в пекло мировой бойни, а потом по телефону направлять действия главнокомандующего по истреблению пушечного мяса — высокое наслаждение.
Довести трудящихся до состояния, в котором они готовы на всё, лишь бы добиться свободы, не страшно: пулемёты дворцовой охраны усмиряют восставших.
Империализм интернационален, империалист очень плохо умеет притвориться, что война — следствие велений патриотической совести, а не захват новых рынков.
Если буржуа прошлого, ещё не империалист, считал долгом порядочного семьянина скрывать наличие энного, в зависимости от темперамента и кошелька, числа содержанок — империалисту это смешно. Для повышения жизненного тонуса следует наилучшим образом использовать досуг, и гарем его — у всех на виду.
То же и в области чисто эстетической. Буржуа малых дел и сотен тысяч почитает священной обязанностью скрывать, что бар, загородный ресторан или «Луна-парк» ему в тысячу раз милее, чем серьёзная сценическая постановка, на которой он зевает, — и он обязательно предварит ночную гульбу посещением театра Макса Рейнгардта или Александринки. Империалист миллиардов свои подлинные пристрастия утаивать и не подумает.
Представитель французского футуризма Аполлинер едва ли не теми же словами живописует свои принципы:
Перейдём к Уот Уитмэну. Трудно назвать другого иностранного писателя, относительно которого русская критика блеснула более нелепыми суждениями.
Посвятивший Уитмэну книгу К. Чуковский считает его певцом грядущей демократии — ярлык более чем странный, поскольку в демократии как таковой, по верному замечанию Луначарского, прогрессивного ничего нет. Демократия Эллады, как известно, базировалась на рабовладении. А раз так, Уитмэн с обложки Чуковского скорее ретроград, нежели пророк светлого будущего.
Вот несколько примеров откровений К. Чуковского. Оказывается,
Словом, счастье на земле уже наступило: примером тому Америка и другие прекрасные “демократические” страны. Ещё более пикантны приводимые Чуковским доказательства демократизма Уитмэна:
А.В. Луначарский указал по этому поводу, что мотивы Уитмэна в гораздо большей степени созвучны не мелкобуржуазной уравниловке, а коммунизму. Но и это верно лишь в плане публицистики, а именно: предположение, что в условиях Советской России Уитмэн даёт созвучный современности материал, допустимо. Переносить же подобный тезис в историческую плоскость смеху подобно: Уитмэн отнюдь не певец пролетариата и коммунизма.
К слову, противоречие публицистики строго историческому подходу — вещь самая обычная: вспомним хотя бы Островского, который, несмотря на совершенно иную классовую обстановку, даёт известный консонанс явлениям современности. Отвлекаясь от злобы дня, Уот Уитмэн окажется писателем типа Джека Лондона и Бернгарда Келлермана. Это идеологи американской — ни в коем случае не европейской — империалистической буржуазии.
Постараемся это доказать.
Маринетти отразил настроения преимущественно метрополии, империалистической страны-матери с её неизбежно более высокой и утончённой — главным образом, идеологически и эстетически — культурой. Уот Уитмэн и Джек Лондон — певцы того империалистического штаба, который имеет гораздо бóльшую возможность экспансии, идя вглубь собственной страны. Здесь материальная культура стоит очень высоко, по последнему слову техники, — просто потому, что всё новое, всё с лучшей фабрики. А вот идеология и эстетика, лишённые сложного переплетения корней и наслоений подпочвы, неизбежно примитивны и грубы. Маринетти требовал смелости, дерзости, железной воли, потому что без них не обойтись ни в пылу мировых войн, ни в битвах на мировой бирже; в ещё большей степени эти качества необходимы там, где миллионные состояния куются в постоянном ожидании револьверного выстрела или удара ножа — где-нибудь на Аляске или Дальнем Западе.
Характерный тип империалистической Америки — мальчик-шахтёр Мак-Аллан Б. Келлермана, собственными силами сделавшийся могущественнейшим человеком мира. А вот описание, типичное для Джека Лондона.
Сравним с автопортретом Уитмэна:
В одном из его писем говорится:
Те же мотивы в стихах Уитмэна:
Если исходить из этого стержневого образа человека-завоевателя, Уитмэн и в жизни, и в стихах вполне последователен. Даже как рекламист он не уступит грандиозному синдикату, который в романе Келлермана берётся за постройку туннеля: о своей первой книге стихов он сам пишет отзывы в газетах, благоразумно меняя псевдонимы.28![]()
Уитмэн создаёт блестящие стихи «Европа» и «Годы современные», направленные против старого мира, — точнее, феодальных пережитков. Он подробно перечисляет всех ненавистных ему подручных самодержавия: „поп, вымогатель, палач, тюремщик, законник, барин, солдат и шпион”.29![]()
Точка зрения ясна: царей нет — всё хорошо. И становится понятно, что словами „наш Капитолий с куполом белым, с гордой фигурой там, наверху” поэт выражает свой восторг перед величием “свободной” Америки, советуя наёмным рабочим не бороться за свои права и терпеливо ждать лучших времён.
Чем же в таком случае объясняется несомненная близость Уитмэна современной России?
Оказывается, если цитированные выше стихотворения Уитмэна декламировать сейчас, они приобретают вполне революционный смысл. Уитмэн — не узкий бытовик, и слова его имеют достаточный объём, чтобы стать созвучными настроениям человека, подходящего к ним с апперцепцией, основанной на Октябрьской революции.
Есть тому и вполне определённое классовое объяснение: наиболее сильные типические люди империалистического государства, постигшие в высшей степени культуру машины-города, обязательно найдут применение себе и в социалистическом государстве. Полагаем, что Вандерфлит, первый американский концессионер в Советской России, в случае социалистического переворота в Америке — если он, конечно, при этом уцелеет — окажется руководителем какого-нибудь главка Американского ВСНХ.
Показательно, что именно романист империалистической буржуазии Джек Лондон даёт аналогичный пример: сын миллиардера переходит в лагерь социалистов. И этот же писатель разворачивает картину грандиозной борьбы кучки богачей с миллионами бедняков, причем всякое лицемерие, всякая маскировка красивыми лозунгами отброшены.31![]()
Мироощущение Уитмэна во многом врастает в будущее, отбрасывая мелкие пошлости средней буржуазии. Его стихийное ощущение пола, совершенно порывая со сластолюбивым трико и ажуром рафинированной буржуазии, идёт дальше не лишённых известной пряности воззрений Маринетти:
Выводы этой части нашей работы ясны: голос того западноевропейского искусства, которое и формально, и по существу (т.е. называя и не называя себя футуризмом) претендовало на роль искусства будущего и могло стать (стало ли — другой вопрос) предтечей русского футуризма — созвучен умонастроениям империалистической буржуазии Запада времён золотого века машин.
Перейдём к рассмотрению литературного явления, которое принято называть русским символизмом или декадентством.
Наиболее правильно его положение в русской литературе определил А.В. Луначарский:
Другой критик, находя у декадентства “примат формы над содержанием”, говорит, что „если на Западе декадентство было лишь крайним развитием исконной тенденции, то в России оно было, наоборот, разрывом с традициями Великой Кривой”,34![]()
Соответствие новой, занимающей место господина, культуры русской буржуазии западным явлениям того же порядка — вот основной момент, определяющий русское декадентство. Для иллюстрации взглядов русских декадентов на современные им общественные явления и, одновременно, как указание на их близость к Западу приводим два обращения к городу — Брюсова и Верхарна:
Брюсов:
У Верхарна Старый Горожанин говорит:
А вот слова Провидца:
Отчётливо видно двойственное отношение к новому, надвигающемуся, неотвратимому. Приветствуя блага цивилизации, русские декаденты явно испытывают страх, который охватывал Глеба Успенского всякий раз, когда от описания явлений народнического порядка он переходил к гримасам капитализма, „неминуемым и ужасным”.
Эта двойственность — прямое следствие того, что конец века для Западной Европы и, в особенности, для России ознаменован тем, что натиск мировой буржуазии казался неодолимым.
В этом смысле западные декаденты — прямые предшественники Маринетти, который, в отличие от них, подбирает для нового жизненного фактора исключительно радостные ноты.
Но, хотя русские декаденты страшились буржуазного быта, была в нём и громадная для них притягательность. Приведём для примера несколько описаний места действия в драме А. Блока «Незнакомка»:
В тех же случаях, когда Блок идёт в отрыв от интернационального буржуазного быта, он попадает в плен того извода западноевропейской литературы, где на феодализм положено смотреть сквозь розовые очки. Возникает череда замков с изорами, алисканами, бертранами и т.п.41![]()
![]()
Элементом протеста в поэзии декадентов явился рафинированный индивидуализм, основанный, скажем так, на извращённой мечтательности. Пропорция мечтательности, естественно, у разных авторов различна: между гордящимся одновременным сожительством с тремя сёстрами43![]()
![]()
Роковая невозможность оторваться от западноевропейской культуры сказался даже в «Скифах» Блока, где поэт, гордо предлагающий Западу битву на вершине Уральского хребта, с болью говорит о том, как близки, дороги и понятны ему „парижских улиц ад”, „венецианские прохлады”, „лимонных рощ далёкий аромат” и „Кёльна дымные громады”.45![]()
Весьма характерно, что представитель той же литературной группы Андрей Белый, возглашая
Для иллюстрации общественного значения русского декадентства не обойтись без Леонида Андреева. Декадентом в узком смысле его не назовёшь, но — главным образом в символическом и отчасти ирреалистическом уклонах «Царя Голода» — декадентству он причастен.47![]()
Единственным реально действующим лицом «Царя Голода» является инженер, усовершенствованными орудиями уничтожающий бунтовщиков, подкупающий провокаторов, и постоянно замаскированный грязной фабричной одеждой.49![]()
Для Андреева революция — такой же, как в рассказе Брюсова о расстрелянной солдатами религиозно-вакхической секте, бунт.
Другая черта декадентства — тонкая психологическая обрисовка — налицо в «Рассказе о семи повешенных». Тема произведения взята во вполне отвлечённом плане: переживания приговоренных к смертной казни как таковые; политического здесь немногим больше, чем в известном произведении Виктора Гюго. Но если вспомнить, что 1) пятеро из семи преступников — террористы, покушавшиеся на министра, 2) книжка вышла отдельным изданием в 1909 году, — нельзя не заподозрить определённой тенденции. Опять-таки главное действующее лицо здесь — Вернер, весьма развитая личность, но неважный революционер.50![]()
В этом смысле не менее любопытен «Петербург», роман идеалистического (с мистическими нотами) философа в беллетристике Андрея Белого. Уже то обстоятельство, что автору чужд чисто эстетический и созерцательный, но ничего не объясняющий подход Брюсова, несколько обнадёживает. Если же принять во внимание, что Белый далёк и от эллинской ясности Вячеслава Иванова — уверенность в его повороте к русскому берегу ещё более крепнет.
Но, хотя Белый несравненно больше русский сердцем, чем Брюсов и даже Блок, причалить к народнической пристани он органически не способен. Это мы сейчас и постараемся доказать.
Прежде всего, для Белого антагонизм западничества и русского народничества абсолютно ясен:
Недовольство (под маской иронии) нумерованным и регистрированным Западом на русской почве, сквозящее в этих строках, разрешается бунтом восточного варвара:
Выявляются два миросозерцания: умеренного европейца и стихийного сына Востока. Но тон значительного подъёма и силы, исключительно редкий для Белого, сменяется мистической насмешкой философа, для которого подлинно значительны лишь борение духа и катаклизмы идей.
Невольно думаешь: не к домино и гриму, не к шутовскому ли наряду сводится для него революция, не мелки ли эти трубадуры её величия? Ведь все они — грызуны, копошащиеся в мышеловке провокации, где приманкой служит революция.
Как ни маскирует автор идейную подоплёку романа, этот эпизод всё ставит на свои места. Порыв на Восток заканчивается тем, что Николай Аполлонович, в бурнусе и пробковом шлеме европейца-колониста, пишет в тунисской деревушке ультра-культурный и ультра-европейский — хотя на ультра-неевропейские темы — трактат под названием «О письме Дауфсехруты»...53![]()
А Аполлон Аполлонович, на правах российского лэндлорда, пишет „остроумнейшие мемуары”.
Тем не менее, оба этих петербуржца, чуждые России, оказываются по силе культуры своей положительными героями романа.
Да, чуть не забыл главное: про Николая Аполлоновича
Что же представляет собой русское декадентство с классовой точки зрения? Благоволение и щедроты русской буржуазии, почувствовавшей себя крепко стоящей на ногах и возжелавшей иметь наёмных певцов — стимулы ренегатства интеллигентов после разгрома народовольческого движения и событий 1905 года.
И для буржуазии в собственном смысле этого слова, и для её литературно-художественной обслуги чрезвычайно важна связь с Западом. Первой хочется играть роль на нью-йоркской и парижской биржах, вторую манит утончённый эстетизм Западной Европы.
Но эта зависимость послужила причиной того, что многие маститые декаденты если не превратились в коммунистов, то, во всяком случае, одними из первых пошли на советскую работу. Таковы В. Брюсов, А. Блок, В. Мейерхольд, В. Иванов и др.
При этом их попытки стать революционерами не только на ниве общественности, но и в искусстве провалились или длились недолго. «Соловьиный сад» заслонил собой и гордый вызов «Скифов», и боевитость «Двенадцати». Едва ли не единственный пример декадента, сумевшего влиться в революционный фронт и сделавшегося для этого футуристом — Мейерхольд, от «Балаганчика» шагнувший к «Мистерии-Буфф». Объяснение метаморфозы найти нетрудно: привычка рассматривать события в свете мировой культуры помогла лучшим из декадентов угадать в революции Октября зарождение эстетики всемирного значения.
В заключение остановимся на одном поэте, который по милой глупости причинил много недоразумений: назвал себя футуристом, а кое-кто этому поверил. Между тем, сущность его ясна совершенно: это изысканно одетый молодой человек, воспевающий комфорт гостиниц high class.
Извращённости у него меньше, чем у Брюсова, а комфорт менее тонок, чем у старших декадентов. Вообще говоря, это их бульварное издание. Недаром Игорь Северянин считает нужным „популярить изыски”.55![]()
Разумеется, его следует причислить к декадентам. Именно поэтому Северянин так нравится Брюсову („поэт в лучшем смысле слова”56![]()
![]()
Яснее всего суть поэзии Северянина и его присных — в песенках Вертинского. Этот идол какаинистов и эфироманов из среды дегенерирующей буржуазии и обуржуазившейся интеллигенции догадался: если уж переносить северянинские мотивы на эстраду и придавать им сценическую форму — хотя бы лишь для сценической декламации, а не действия, — без Пьеро как без рук.
Это, конечно, не ярко-радостный Пьеро Италии, купающийся в ослепительном солнце и здорово-сильных тонах бутафории, декораций и костюма. Это даже не Пьеро Блока — существо блёклых тонов и жертва неудачной, но бесконечно трогательной любви. Это Пьеро пудры и чёрного костюма, любимец ищущих забвения в театре миниатюр petits jeunes gens и их достойных подруг, не так давно — если не только что — заскочивших сюда с бульвара.
Налицо пресловутый фешенебельный интернационализм, лёгкое порхание по паркетам Нью-Йорка, Лондона и Парижа, реверансы тамошним лэди и лордам — в то время как сам дальше Кисловодска не бывал и никого, кроме русских князей с подмоченной репутацией, из аристократии не знавал. Эта общая — заимствованная у подлинных декадентов — поза Северянина и Вертинского представляет собой дешёвую, хотя и талантливую, подделку.
До чего бульварное издание декадентства может дойти в политическом отношении, показывает абсолютно мальчишеская выходка поэта Владимира Королевича. Этот господин не нашёл ничего лучше, как в 1918 году выпустить книжку с посвящением вел. князю Дмитрию Павловичу. Очевидно, блеснуть захотелось: вот мы какие, даже императорским высочествам книжки посвящать можем. И ближайшие кандидаты для сидения в ЧК, проституирования на бульваре или бегства за границу, ходили по Кузнецкому, где царствуют „духов томящие угары”, и говорили „посмотрите-ка, это тот самый, который”.58![]()
Переходим к так называемым русским футуристам и общественному значению их поэзии. Но кого считать подлежащим рассмотрению? Мы полагаем нужным начать с отрицательного определения, кончив положительными сторонами этого литературного явления. От угасания доморощенного декадентства до появления нового не только по отношению к нему, но и к русскому футуризму литературного течения — вот рамки наших изысканий в данной части работы. Таким “новейшим новым” полагаем пребывающих ныне в зачаточном состоянии пролетарских поэтов. Имажинистов или какую-либо иную группу, основным занятием которой является придумывание себе ярлыка позвучнее, в новаторы зачислять не приходится. Сами они называли себя некогда футуристами, ничего действительно прорывного создать не сумели — и единство общественного фронта, которое мы предлагаем назвать неонародничеством, не нарушают.
Остановимся на наиболее показательных представителях того течения, которое мы сами отнюдь не называем футуризмом — поэтах и критиках-футуристах Е. Гуро, В. Хлебникове, А. Кручёных, Д. Бурлюке, В. Каменском, С. Есенине, Н. Клюеве, А. Мариенгофе, В. Шершеневиче, И. Игнатьеве и В. Ховине. Маяковскому мы посвятим особую главу, так как полагаем, что в непосредственной общественно-генетической связи с указанными поэтами он не стоит: его положение совершенно особое.
Герой Кручёных — „современный дикарь” („тоска современного дикаря больше и глубже Надсона”59![]()
Поэту ненавистны „сонный ритм салонного танца ‹...› ритм любви или крепко спящего человека”61![]()
![]()
Ему скучны атрибуты культуры промышленной и финансовой буржуазии:
Вспомним, что для Маринетти, например, телеграфный знак — объект воспевания.
Естественно, Кручёныху особенно неприятно иностранное, нерусское, ибо там ненавистная ему культура расцвела особенно пышным цветом:
Зато с любовью останавливается Кручёных на крестьянах-сектантах, конечно, чуждых “культуре”:
Д. Бурлюк прежде всего патриот — славянофил, если хотите — в области искусства. Он горой стоит за „великую Россию”,66![]()
Заново создаваемой культурой явится „новое русское искусство”. Побудительными причинами его появления Бурлюк объявляет:
1) саму жизнь;
2) “гнилой” Запад;
3) наличие национального искусства (вывеска, лубок, икона).67![]()
Бурлюк высмеивает подражание иноземным образцам, негодует относительно того, что в XIX веке мы были рабами немцев с Шишкиным во главе68![]()
Бурлюк с болью, выдаваемой за иронию, говорит о том, что покупка произведений художников — единственное пока мерило признания искусства обществом.70![]()
Это своеобразное народничество сказывается в стихах Д. Бурлюка в виде смакования, скажем так, “истинно-русских” выражений, которые своей земляной примитивностью шокировали бы не только изощрённых декадентов, но и Маринетти, влюблённого в холодную остроту стали. Налицо не удаль завоевателя-колониста Уитмэна, а молодечество — душа нараспашку — русского народолюбца, только особой формации: вроде подгулявшего интеллигента в трактире, жаждущий забытья от засасывающей, как болото, рутины повседневности:
Е. Гуро ненавидит современную цивилизацию, то есть город. Приводим целиком её очень сильное стихотворение на эту тему:
Цивилизованной „картонной пустоты” нет лишь на лоне природы, потому так мила Гуро финская мелодия средь величавых скал и озёр:
Ненависть к современной культуре заставляет Гуро мечтать об её уничтожении, даже о революции, но в примитивно-детском, невероятно наивном смысле:
В. Хлебников даёт гораздо более внятное описание того современного дикаря, о котором кричит Кручёных.
Думается, строки эти следует понимать в плане автопсихолии.
Всё это вновь ставит ребром вопрос города и деревни, десятки лет истории русской общественной мысли служивший оселком и зеркалом идеологии классов и партийных группировок. Мы видим, что русские футуристы определённо стоят на платформе народнического решения этого “вечного” вопроса; но цитированные выше произведения Кручёныха, Бурлюка, Хлебникова и Гуро дают аргументы главным образом индивидуально-эстетического, а не общественного характера. Нас же гораздо больше интересует вопрос: что этот современный дикарь поведает городу и миру не о своих переживаниях и страстях, а о явлениях современности, исторических событиях и т.д.?
Это важно по следующим соображениям. Народническая платформа столь обширна, что принадлежность к ней ещё не служит мерилом классовой сущности той или иной идеологии. От Д.Н. Шипова до М. Спиридоновой „дистанция огромного размера”, искать здесь ощупью русских футуристов — мартышкин труд.
От которого нас во многом избавляет Хлебников. Выявить с достаточной полнотой общественный смысл русского футуризма помогают его строки:
Автор, очевидно, воспринимает „русский бунт, бессмысленный и беспощадный” как борьбу восточной Руси с иноземным наносом на её чернозём, императорским Петербургом. Это, кстати говоря, типично народническое представление; народовольцы 70-х — откройте любую книжку их мемуаров — воспитывались на Пугачёве и Стеньке Разине, герое другого русского поэта-футуриста — В. Каменского.
Ненависть к Западу побудила Хлебникова проповедовать своего рода священную войну, славянский джихад:
Победная уверенность Хлебникова в славянстве вырисуется ещё более рельефно, если вспомнить, что ему внятны известные слова „умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать — в Россию можно только верить”. Хлебников считает их высокой верой в высокие судьбы России.79![]()
Ложность общепринятых мерок в отношении России заставляет Хлебникова схематически противопоставить русских писателей и русскую народную песню, иначе говоря — интеллигентские поиски и творческую интуицию народа. Хлебников утверждает: мерилом вещей в народной песне служит Россия, для писателей же таковым является последняя книжка.80![]()
Весьма помогает решить поставленный нами вопрос новое произведение Хлебникова, бросающее свет на его понимание современности. Классовую борьбу он поверяет географией:
Для Хлебникова бесконечно характерен оборот:
Самое же любопытное — словесный портрет вождя бедноты. Персонифицируя, Хлебников имени В.И. Ленина не называет:
Несколько ниже повторяется аналогичный мотив:
В цитированных стихах сквозит убеждённость Хлебникова в “родстве душ” славянства и Востока. Сопоставляя отрывки, видим и недвусмысленное указание на то, что классовая сущность того, в ком труд увидел друга — хата, т.е. крестьянство. Всё это хорошо известно по разного рода эсеровским программам.
Перейдём к Каменскому. Это, несомненно, поэт, у которого ненависть к городу приняла наиболее художественно отстоявшиеся — и при этом положительные — формы: в то время как его сподвижники это чувство иной раз сопровождают истерическими выкриками, Каменский пишет о том, что любит.
Совершенно правильно Борис Гусман в «Очарованном Страннике» назвал его „русокудрым, небоглазым поэтом Земли”.85![]()
В. Каменский всегда мечтает о том, как бы скорее удрать из душного, нелюбимого города:
„Заяц чудесней Москвы-суеты”, — утверждает Каменский.87![]()
По той же, что и у Хлебникова, идеологической ассоциации Каменскому дорог Восток:
Трудно придумать более типичное для одной из первых книг Каменского название, чем «Танго с коровами». Слово ‘танго’ запало в ум Каменского из газет, журналов и кино, а народнические воззрения дополнили его коровами. Получилось то, что строгий логик наверняка назвал бы contradictio in adiecto.
Весьма любопытно, что неравнодушие Каменского ко всему русскому и восточному сказалось там, где, быть может, ему и не следовало сказываться. Мы говорим о «Паровозной Обедне» из разряда “производственных пьес”, написанной в 1921 г.
Поэт пятен, а не линий, степей, а не фабрик, колокольного звона, а не заводских гудков органически не мог справиться с этой задачей.
Прежде всего, форма: „обедня”, „три служения” и т.д. Темп типично церковной торжественности. Русский юноша говорит:
Затем ремарка: „Мерно ударяет в колокол”.
Столь же примечательно и то, что метафорически удачные образы паровоза вложены Каменским в уста грузина и китаянки. Китаянка:
Грузин:
Зато в уста итальянца Каменский, очевидно из желания пущей производственности, вложил заявление о том, что стальная копоть ему милее итальянского неба. Получилась, в лучшем случае, производственная назидательность — и в то же время удар по художественной идеологии поэта, удар поэтически не оправданный.
Каменский чувствовал себя одиноким в условиях царизма:
Революцию поэт Земли принял так, как его герой Стенька Разин: по-молодецки, по-русски. Теперь одному место: радости.
И, посылая своё красное яичко освобождённому народу, поэт в стихотворении «Встречайте утро революции» говорит:
Подлинное щебетание народнического соловья на сиреневой ветви, высоко-высоко над революционной действительностью!
В подобных Каменскому выражениях говорит о своём поэтическом призвании С. Есенин:
„Я последний поэт деревни”, — заявляет он в другом месте.98![]()
Одну лишь сельщину-деревенщину он и воспевает:
Есенин написал брошюру «Ключи Марии», которую можно считать изложением его эстетико-общественных взглядов. Это мессианистская вера в мужицкую революцию:
Далее Есенин противополагает “идолу” коммунистов Карлу Марксу — чуждому, по его мнению, лапотной Руси — корову, безусловный символ деревни.
И образы Есенина, вызванные революцией, идут по той же, полной запахов поля и деревни, линии:
Недаром Есенин себя называет наследником Кольцова и Клюева.103![]()
Суммируем преобладающие мотивы этой неонароднической поэзии:
1) отрицание буржуазно-городского строя и, в связи с этим, западной цивилизации как таковой;
2) любовь к древнерусскому и, как его источнику, к Востоку:
3) увлечение деревней и мужиком;
4) вера в мессианство этого мужика, в мужицкий социализм, занимающийся с Востока — из России;
5) порицание черт городского (западного) порядка в событиях 1917 года и страстное желание сквозь Октябрьский вихрь увидеть всеспасающего мужика — истинно-русского революционера.
Весь перечень этих мотивов находим у Клюева, Мариенгофа и Грузинова; Есенин и Каменский останавливаются на моментах чисто общественного порядка гораздо реже.
Клюев уверен в идиллии будущего:
Стальной машинерии современности он предпочитает народные верования и сказки:
Не менее характерны в этом отношении строки:
Анатолию Мариенгофу Октябрьская Революция тоже представляется бунтом азиатского начала против Европы; подобно Хлебникову и Каменскому, он славит Пугачёва и Разина:
Как никто другой, Мариенгоф стремится придать выражению своих мыслей предельный цинизм, считая это, надо полагать, отличительным признаком азиатчины и мужика. В этом отношении он заслуживает, пожалуй, упрёка в вульгарности.
И. Грузинов слишком ничтожен как поэт, чтобы на нём останавливаться. Но автор официальной платформы имажинизма — того течения, к которому, по их собственному заявлению (объективных данных этого, мы полагаем, не существует), принадлежат и Есенин, и Мариенгоф, и Шершеневич (о нём несколько слов впереди) — именно он. Из брошюры Грузинова:
Всё это нам давно известно, причём в более художественном изложении.
Таким образом, народнический уклон русской футуристической поэзии вырисовывается всё более определённо. Но, прежде чем подвести итог, остановимся на небольшом её ответвлении анархо-индивидуалистического свойства. Это и вполне естественно, и оправдано исторически: народничеству всегда сопутствовали, особенно в сфере общественной психологии, подобные настроения — почвой объединения служила идеалистическая подкладка. От отрицания буржуазно-городского строя в порыве общественного пессимизма легко перейти не к положительному народническому идеалу, а к индивидуализму — в качестве самосохранения. Но то обстоятельство, что анархо-индивидуалистическое поветрие почти не затронуло русских футуристов (из поэтов ему подвержен В. Шершеневич, из критиков — И. Игнатьев и В. Ховин), лишний раз подтверждает правильность наших выводов.
Шершеневич уловил в русской революции тот бесшабашный темп, о котором пишет, как показано выше, Мариенгоф.
Вадим Шершеневич — у анархо-индивидуалистов это так естественно и так им к лицу — не даёт ни общественного, ни эстетического положительного идеала; он предпочитает лёгкую фронду на страницах органа анархической молодёжи.113![]()
Виктор Ховин замечательно сформулировал психологическую почву зарождения протеста против строя городской современности:
Ховин отмечает, что “бунт” Маринетти, в сущности, не так уж страшен обывателю (последний „отнюдь не прочь о механическом прогрессе помечтать и весь погряз в идейках деловитости и приобретательности”).115![]()
Это протестная, отрицающая сторона Ховина сродни, как мы показали, общему строю футуристического движения. В положительном смысле он во время революции увлёкся Розановым и предался меньшевистской ругани.116![]()
И.В. Игнатьев сетует на трудности творчества при господстве буржуазии:
Выход Игнатьев видит в полном уничтожении общественной жизни.
И снова (вспоминаем Л. Андреева, А. Белого и В. Ховина) частное мудрствование.
Итак, приходим к неизбежному выводу: общественный смысл того литературного движения, которое называют русским футуризмом, адекватен народничеству. При этом народничеству с несомненно революционным уклоном, со всеми оговорками и особенностями, которые сопутствуют претворению политико-общественных догм в литературные формы. Оговорки эти зачастую заставляют долго и упорно пробиваться сквозь кору формы к искомому смыслу литературных явлений в плане их общественной значимости.
Чрезвычайно любопытно, что к предлагаемому нами определению русского футуризма наши предшественники подошли весьма близко, но термин футуризм запутывал до такой степени, так бездумно принимался, что всякий, именующий себя футуристом, для них таковым и оказывался. Отсюда причисление к лику святых футуризма Игоря Северянина, ничего общего с подлинным футуризмом не имеющего, даже враждебного ему, и фокусировка внимания на некоторых формальных ребячествах и пересаливаниях наименее талантливых поэтов. Любой — особенно если он пользуется более понятным, сравнительно с Кручёныхом, языком — казался им подлинным футуристом; отсюда ярлыки “народный поэт”118![]()
Повторяем: дорожащие своей репутацией критики оказались бессильны дать верную оценки раскладу литературных сил. Сделал это за них безответственный имитатор.
В 1913 году в Казани вышла книга «За что нас бьют» с подзаголовком «2-ое издание сборника Неофутуризм». Книга содержит опусы лиц, ни прежде, ни после этого не выступавших на литературном поприще: Грибатникова, Иринина, Михельсона и др. Этот литературный фальсификат был с презрением встречен Д. Бурлюком, посмеявшимся над неудачной подделкой в уже цитированной нами статье, где он полемизирует с Бенуа. На наш взгляд, эта подделка весьма поучительна. Авторы, достаточно хорошо знакомые с художественным мировоззрением футуризма, составили показательно бездарный, скажем так, футуристический сборник.
Как образчик футуристической книги он слаб до ничтожности: ни тени того искромётного задора, когда силящийся казаться предельно серьёзным автор не может удержаться от издевательского подмигивания. Ни намёка на разухабистую шутливость, которая так пленяет в романе Hauff’a «Der Mann im Mond», где он высмеивает дамски сюсюкающую манеру von Platen’a. Авторы «За что нас бьют» предлагают читателю иное:
1) никому не понятные стихи и изображения;
2) индивидуалистический (неизменный признак анархизма) протест против современного положения вещей;
3) пропаганду русской старины.
На последних двух пунктах следует хотя бы вскользь остановиться. Неизвестный автор возглашает:
А вот заповедь:
Далее стихотворение на старую, хорошо известную нам тему города.
Имитируются, таким образом, едва ли не все хорошо знакомые нам черты русского футуризма.
Дореволюционные же критики совершенно запутались в противоречиях. Валерий Брюсов не посмел написать критическую статью в точном смысле этого слова и ограничился беседой в лицах. Неистовый Критик в этой беседе так реагирует на футуризм:
Тут сказывается та сторона русского декадентства, о которой мы уже говорили: ценность — священная и безусловная — западной культуры.
Но гораздо любопытнее заявление, вкладываемое Брюсовым в уста Историка:
Налицо та взаимосвязь русского декаденства c отечественным футуризмом и одноименным западным литературным явлением, при уяснении которой только и возможно грамотное понимание русского литературного процесса XX века.
Русскому декадентству в тысячу раз ближе западноевропейский футуризм, нежели футуризм отечественный: оно застало только самое начало возвышения местной буржуазии; футуризм же, столь пышно расцветший у Маринетти, есть очередной этап развития западноевропейского декадентства, плоть от его плоти. Русский футуризм — явление абсолютно враждебное доморощенному декадентству, которое в своё время уничтожило гегемонию в русской литературе народничества, запоздалым и своеобразным наследником которого является русский футуризм. В том же выпуске «Русской Мысли», где напечатана статья В. Брюсова, Евг. Лундберг, говоря о футуристах, утверждает, что Игорь Северянин — талантливейший из них,124![]()
А.К. Закржевский в лекции, читанной в 1913 г., сближает русских футуристов и русских нигилистов, но от сколько-нибудь последовательного развития этой мысли воздерживается.125![]()
К. Чуковский, отмечая в русском футуризме склонность к опрощению и наличие в нём „нашей русской бунтарской души”,126![]()
Налицо полнейшее неумение разбираться в литературных явлениях применительно к жизни общества.
Д. Философов так определяет Маринетти: его „футуризм самый приказчичий, его идеалы не идут дальше торгово-промышленного империализма с аэропланами и автомобилями”. Противопоставляя ему вольное объединение Северянина и Маяковского, Философов спрашивает и сам отвечает: „Чего хочет поэт Северянин, к чему стремится Маяковский? ‹...› Футуризм, как общественно-литературное явление, вовсе не существует”.127![]()
Но чем, спрашивается, тогда объяснить победное шествие этого якобы мнимого явления — неонародничества, как мы его определяем?
Передовая русская интеллигенция в условиях незначительности и своеобразия русского национализма выработала свою собственную идеологию, отражающую в том числе и настроения пограничных слоёв мелкой и средней буржуазии, причём амплитуда близости к ним колебалась в зависимости от обострения или ослабления социальной борьбы. В наиболее острые её моменты часть радикальной интеллигенции порывала с разнокалиберными попутчиками и уходила к пролетариату и близким ему слоям. Те же, кто идеологически отождествлял себя с буржуазией, начинали опасаться уже не лёгкого ветерка фронды царизму и феодальным пережиткам, а урагана ненависти к буржуазии, своей надежде и опоре. В моменты спада революционной волны на стороне пролетариата оставалась лишь горстка партийно спаянной интеллигенции; остальные разбредались по широкому фронту апатии, критики разных бого- и духоискательств или становились в ряды дозволенной правительством оппозиции. Русское декадентство развивалось в условиях краха интеллигентского идеализма. Умерла наивная вера в мужика, зло осмеянная трагикомическими эпизодами хождения в народ 70-х годов, сошёл на нет героический порыв интеллигентстского терроризма. Мыслящие люди вдруг увлеклись городом, комфортом и утончённостью Западной Европы.
Русский футуризм тоже развивался в момент общественной апатии и реакции, но порождены они были совершенно иными обстоятельствами: революция 1905 г. со всей определённостью явила не интеллигентскую, а массовую революционность, на смену эсеровскому терроризму пришли методы борьбы организованного пролетариата.
Затем последовала эпопея думского онанизма в виде обмена любезностями Милюкова с Пуришкевичем и Марковым 2-м и государственных переворотов путём очаровательных изменений в избирательных законах, принимаемых изнасилованной страной с ледяным равнодушием. Всё это у известной части общества должно было породить разочарование и в самой революции, и парламентской борьбе, сильно окрашенной в западноевропейские тона.
Эти люди не решились остаться с пролетариатом (т.е. уйти в подполье), но нашли в себе мужество плюнуть в лицо победителям 1905 года и тем, кому эта победа была выгодна — обществу, щекочущему себе нервы газетными отчётами о думской болтовне.
Это общество наслаждалось комфортом первоклассных гостиниц и заливаемых электрическим светом квартир, пользовалось услугами одетых по последнему слову парижской моды содержанок. Так долой весь городской комфорт, всю буржуазно-городскую культуру! Русская буржуазия с заискивающей улыбочкой тянет руку за двумя пальцами Ротшильда? Так долой весь Запад, да здравствует его противоположность: полный таинственной опрощённости Восток и русский мужик с его нутряной силой и верой!
Словом, русский футуризм явился отразителем настроений промежуточно-интеллигентско-мелкобуржуазных слоёв, не сумевших или не посмевших понять, что текущей задачей является не идеологическое отрицание прозападной государственности, а штурм этой цитадели силами пролетариата.
Увы, это был немощный — вследствие своей деклассированности — слой интеллигенции.
Эпигоны народнической литературы, футуристы были слабыми отголосками далёкого грозного гула.
Общественной неопределённостью футуризма объясняются и его художественные вывихи, и доходящие до истерики публичные кривляния.
И опять о разнице положения русского декадентства и футуризма.
Первое, как мы видели, развивалось в эпоху, когда и передовая, близкая пролетариату партийная интеллигенция, и декаденты уклонились от политической борьбы. Персонифицируя: и Плеханов, имея за спиной пролетариат, и Брюсов с опорой на буржуазию — оба смотрели на Запад. Первый на Бебеля, второй на Варлэна — однако в одном и том же направлении. Но русский буржуа, который бессознательно инспирировал Брюсова, тоже смотрел на Запад. Правда, больше интересуясь Ротшильдом, нежели Верлэном.
Но мы показали выше, что Верлэн гораздо ближе к Ротшильду, чем к Бебелю.
Поэтому равнодействующая буржуа и Брюсова идёт в том же направлении, что и обе эти силы, а элемент протеста, являемый надрывом и надломом русского декадентства с его столь основательной классовой базой существенно сглаживается. Этим объясняется значительно бóльшая художественно-общественная определённость русского декадентства в сравнении с русским футуризмом — движением едва ли не целиком интеллигентского порядка.
Таким образом, русский футуризм есть интеллигентско-мелкобуржуазное революционное течение народнического уклона в русской литературе и общественной жизни XX века.
Залепив „пощёчину общественному вкусу”, футуристы гордо заявили: „Только мы — лицо нашего времени”,128![]()
Эта „пощёчина” была заурядным скандалом, которые нравились буржуазии — как и всё, что встряхивает, развлекает, выводит из апатии. Любопытно, что наибольшей посещаемостью в Московском Литературно-Художественном кружке, собиравшем цвет просвещённой буржуазии, наибольшим успехом пользовались в 1913 г. следующие лекции и доклады:
Шершеневич. Златополдень русской поэзии;
Корнилов. Александр 1-й;
Рунт. Женщина и любовь;
Шмидт. На границе жизни и смерти.129![]()
«Футуризм», «Легенда о Фёдоре Кузьмиче», «Половой вопрос» и «Анабиоз» оказались аттракционами момента.
Интеллигентская сущность футуристического революционизма с особенной ясностью сказалась во время Октябрьской Революции. При выборгском райкоме Р.К.П. образовался коллектив коммунистов-футуристов,130![]()
Для того, чтобы общественное значение русского футуризма прояснить ещё более, укажем на аналогичное литературное движение в Западной Европе: германский футуризм, он же экспрессионизм, он же дадаизм послевоенного периода.
Аналогия чрезвычайно поучительная.
Ещё до войны в германском искусстве чувствовалась разочарование в западноевропейском, слишком искусственном искусстве, и наклонность к варварству далёкой России.
Немецкие критики Albert Damm и Muggendorf, сторонники классических достижений западного искусства и члены Düres Bund’a, в книжке «Ultra Malerie» ещё в 1912 г. указывали на грозящую опасность:
Мировой катаклизм европейской войны и социалистической революции создали самые благоприятые условия развития указанных явлений.
В архибуржуазно-бюрократической «Die Woch» Franz Gervaes даёт в 1920 г. такое психологическое объяснение крайним художественным течениям:
Если присмотреться к социальной обстановке Германии 1920 г., увидим несомненное сходство с Россией после 1905 г. Разбитая революция и разбитая страна — тут и там. Разочарование известных интеллигентских слоёв в западной культуре и её достижениях, приведших к разгрому. Отсутствие смелости у тех же интеллигентских слоёв (соответствующих русским футуристам) примкнуть к спартаковцам-коммунистам, к партии пролетариата.
Если англичанин, даже близкий к социализму, уроженец страны-победительницы, должен был в материальном разгроме России увидеть только предупреждение — Англия сторонись большевизма как варварства, — если Уэльс133![]()
Leo Zahn, в предисловии к книжке К. Уманского, ожидает возрождения искусства со стороны революционной России. Ab oriente lux — его лозунг, и мы видим, что таковой восточен не только географически, но и по смыслу. Для для Zahn’a краеугольные камни русской культуры в исторической плоскости — Мужик и Достоевский, в современности — Татлин и Кандинский.134![]()
Влияние Достоевского сейчас в Германии поистине колоссально. Приходится присоединиться к остроумному заявлению одного товарища, что для лучшего распространения коммунистической агитационной литературы за границей надо включать в неё неизданные произведения Достоевского... Это и понятно: слишком разумная жизнь Германии довоенной поры и первого периода европейской войны, определявшаяся математически точной производительностью крупповских заводов по выработке орудий уничтожения, а затем математическими сообщениями главного командования о количестве взятых пленных, орудий и т.д., вдруг прервалась такими вот отнюдь не математическими и вовсе не разумными событиями: поражением, революцией, мартовскими событиями последних лет...
Желая себя успокоить на том, что, собственно говоря, разумная логика событий и есть максимальная анархия, что, вообще, надо от множества, неизбежно тупого и глупого, уйти к единичному, немецкий интеллигент жадно внимает словам Достоевского в устах Алексея Фёдоровича Карамазова:
Чрезвычайно любопытным литературным явлением современной Германии является роман Бернгарда Келлермана «9 ноября». Суть романа аналогична лондоновской «Железной пяте»: налицо переход завзятого империалиста Келлермана («Туннель») в лагерь Революции. Общий, неоднократно нами отмеченный фундамент машинной экономики сказался и тут.
Но сейчас нам это произведение любопытно с точки зрения своего бесспорного революционного востокофильства. Когда герой романа Аккерман видит, впервые после Брест-литовского договора, поднятый над русским посольством в Берлине красный флаг, он
А вот положение Европы (в голове Аккермана) к моменту начала германской революции:
Весьма характерно, что в этом романе Келлерман изменил своей обычной реалистической манере письма.
Таким образом, нам становится понятной антикультурная пропаганда немецкой художественной группы, именующей себя дада и гордящейся тем, что это слово не имеет ровно никакого смысла.
Заграничная хроника сообщает нам, что в германской литературе наблюдается рост народничества, появляются романы из крестьянской жизни, драматург (Штернгей) пишет пьесу, в которой показывает естественного человека, отрекающегося от Европы и жаждущего освобождения в девственной, духовно и физически, почве. Учёный (Spengler) доказывает, что наступил закат Запада и его культуры.
Не менее показательно, что одни из виднейших проводников декадентства — в частности, российского декадентства — в Германии Otto Blei перешёл в лагерь пролетарских писателей Германии.
Таким образом, наша аналогия лишний раз подтверждает сделанный ранее вывод: русский футуризм второго десятилетня XX века, подобно германским крайним художественным течениям эпохи конца мировой войны, представляет собой интеллигентско-революцнонное движение, развивающееся в условиях общественной реакции, которое в случае победы пролетариата теряет свою революционность.
Можно считать нашу работу законченной, если бы не уяснение общественного смысла поэзии В. Маяковского. Мы сознательно не цитировали его при обзоре русского футуризма: в противном случае образ Маяковского утратил бы свою цельность. Вечный вопрос города и опрощения, западной культуры и варварства, который мы отметили выше у русских футуристов, стоял и перед Маяковским. Но только в двух стихотворениях он стоит на позиции полного отрицания города, совершенно обычной и даже обязательной для прочих поэтов-футуристов. У Маяковского мы всегда наблюдаем элемент сомнения; психология, упрощённо излагая, такая: да, город ужасен, но, очевидно, это так нужно, будем же и мы — люди — соответствовать этому страшилищу.
Городу, очевидно, солнце и луна не очень-то нужны. Поэт приемлет эту ненужность, кошмарную для него:
Сомнения Маяковского образно вырисовываются в мрачных строках:
Синтез навоза и железного механизма — вот образ сомнений Маяковского. Поэт ещё не нашёл выхода, мы видим не химическое соединение, а смесь. Соединение это поэт — лишь урывками — видит в полном отрицании города и его культуры.
Но постепенно искомое соединение в плоскости этого вечного вопроса намечается как отрицание сверхкультурной части западной культуры, её никому не нужной изощрённости, механичности, доведённого до абсурда, до мертветчины движения. Это уже не движение, а топтание на месте, отрицание псевдо-цивилизованности, в рамках которой имущие классы стали палачами в лакированных перчатках, отрицание государственности, занимающейся созданием тюрьмы размером в свою страну, отрицание буржуа-владельца машин, в когтях миллионов которого эти машины — рабыни, а не весёлые товарищи. И у других русских футуристов можно уловить намёк на это, но у них он незначителен, а у Маяковского довлеет себе.
Мы видим тип ничтожного изобретателя:
В этом средоточии ничтожества даже сказки прошлого, полные героизма и величия, чувствует себя неловко и блёкнут.
Император Петр 1-й, его конь и змей сошли с постамента петербургского памятника и зашли в «Асторию»:
Перед нами проходят прекрасные типы тех, кто гонит прочь последние сказки. Вот судья:
И поэт полагает:
А вот великий учёный:
Задача критика современности:
Буржуа жрёт и, строго говоря, кроме рта ему ничего не нужно:
Не забыл поэт и слуг государства:
Видим мы и двигателя прогресса — фабриканта-заводчика:
В более поздних стихотворениях отрицание сверхкультуры Запада — точнее, отрицание отрицания Западной культуры (ибо разве сверхкультура не есть отрицание её самой) — становится обычной темой. Если принять во внимание, что написаны они в 1913 г. и позже, а сомнения вплоть до полного отрицания города относятся к 1910–11 гг., заметна тенденция творческой эволюции поэта.
Итак, Маяковский в произведениях 1913 г. возглашает новую в плоскости вечного вопроса города и деревни общественную идеологию, начав с более или менее обычной народнической платформы русского футуризма. В плоскости выявления общественного протеста Маяковский тоже начал с формы, свойственной большинству русских футуристов. Это протест индивидуалистического, народно-анархического порядка:
Это очень ранее (1912 г.) стихотворение. Но и гораздо позже, когда доминирующим элементом поэзии Маяковского стали революционные ноты, индивидуалистические блики налицо. В «Войне и мире» слышим:
Тут самым определённым образом изображён революционный, в позиции коренного противоречия господствующему порядку вещей, интеллигент. Однако себя он отнюдь не отождествляет — и, очевидно, не может отождествить — с угнетаемыми. Он за них лишь заступается.
У революционера-интеллигента формула мировоззрения такова: “они” (ненавистная власть) “я” (революционер-интеллигент) и “они” (угнетаемые). В том, что “я” выступает на защиту “их” — угнетаемых — есть несомненный признак интеллигентской благотворительности.
У революционера-рабочего формула другая: “они” (ненавистная власть) и “мы” (угнетаемые, восставшие). Ни тени благотворительности: революционное товарищество.
Ощущение этого революционного товарищества, принятие второй — уже не интеллигентской — формулы, проникновение в сущность революционного коллектива наблюдается у Маяковского не ранее 1914 года.
Последние две строчки особенно знаменательны.
Подлинный революционный интернационализм сказывается в следующих стихах «Войны и мира»:
Отметим, что здесь нет пресловутой производственности, которая заставила анти-механичного поэта-народника В. Каменского отрицать прелесть итальянской природы. Маяковский понимает всю призрачность политических революций, меняющих обозначения угнетателей и всё грандиозное величие революции социалистической, уничтожающей самое угнетение, и он стремится именно к этому.
И торжество наступает только тогда, когда поэт восклицает:
Пришли настоящие хозяева земли:
В соответствии с уверенностью в исторически неизбежнуой победе социалистической революции стоит и уничтожающий, здоровый смех — сатира Маяковского.
Особый стиль революционности Маяковского придают его антимилитаристические произведения, замечательные вскрытием причин т.н. “пораженческой” идеологии:
И в момент революции первой мыслью поэта было: конец войне.
Если вспомнить, что до свершения Октябрьской революции в русской печати появилось (кроме произведений Маяковского) всего-навсего два антимилитаристических стихотворения, причём одно из них принадлежало Горянскому,165![]()
![]()
Что же представляет собой поэзия Маяковского как общественно-литературное явление?
Наиболее крупный из всех русских футуристов, он порвал с народнической интеллигентско-индивидуалистически революционной платформой русского футуризма и предпринял попытку постижения новой общественной идеологии, неизбежно ведущей к идеологии пролетариата.
Славянофильство, впрочем, сказалось у Маяковского и в «150.000.000», т.е. совсем недавно.
Скорее всего, виной тому публицисты вроде Стеклова, на страницах «Известий ВЦИК» выставляющего Россию венчанной страдалицей и Мессией.
Критики типа К. Чуковского оценили этот так: Ахматова и Маяковский — выразители крайних общественных настроений (Монархия и Сов. Россия), а следовало бы найти золотую середину.167![]()
Но дело в том, что Маяковский живёт не в эпоху диктатуры пролетарской культуры, а в момент усвоения пролетариатом дореволюционной культуры. С одной стороны, это подготовительная школа, с другой — момент агитационного использования эстетического наследия. Словом, налицо обращение к русской классике в целях агитации (здесь нова только фабула), а не создание новой эстетики: нет пролетарской, а есть рабоче-крестьянская Россия.
Маяковский остался одинок: порвав идеологически с русским футуризмом, в виду отсутствия объективно-исторических условий ему не удаётся создать новое литературное движение или влиться в таковое.
Сделатем резюмирующие выводы:
Русский футуризм есть народническое, интеллигентски-революционное движение в условиях общественной реакции.
Он враждебен идеологически как западноевропейскому футуризму (эстетической идеологии империализма), так и русскому декадентству (идеологии промышленной буржуазии, стоящей в преддверии империализма). Но русский футуризм враждебен и грядущей пролетарской идеологии.
Аналогия русского футуризма — современное народническое и художественно крайнее искусство Германии.
Октябрьская революция заставила талантливейшего из русских футуристов отшатнуться от основного уклона этого течения, но отсутствие классово дифференцированной почвы для пролетарской культуры оставило в одиночестве.
Я не предполагал им заняться, думая, что вполне достаточно дать историческую оценку футуризма, не вдаваясь в обсуждение “текущего момента”.
Виной тому обстоятельства: переход 95% русского искусства на, так сказать, “хозяйственный расчёт” в результате НЭП.
Период национализации искусства представлял в мировой истории весьма редкий — если не единственный — случай управления вкусами, если не сказать укладывания подлинной культуры в прокрустово ложе. Прокрустово оно, разумеется, для многомиллионной, но существу антикультурной мелкой буржуазии. В настоящий момент она может купить за деньги всё, что соответствует её умишку и вкусу, воспитанному на граммофоне и скверном (русского производства!) кино. Перед нами встаёт призрак эстетического девятого термидора — об этом следует крепко задуматься всем, кому дорога революция в искусстве.
Бороться по-настоящему с этим опаснейшим явлением можно единственным способом: создавая противоположные указанным художественные ценности.
По какому же пути идти в их создании, где спасительное направление?
Рассуждаем методом исключения.
Это, конечно, не бытописание небольших комнат в домах максимум пяти этажей. Разве можно прозябать в них, когда заседает Коммунистический Интернационал в Москве, Лига Наций в Версале, когда в Бостоне продают белых рабов, а Америка готовится к новой мировой бойне?
Всякий масштаб менее европейского ныне смешон, даже унизителен. Чириков и ему подобные околели давно.
Разумеется, погибла болезненная утончённость Запада в русском преломлении — декадентство, ибо гигантская красота Европы и Америки не в изысках культуры и гуманитарных форм. Эта красота заключается в машинном быте мирового масштаба, создающем столь же мощную идеологию — идеологию здоровой высоты. Погиб и русский литературный футуризм, воспевавший коровок на травке и российских мужичков. На Восток и на травку ли смотреть, когда лозунг дня — электрофикация, а прекрасное небо и цветы социализм даст всем? А если запоздает — получит в наследство от империализма в виде невиданных рощ на крышах машинного города.
Недалеко пойдёт и эстетическая махаевщина — Пролеткульт, мешая ложкой эклектизма неслыханную бурду из Андреева и Чистева и проповедуя в искусстве то же самое, что кое-кто говорит о Ц.К. Коммунической Партии: там такой-то процент должен быть интеллигентов, а прочих вон! А Маркс, а Ленин?
Футуризма нет, а есть Маяковский, Мейерхольд, Якулов, есть другие очень талантливые люди — все те, кто идёт по путям нового искусства. Надо только избавиться от устаревших наименований. Напомним Маяковскому, что Пушкин себе литературного направления не выдумывал. Пусть этим занимаются критики, а то за последнее время поэты очень хорошо научились писать манифесты, а стихи что-то плоховаты.
Словом, новое искусство пойдёт по пути новых форм и машинного быта, исторически неизбежно ведущего к социализму.
Взоры на Европу и Америку! Их культура, их экономика создадут Осуществлённый Социализм и искусство Осуществлённого Социализма.
Но признаемся: сказанное только лозунг. А где главный враг? Где тот враг, к которому, применять миндальничанье, по выражению известного циркуляра Наркомвнудела Петровского, в момент покушения на Ленина и убийство Урицкого не только смешно, но и преступно? Этот враг — народнический литературный футуризм, который именно сейчас готов расцвести в социологической плоскости, что мы и постараемся показать.
Декадентство сейчас не страшно. Член какого-нибудь кооператива или трудовой артели «Роза» совсем ещё новичок в культуре; ему, эстетически мелкобуржуазному реакционеру, в высшей степени наплевать на орхидею, а собственная горничная (очень примитивно умеющая любить!) привлекает его несравненно больше, чем гениальная своей утончённой развращённостью куртизанка, профессионалка от любви и тела, типичная героиня декаденса; с удовольствием почитает он и, несомненно, прикажет выпустить новым изданием сочинения Арцыбашева и Криницкого (о, конечно не теревсатовского периода!)
С пролеткультовской идеологией серьёзно считаться не стоит; она может испортить вкус нескольким десяткам пролетариев, но наиболее талантливые из них скоро научатся правильно оценивать своих учителей.
Впрочем, мексиканец Дж. Лондона — если товарищи из Пролеткульта вычеркнут абсолютно из памяти Андреева и его навыки — указует путь непосредственно к новому искусству высококвалифицированной машинно-нервной цивилизации.
Но вернемся к главному врагу: возрождению в общественности народнических, славянофильских и даже националистических тенденций, неизбежно грозящих отразиться и в искусстве.
На славянофильские упражнения Стеклова в «Известиях ВЦИК», на выступления Клюева, Есенина и др. на страницах лево-эсеровской, имажинисткой печати, даже на славянофильские блудни Маяковского в «150.000.000» не следовало бы обращать особого внимания, если бы не наплыв аналогичных настроений из стран российской эмиграции.
Речь о «Смене Вех» и сопутствующих общественно-культурных явлениях.
Настроения эти сильны в двух плоскостях: с одной стороны, это несомненная идеология термидорианской мелко- и среднебуржуазной реакции, стоящей на платформе признания Советского режима, с другой — отголосок того широкого “востокофильского” движения на Западе, которое мы обрисовали выше. Указанная нами первая — русская — сущность «Смены Вех» покрыта невероятно туманной и сильно запутывающей идеологией Ключникова, сводящейся к следующим основным положениям.
1) „Русская интеллигенция и русская революция совершенно нерасторжимо, едва ли не мистически, связаны друг с другом”.168![]()
Но спрашивается, как тогда быть с большевиками?
И тут Ключников выдвигает своё самое замечательное положение, показывающее, до какой резвости могут дойти идеологические надстройки на самом что ни на есть материальном фундаменте.
2) „Совершенно несомненно, что русская интеллигенция была по преимуществу большевистской”.169![]()
Оказывается, большевиками являются и Милюков, и Керенский, и Авксентьев и... Пуришкевич!170![]()
Ибо для всех них не существует принцип безусловного демократизма, и все они готовы пустить в ход (с большей или меньшей решимостью) пулемёты там, где не действуют слова и не дают нужных результатов избирательные бюллетени!
Поистине все пути ведут в Рим! Приходится только удивляться, какие сложные философско-балетные па выкидывает интеллигент-идеалист для того, чтобы доказать непримиримость, притом беспощадную, классовых противоречий — т.е. то, что в корне опрокидывает его исходную платформу.
Но почему тогда именно большевики-коммунисты сделали революцию?
А потому, что вся интеллигенция делится на „интеллигентов, угадавших веления революции и не угадавших их”.171![]()
И „среди пёстрого состава русских интеллигентов-большевиков, революция выбрала для своих сражений и людей тех, которые ей казались наиболее подходящими”.172![]()
И посему „нужна ваша работа на пользу ей, какова бы она, Россия, ни была”,173![]()
![]()
Теперь да будет разрешено объяснить ясно и понятно, в чём дело, отбросив в сторону всякую военно-полевую маскировку.
А дело в том, что „революция может оборваться, выродиться, зазнаться. Как знать, не поставлен ли уже судьбой на очередь и не предрешён ли вопрос, нужна ли окажется интеллигенция восторжествовавшей русской революции”.175![]()
Дело также в том, что эмиграция начинает представлять собой „продающего газеты полковника, служащего в швейцарах князя и бесчисленных просто голодных, безработных”.176![]()
„Почему, в самом деле, другие могут собираться в отличных помещениях, а они (эмигрантская интеллигенция. — Я.Ш.) не могут? Почему не печатать им своих резолюций на роскошной веленевой бумаге и на трёх языках?”177![]()
И, конечно, этот полный зависти вопрос относится не только к министру Антанты, но и к Наркому СовРоссии, т.к., к глубокому сожалению, министерские должности при Южном и иных командованиях стали весьма скверно оплачиваться и отдают даже, несколько (мягко выражаясь) тем, это французы называют ridicule. И дело ещё в том, что, по мнению авторов сборника, „великий утопист и великий оппортунист”178![]()
![]()
И в то время, когда В.И. Ленин говорит нам, что скоро наступит момент ухода с пути уступок новой экономической политики, и мы сумеем перейти в новое революционное наступление, авторы сборника упорно твердят о наступлении мирного термидора,180![]()
![]()
это идеология той русской буржуазии (мелкой и средней), которая не может приспособиться к темпу финансового капитала и империалистическим порядкам Западной Европы и Америки. Эти люди пытаются — вкупе и влюбе с мелкобуржуазными группировками, оставшимися в пределах Советской России и ныне зашевелившимися — перейти в формально мирное термидорианское наступление, которое — конечно, если это потребуется — рабочий класс раздавит.
Переходим к тому, что, собственно, более всего нас сейчас интересует: к общественно-культурным славянофильским настроениям, представляющим собой как бы аромат «Смены Вех».
Приводим обширную выписку из статьи Бобрищева-Пушкина, рассуждающего именно в интересующей нас плоскости.
Несмотря на то, что Россия живёт в голоде и нищете, „русского рабочего и крестьянина ‹...› соблазнила мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорблённых всего мира. Чисто по-русски пострадать”.183![]()
Процитируем, наконец, своего рода перл идеологии „самодержавия, православия и народности”, перенесённой на почву РСФСР.
Ясно, что это значит, и чем это грозит в исследуемой нами области искусства.
Это значит, что декоративное имя, “фирма” Достоевского разрешает с презрением смотреть на Анри Барбюса, Ромэна Роллана, Б. Келлермана, Уэльса и авторов из берлинского Malik-Nalug.
Это грозит тем, что, прикрываясь всё тем же авторитетом, да взяв ещё в придачу Spengler’a, бросится (футуристическим путём очевидно, старые стихи читать никто не будет) воспевать Пугачёва, Разина, а там, пожалуй, Будённого в виде Ильи Муромца, а там и христолюбивого славянского воина генерала Слащёва-Крымского...
С этим необходимо бороться беспощадно.
Повторяем:
Взоры на пролетариат и машины Запада.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 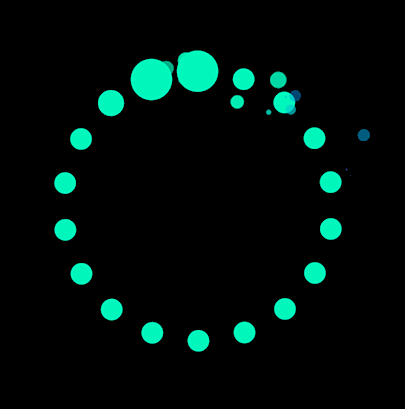 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||