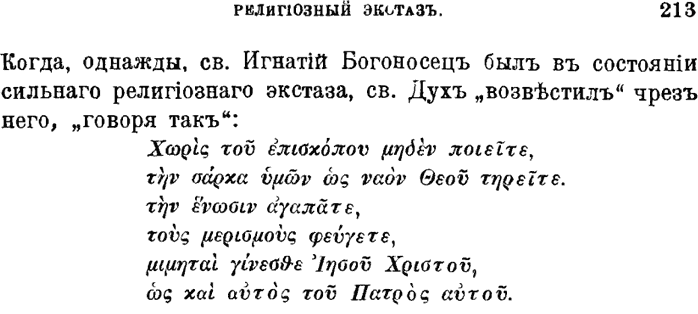Шкловский В.Б.
О поэзии и заумном языке
Замечания В. Молотилова1
Случится ли тебе в заветный чудный миг
Отрыть
2
в душе, давно безмолвной,
Ещё неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный, —
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья.
(Лермонтов)
Какие-то мысли без слов томятся в душе поэта и не могут высветлиться ни в образ, ни в понятие.
О если б без слов
Сказаться душой было можно.
(Фет)
Без слов и в то же время в звуках, — ведь поэт говорит о них. И не в звуках музыки, не в том звуке, графическим изображением которого является нота, а в звуках речи, в тех звуках, из которых складываются не мелодии, а слова, так как перед нами признание и томление словотворцев перед созданием словесного произведения.
Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален) и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), — заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: Го, оснег, Кайт и т.д.). Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия — прекрасна, но безобразно слово “Лилия”, захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию „еуы”, и первоначальная чистота восстановлена.
Стих даёт бессознательно ряды гласных и согласных, эти ряды неприкосновенны. Лучше заменять слова другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки-мыки-кика).
* 3
3
На этом заумном языке писали или хотели писать “стихотворения”. Например:
Дыр бул щыл
4 Убещур.(Кручёных)
Убещур.(Кручёных)
Или:
Это-ли? Н
ѣт-ли?
Хвои шуятъ, — шуятъАнна — Марiя, Лиза, — н
ѣт?
Это-ли? — Озеро-ли?Лулла, лолла, лалла-лу,
Лиза, лолла, лулла-ли.
Хвои шуятъ, шуятъ,ти-и-и, ти-и-у-у.
Лѣс ли, — озеро-ли?Это-ли?
Эхъ, Анна, Марiя, Лиза,Хей-тара!
Тере — дере — дере... Ху!Холе-кулэ-нэээ.
Озеро-ли? — Лѣс-ли?Тио-и
ви-и... у. (Гуро. Трое. Стр. 73)5
Эти стихи и вся теория заумного языка произвели большое впечатление, и даже были очередным литературным скандалом. Публика, которая считает себя обязанной следить за тем, чтобы искусство не потерпело какого-нибудь ущерба от руки художников, встретила эти стихи проклятиями, а критика, рассмотрев их с точки зрения науки и демократии, отвергла, скорбя о той дыре, о том Nihil, к которому пришла русская словесность. Говорили много и о шарлатанстве. Шум прошёл, лишние ушли, критики уже написали свои фельетоны, и теперь пора сделать попытку разобраться в этом явлении.
———————
Итак, несколько человек утверждают, что их эмоции могут быть лучше всего выражены особою звукоречью, часто не имеющей определённого значения и действующей вне этого значения, или помимо его, непосредственно на эмоции окружающих. Представляется вопрос: оказывается ли этот способ проявлять свои эмоции особенностью только этой кучки людей, или это — общее языковое явление, но ещё не осознанное.
Прежде всего, мы встречаем явление подбора определённых звуков в стихотворениях, написанных на “общем” языке понятий. Этим подбором поэт стремится увеличить суггестивность своих произведений, свидетельствуя тем самым, что сами звуки речи, как таковые, обладают особенной силой. Привожу мнение Вячеслава Иванова о звуковой стороне поэмы Пушкина «Цыгане».
Фонетика мелодического стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного звука
У, то глухого и задумчивого, уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и узывно-унылого; смуглая окраска этого звука или выдвигается в рифме, или усиливается оттенками окружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и вся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная уже современниками Пушкина, могущественно способствовала установлению их мнения об особенной магической напевности нового творения, изумившей даже тех, которые ещё так недавно были упоены соловьиными трелями и фонтанными лепетами и всею влажною музыкой песни о садах Бахчисарая.
**
О “мрачности” звука у и о радостности звука а писал Гринман в журнале «Голос и Речь».
Свидетельства о мрачности звука у очень определённы, в общем, почти всем наблюдателям.
Возможность такого эмоционального воздействия слова станет для нас более понятной, если мы вспомним тот факт, что одни звуки, например, гласные вызывают у нас впечатление, представление чего-то мрачного, угрюмого — таковы гласные о и, главным образом, у, при которых резонирующие полости рта усиливают низкие обертоны, — другие звуки вызывают в нас ощущение противоположного характера — более светлого, явного, открытого, таковы и и э, при которых резонирующими полостями усиливаются высокие обертоны.
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1900 г. февраль, стр. 166, 167
ст. Китермана «Эмоциональный смысл слова»
Наблюдая такие же явления во французском языке, Grammont (Le vers français 1913 г.) пришёл к заключению, что звуки вызывают каждый свои специфические эмоции, или круг определённых специфических эмоций. В книге К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (М. 1916) указано много примеров такого подбора звуков, сделанного для достижения известных эмоций. Очевидно, этими эмоциями, в высокой степени, определяется ценность данных произведений. „Художественное произведение, — пишет Гёте, — приводит нас в восторг и в восхищение именно той своей частью, которая неуловима для нашего сознательного понимания. От этого и зависит могущественное действие художественно-прекрасного, а не от частей, которые мы можем анализировать в совершенстве”.
Этим объясняется значение для поэта “ничтожных” речей.
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...
Микобер опять усладил свой слух набором слов, конечно, смешным и ненужным, однако ж не ему одному свойственным. Я в продолжении моей жизни у многих примечал эту страсть к ненужным словам. Это род общего правила во всех торжественных случаях, и на нём основывается масса содержания всех формальных и судебных бумаг и тому подобных речей. Читая или произнося их, люди как будто особенно наслаждаются, когда попадут на ряд звучных слов, выражающих одно и то же понятие, как, например, „хочу, требую и желаю” или „оставляю, завещаю и отказываю” и т.д. Мы толкуем о трудностях языка, а сами подвергаем его пыткам.
Диккенс. Давид Коперфильд. Том III
В этом отрывке нас, конечно, интересует только наблюдение, сделанное Диккенсом, а не его отношение к нему. Романист был бы, вероятно, очень удивлён, узнав, что употребление ряда звучных слов, выражающих одно и то же понятие, было родом общего правила в ораторской речи не только в Англии, но и в античной Греции и Риме (см. статью Зелинского «Художественная проза и её судьба»).
На факт вызывания эмоций звуковой и произносительной стороной слова указывает существование тех слов, которые Вундт назвал Lautbilder — звуковыми образами. Под этим именем Вундт объединяет слова, выражающие не слуховое, а зрительное или иное какое представление, но так, что между этим представлением и подбором звуков звукообразного слова чувствуется какое-то соответствие; — примерами на немецком языке могут, служить: tummeln torkeln; на русском — хотя бы слово ‘каракули’.
Прежде объясняли такие слова тем, что, после исчезновения образного элемента в слове, значение слова примыкает непосредственно к звукам слов и сообщает, наконец, им свой чувственный тон.*** Вундт же объясняет это явление, главным образом тем, что, при произнесении этих слов, органы речи делают уподобительные жесты. Эта точка зрения очень хорошо вяжется с общим воззрением Вундта на язык; очевидно, он здесь пытается сблизить это явление с языком жестов, анализу которого он посвятил главу в своей «Völkerspsychologie», но вряд ли это толкование объясняет всё явление. Быть может, ниже приведённые отрывки могут несколько иначе осветить и этот вопрос. У нас есть литературные свидетельства, которые дают не только примеры звуковых образов, но и позволяют как бы присутствовать при их возникновении. Нам кажется, что звукообразные слова имеют своими ближайшими соседями “слова” без образа и содержания, служащие для выражения чистых эмоций, т.е. такие слова, где ни о каких подражательных артикуляциях говорить не приходится, так как подражать нечему, а можно только говорить о связи звука — движения, сочувственно воспроизводимого в виде каких-то немых спазм органов речи слушателями, с эмоциями. Привожу примеры: „я стою и смотрю ей прямо в глаза, и в мозге моём вдруг проносится имя, которое я никогда раньше не слыхал, имя, звучащее каким-то скользящим звуком: ‘Илаяли’” («Голод» Кнута Гамсуна, 21 стр., изд. «Шиповник»). Интересное соответствие этому слову есть в русской поэзии.
Вундт же объясняет это явление, главным образом тем, что, при произнесении этих слов, органы речи делают уподобительные жесты. Эта точка зрения очень хорошо вяжется с общим воззрением Вундта на язык; очевидно, он здесь пытается сблизить это явление с языком жестов, анализу которого он посвятил главу в своей «Völkerspsychologie», но вряд ли это толкование объясняет всё явление. Быть может, ниже приведённые отрывки могут несколько иначе осветить и этот вопрос. У нас есть литературные свидетельства, которые дают не только примеры звуковых образов, но и позволяют как бы присутствовать при их возникновении. Нам кажется, что звукообразные слова имеют своими ближайшими соседями “слова” без образа и содержания, служащие для выражения чистых эмоций, т.е. такие слова, где ни о каких подражательных артикуляциях говорить не приходится, так как подражать нечему, а можно только говорить о связи звука — движения, сочувственно воспроизводимого в виде каких-то немых спазм органов речи слушателями, с эмоциями. Привожу примеры: „я стою и смотрю ей прямо в глаза, и в мозге моём вдруг проносится имя, которое я никогда раньше не слыхал, имя, звучащее каким-то скользящим звуком: ‘Илаяли’” («Голод» Кнута Гамсуна, 21 стр., изд. «Шиповник»). Интересное соответствие этому слову есть в русской поэзии.
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей:
Чуждо явного значенья
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашёл.
(Баратынский)
Весьма характерное место есть и у В. Розанова («Уединенное», стр. 81):
‘Бранделясы’ (на процессе Бутурлина) — это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне всё более и более кажется, что все литераторы суть ‘Бранделясы’. В слове этом то хорошо, что оно ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот, по этому качеству оно особенно и приложимо к литературе.
„После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов”, — скажет будущий Иловайский; я думаю, это будет хорошо.
Но слова нужны людям не только для того, чтобы ими выразить мысль и не только даже для того, чтобы словом заменить слово или сделать его именем, приурочив его к какому бы то ни было предмету: людям нужны слова и вне смысла. Так, Сатин («На дне» Макс. Горького, действие первое), которому надоели все человеческие слова, говорит: „Сикамбр” и вспоминает, что, когда он был машинистом, он любил разные слова. В последнем своём произведении М. Горький («В людях». Летопись 1916 года, март, ст. 11) снова возвращается к этому явлению.
— Сочиняют, ракалии... как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гаврасий! А на чорт он мне сдался Гаврасий этот? Умбракул.
Странные слова, незнакомые имена назойливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их — может быть, в звуках откроется смысл.
Валентин в очерках Гончарова «Слуги старого времени» (том 12, изд. Маркса, стр. 170–177) наслаждается чтением непонятных для него стихов и любовно выписывает в тетрадь непонятные звучные слова, подбирая созвучные: „конституция и проституция”, „тлетворный и нерукотворный”, „нумизмат и кастрат”, не желая даже узнать их значения, но подбирая их по созвучности, — так, как подбирают по цвету драгоценные камни или материи.
Гончаров сумел даже обобщить наблюдаемое им явление. „Я видел, — говорит он, — как простые люди зачитываются до слёз священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только “иные слова”, как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь, по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством”. (Гончаров, том 12, изд. Маркса, стр. 169–177).
Ещё показательнее — прямо патологический успех сочетаний слов, вырванных из забытого контекста, лишившихся первоначального, да и вообще какого-либо, значения, вроде пресловутого вопроса: Et ta soeur? Подобные эпидемические словесные навыки, созданные притягательными чарами совершенной бессмыслицы, носят название “des seies”.
Приведённый отрывок взят мной из газеты «Современное Слово» (27 августа 1918 г., корреспонденция из Парижа о жанровом театре) и говорит о повальном увлечении бессмысленными песенками, пережитом Парижем в то лето. Преемником ему явилось увлечение “негритянскими” песенками, почти совершенно бессмысленными. В «Голоде» Кнута Гамсуна автор в состоянии бреда изобретает слово ‘кубоа’ и любуется тем, что оно текучее, не имеющее определенного значения. „Я сам изобрёл, — говорит он, — это слово; я имею полное право придавать ему то значение, которое мне заблагорассудится; я ещё сам не знаю, что оно значит” («Голод», стр. 77–78).
Князь Вяземский пишет, что в детстве он любил читать каталоги винных погребов, любуясь звучными названиями. Особенно нравилось ему название одного сорта вина Lacryma Christi; эти звуки ласкали его поэтическую душу. И, вообще, от многих прежних поэтов узнаём об их отзывчивости на звуковой состав слов, вызывающий в них известное настроение и даже известное понимание этих слов независимо от их объективного значения
И. Бодуэн де Куртенэ. «Отклики», приложение к газ. «День», № 7, 20 февраля 1914
Но эта особенность не является привилегией одних поэтов. Упиваться звуками вне смысла и даже пьянеть от них может и не поэт. Вот, например, как описывал В. Короленко один из уроков немецкого языка в ровенской гимназии:
— Der gelb-rothe Papagaj, — сказал Лотоцкий врастяжку. — Итак! именительный! Der gelb-rothe Pa-pa-gaj… Родительный… Des gelb-rothen Pá-pa-gá-a-aj-én.
В голосе Потоцкого появились какие-то особенные прыгающие нотки. Он начинал скандовать, видимо наслаждаясь певучестью ритма. При дательном падеже к голосу учителя тихо, вкрадчиво, одобрительно присоединилось певучее рокотание всего класса:
— Dem… gelb… ro… then… Pá-pa-gá-a-aj-én.…
В лице Потоцкого появилось выражение, напоминающее кота, когда у него щекочут за ухом. Голова его закидывалась назад, большой нос нацелился в потолок, а тонкий широкий рот раскрывался, как у сладостно-квакающей лягушки.
Множественное число проходило уже среди скандующего грома. Это была настоящая оргия скандовки. Несколько десятков голосов разрубали жёлто-красного попугая на части, кидали его в воздух, растягивали, качали, подымали на самые высокие ноты и опускали на самые низкие… Голоса Лотоцкого давно уже не было слышно, голова его запрокинулась на спинку учительского кресла, и только белая рука с ослепительной манжеткой отбивала в воздухе такт карандашом, который он держал в двух пальцах… Класс бесновался, ученики передразнивали учителя, как и он, запрокидывали головы, кривляясь, раскачиваясь, гримасничая. ‹...›
И вдруг…
Едва, как отрезанный, затих последний слог последнего падежа, — в классе, точно по волшебству, новая перемена. На кафедре опять сидит учитель, вытянутый, строгий, чуткий, и его блестящие глаза, как молнии, пробегают вдоль скамей. Ученики окаменели. ‹...›
И опять несколько уроков проходило среди остолбенелого “порядка”, пока Лотоцкий не натыкался на жёлто-красного попугая или иное гипнотизирующее слово. Ученики по какому-то инстинкту выработали целую систему, незаметно загонявшую учителя к таким словам.
Короленко. «История моего современника». — Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. VII, с. 155
Я не считаю приведённый пример чем-то исключительным. Предлагаю сопоставить его со знаменитыми стихами из латинских исключений, которые составляют уже много столетий достопримечательность классической школы. Вот что пишет о них Ф.Ф. Зелинский. Само собой, я не думаю провести здесь параллель между многоуважаемым профессором и учителем Лотоцким. Ф.Ф. Зелинский пишет:
Я сам ими пользовался, когда был преподавателем в первом классе: помню, как вычурные сочетания мудрёных слов и потешные рифмы вызывали здоровый детский смех моих учеников, особенно когда я заставлял их, к концу урока, хором повторять рифмованные правила; а так как я признавал здоровый юмор очень полезным “вегикулом” (как говорят врачи) при преподавании в младших классах, то эти финалы уроков обращались в своего рода веселую игру ‹...›
Ф.Ф. Зелинский. «Из жизни идей». С. 31
К сожалению, Ф.Ф. Зелинский ничего не говорит нам о своих переживаниях при произнесении этих „вычурных сочетаний слов”.
Слова ‘металл’ и ‘жупел’ помимо своего значения, по самому звуку казались страшными купчихе в комедии Островского. Бабы в рассказе Чехова «Мужики» плакали в церкви при произнесении священником слов ‘аще’ и ‘дондеже’; в выборе именно этих слов как сигнала для начала плача могла сказаться только их звуковая сторона. Джемс Сёлли («Очерки по психологии детства», М., 1901) приводит много интересных примеров “заумных речей у детей”. Из экономии места не привожу их, считая более интересными для русского читателя стихотворные — игровые присказки наших детей, — факт интересный по своему массовому характеру, а также потому, что присказки эти сохраняются в устной передаче, переходят из местности в местность и вообще представляют собою полную аналогию с литературными произведениями. Привожу примеры:
Перо (название игры Вятской губернии. —
В.Ш.)
Перо
Уго
Теро
Пято
Сото
Иво
Сиво
Дуб
Крест
Бубикони (Владимирской губернии)
Бубикони
Не чем гони
Златом метом
Под полетом
Чёрный палец
Выйди за печь
Рус-квас
Шишел, вышел
Вон пошёл.
Первинчики (Вятской губернии)
Первинчики
Другинчики
На Божьей Руси
На поповой полосе
Прело
Грело
Осиново
Полено
Чивиль доска
Дара-шепёшка
Тонча-понча
Пиневича
Рус-кнес
Вылез.
Пера, ера (Тульской губернии)
Пера, ера
Чуха, луха,
Пяти, соти,
Сиви, или,
Пень.
Цит. по: Е.А. Покровский. «Детские игры, преимущественно русские».
Москва, 1887, с. 55–576
Обращаю внимание на отрывок из «Детства» М. Горького (длинный и поэтому неудобный для непосредственной цитировки), где показано, как в памяти мальчика стихотворение существовало одновременно в двух видах: в виде слов и в виде того, что я бы назвал звуковыми пятнами. Стихи говорили:
Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берёшь ты у Бога…
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.
Привожу его воспроизведение:
Дорога, двурога, творог, недотрога,
Копыта, попы-то, корыто…
При этом мальчику очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Бессознательно для себя он одновременно помнил и подлинные стихи («Детство», стр. 223–224).
Ср. статью Ф. Батюшкова «В борьбе со словом» («Журнал Министерства народного просвещения». 1900 г., февраль):
Заклинания всего мира часто пишутся на таких языках; так, например, известные у древних греков, в качестве могущественных филактериев, τα ’Έφεθια γραμματα (магические письмена на короне, поясе и пьедестале Дианы Эфесской) состояли из загадочных (αίνιγματ-ώδης) слов: άσκιον, κατάσκιον, λιξ, τετράξ, δαμναμενεύς, αϊσιον.
Цит. по: Д. Коновалов. «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве».
Сергиев Посад, 1908. С. 1917
Приведённые факты заставляют думать, что “заумный язык” существует; и существует, конечно, не только в чистом своем виде, то есть как какие-то бессмысленные речения, но, главным образом, в скрытом состоянии, так, как существовала рифма в античном стихе, — живой, но не осознанной.
Многое мешает заумному языку появиться явно: ‘кубоа’ родится редко. Но мне кажется, что часто и стихи являются в душе поэта в виде звуковых пятен, не вылившихся в слово. Пятно то приближается, то удаляется и, наконец, высветляется, совпадая с созвучным словом. Поэт не решается сказать “заумное слово”, обыкновенно заумность прячется под личиной какого-то содержания, часто обманчивого, мнимого, заставляющего самих поэтов признаться, что они сами не понимают содержания своих стихов. Мы имеем такие признания от Кальдерона, Байрона, Блока. Мы должны верить Сюлли-Прюдому, что настоящих его стихов никто не читал. Жалобы поэтов на муки слова часто нужно понимать как показатель борьбы со словом: поэты жалуются не на невозможность передать словами понятия или образы, а на непередаваемость словами чувствований и душевных переживаний. И недаром поэты жалуются, что они не могут передать словами звуки: „словом ледяным” — „родник, простых и сладких звуков полный”. По всей вероятности, дело происходит так же, как при подбирании рифм. У Салтыкова-Щедрина, человека в поэзии малокомпетентного, но вообще несомненно наблюдательного, молодой поэт, подбирая рифму к слову ‘образ’, нашел только одно слово ‘нобраз’.
‘Нобраз’ не подошёл и стал навязчивой идеей поэта, но при малейшей же возможности дать ему какую-нибудь значимость он, несомненно, попал бы в стихи и выглядел бы не хуже многих других слов. Некоторое указание на то, что слова подбираются в стихотворении не по смыслу и не по ритму, а по звуку, могут дать японские танки. Там в стихотворение, обыкновенно в начало его, вставляется слово, отношения к содержанию не имеющее, но созвучное с “главным” словом стихотворения. Например, в начале русского стихотворения о луне можно было бы вставить по этому принципу слово ‘лоно’. Это указывает на то, что в стихах слова подбираются так: омоним заменяется омонимом для выражения внутренней, до этого данной, звукоречи, а не синоним синонимом для выражения оттенков понятия. Так, может быть, можно понять и те признания поэтов, в которых они говорят о том, что стихи появляются (Шиллер) или зреют у них в душе в виде музыки. Я думаю, что поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Слóва, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвёртывается слово ‘музыка’ как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае ещё не слова, так как они, в конце концов, выливаются словообразно. Из современных поэтов об этом писал О. Мандельштам:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись ‹...›
Восприятия стихотворения обыкновенно тоже сводятся к восприятию его звукового пра-образа. Всем известно, как глухо мы воспринимаем содержание самых, казалось бы, понятных стихов; на этой почве иногда происходят очень показательные случаи. Например, в одном из изданий Пушкина было напечатано вместо „Завещан был тенистый вход” — “Завещан брег тенистых вод” (причиной была неразборчивость рукописи), получилась полная бессмыслица, но она спокойно, неузнанная и непризнанная, переходила из издания в издание и была найдена только исследователем рукописей. Причина та, что в этом отрывке при искажении смысла не был искажён звук.
Как мы уже заметили, заумный язык редко является в своем чистом виде. Но есть и исключения. Таким исключением является заумный язык у мистических сектантов. Здесь делу способствовало то, что сектанты отождествили заумный язык с глоссолалией — с тем даром говорить на иностранных языках, который, по словам «Деяний св. апостолов», получили они в день Пятидесятницы.**** Благодаря этому заумного языка не стыдились, им гордились и даже записывали его образцы. Таких образцов приведено очень много в прекрасной книге Д. Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (Сергиев Посад, 1908, стр. 159–193), где вопрос о “глоссах” разработан в смысле сопоставления образцов таких проявлений религиозного экстаза исчерпывающим образом. Явление языкоговорения чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для мистических сект оно всемирно. Привожу примеры (из книги Д. Г. Коновалова). Сергей Осипов, хлыст XVIII столетия, говорил:
Благодаря этому заумного языка не стыдились, им гордились и даже записывали его образцы. Таких образцов приведено очень много в прекрасной книге Д. Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (Сергиев Посад, 1908, стр. 159–193), где вопрос о “глоссах” разработан в смысле сопоставления образцов таких проявлений религиозного экстаза исчерпывающим образом. Явление языкоговорения чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для мистических сект оно всемирно. Привожу примеры (из книги Д. Г. Коновалова). Сергей Осипов, хлыст XVIII столетия, говорил:
Рентре фенте ренте финтри фунт
Нодар мисеитрант похонтрофин.
8
Привожу первую строку записи языкоговорения его современника Варлаама Шишкова:
Насонтос ресонтрс фурр лис
Натруфутру натри сифун
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интересно сопоставить эти звуки с записями языкоговорения секты ирвингиан, возникшей в Шотландии около 1830 года:
Hippa gerosto hippo boorus senote
Foòrime corin haoro tauto noostin
Noorastin niparos hipanus bantos bourin
О Piritus eleiastimo halimungitus dan tila
Nampoutne farime oristus en ramnos
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сектантка, произносившая эти слова, была убеждена в том, что это язык жителей одного острова на юге Тихого океана.
Такие же явления наблюдались в последнее время в Христиании.
Вот пример глоссолалии немца пастора Paul; y него дар языков явился как исполнение его горячего желания (он видел случаи говорения на языке и почувствовал непреодолимое желание овладеть этим даром).
В ночь с 15 на 16 сентября 1907 г. в его голосовом и речевом аппарате появились непроизвольные движения, за которыми последовали звуки. Paul записал их; привожу одну из строчек:
Schua ea, shua ea
О tshi biro ti rа dea
akki lungo tori fungo
u li baru ti u iungo
lauslu bungo tu tu
11
В наслаждении ничего не значащим “заумным словом” несомненно важна произносительная сторона речи. Может быть, что даже вообще в произносительной стороне, в своеобразном танце органов речи и заключается бóльшая часть наслаждения, приносимого поэзией (См. статью Б. Китермана, — «Жур. Мин. нар. просв.», 1909, январь). Юрий Озаровский в своей книге «Музыка живого слова» (СПб., 1914) отметил, что тембр речи зависит от мимики; и, идя несколько дальше его и применяя к его замечанию положение Джемса, что каждая эмоция является как результат какого-нибудь телесного состояния (замирание сердца — причина страха, а слёзы — причина эмоции печали), можно было бы сказать, что впечатление, которое производит на нас тембр речи, объясняется тем, что, слыша его, мы воспроизводим мимику говорящего и поэтому переживаем его эмоции. Ф. Зелинский в уже цитированном нами отрывке отметил значение воспроизведения мимики говорящего при восприятии Lautbilder (‘тилиснуть’).
Известны факты, свидетельствующие о том, что при восприятии чужой речи или даже вообще при каких бы то ни было речевых представлениях мы беззвучно воспроизводим своими органами речи движения, необходимые для произнесения данного звука. Возможно, что эти движения и находятся в какой-то ещё не исследованной, но тесной связи с эмоциями, вызываемыми звуками речи, в частности, “заумным языком”. Интересно отметить, что у сектантов явление языкоговорения начинается с беззвучных непроизвольных движений речевого аппарата.
Я думаю, что можно удовольствоваться приведёнными примерами. Но привожу ещё один (отысканный мною в книге Мельникова-Печерского «На горах», ч. 3); этот пример глоссолалии интересен тем, что он доказывает близкое родство детских песенок с образцами языкоговорения сектантов. Начинается он детской песней и кончается “заумным распевцем”:
Тень, тень, потетень
Выше города плетень
Садись, галка, на плетень.
Галки хохлушки
Спасенные души
Воробьи пророки
Шли по дороге
Нашли они книгу
Что в той книге.
| Текст сектантов: | Текст продолжения песни у детей: |
| | |
| А писано тамо | Зюзюка, зюзюка |
| „Савитрай само | Куда нам катиться |
| Капиласта гандря | Вдоль по дорожке. |
| Сункадра нуруша | и пр.12 |
| Маи я дива луча”. | |
Во всех этих образцах общее одно: эти звуки хотят быть речью. Авторы так и считают их каким-то чужим языком: полинезийским, индейским, латинским, французским и чаще всего — иерусалимским. Интересно, что и футуристы — авторы заумных стихотворений — уверяли, что они постигли все языки в одну минуту и даже пытались писать по-еврейски. Мне кажется, что в этом была доля искренности и что они секундами сами верили, что из-под их пера выльются чудесно-познанные слова чужого языка.
Так или не так, но одно несомненно: заумная звукоречь хочет быть языком.
Но в какой степени этому явлению можно присвоить название языка? Это, конечно, зависит от определения, которое мы дадим понятию слова. Если мы впишем как требование для слова как такового то, что оно должно служить для обозначения понятия, вообще, быть значимым, то, конечно, “заумный язык” отпадает как что-то внешнее относительно языка. Но отпадает не он один; приведённые факты заставляют подумать, имеют ли не в явно заумной, а просто в поэтической речи слова всегда значение или это только мнение — фикция и результат нашей невнимательности. Во всяком случае, даже изгнав заумный язык из речи, мы не изгоняем ещё его, тем самым, из поэзии. И сейчас поэзия создается и, главное, воспринимается не только в слове-понятии. Привожу любопытный отрывок из статьи К. Чуковского о русских футуристах, речь идёт о стихотворении В. Хлебникова:
Бобэоби пелись губы,Вэоеми
13 пелись взоры
пелись взоры и т.д.
Ведь оно написано размером «Гайаваты», «Калевалы». Если нам так сладко читать у Лонгфелло:
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мендэны,
Делавэры и Мочоки14 (перев. Ив. Бунина)
(перев. Ив. Бунина)то почему мы смеемся над Бобэобами и Вэоемами?
15
Чем Чоктосы лучше
Бобэоби. Ведь и там, и здесь гурманское смакование экзотических, чуждо звучащих слов. Для русского уха
бобэоби так же “заумны” как и чоктосы-шошоны, как и „гзи-гзи-гзеи”. И когда Пушкин писал:
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,разве он не услаждается той же чарующей инструментовкой заумно-звучащих слов?
«Шиповник», кн. 22. Опыт хрестоматии образцов фут. поэзии. К. Чуковский.16
Возможно даже, что слово является приёмышем поэзии. — Таково, например, мнение А.Н. Веселовского. И кажется уже ясным, что нельзя назвать ни поэзию явлением языка, ни язык — явлением поэзии.
Другой вопрос: будут ли когда-нибудь писаться на заумном языке истинно художественные произведения, будет ли это когда-нибудь особым, признанным всеми видом литературы? Кто знает. Тогда это будет продолжением дифференциации форм искусства. Можно сказать одно: многие явления литературы имели такую судьбу, многие из них появлялись впервые в творениях экстатиков; так, например, явно проявилась рифма в возвещениях Игнатия Богоносца:
Χωρις του̃ έπισκόπου μηδέν ποει̃τε,
τήν σάρκα ύμω̃ν ώς ναόν θεου̃ τηρει̃τε,
τήν ένωσιν άγαπα̃τε,
τούς μερισμούς φεύγετε,
μιμηταί γίνεσθε Ίησου̃ Χριστου̃,
ώς καί αύτός του̃ πατρός αύτόυ̃.
17
Религиозный экстаз уже предвещал о появлении новых форм. История литературы состоит в том, что поэты канонизируют и вводят в неё те новые формы, которые уже давно были достоянием общего поэтического языкового мышления.
Д.Г. Коновалов указывает на всё возрастающее в последние годы количество проявлений глоссолалии (с. 187). В это же время заумные песни владели Парижем. Но всего показательнее увлечение символистов звуковой стороной слова (работы Андрея Белого, Вячеслава Иванова, статьи Бальмонта), которое почти совпало по времени с выступлениями футуристов, ещё более остро поставивших вопрос. И, может быть, когда-нибудь исполнится пророчество Ю. Словацкого, сказавшего:
Настанет время, когда поэтов в стихах будут интересовать только звуки.
————————
Примечания автора
 * А. Крученых
* А. Крученых. Декларация слова как такового. 1913 г.
 ** Вячеслав Иванов.
** Вячеслав Иванов. По звездам. Стр. 148.
 ***
*** Любопытна попытка Ф.Ф. Зелинского дать другое объяснение происхождению звуковых образов. „Как тилисну ‹её› по горлу ножом”, — говорит у Достоевского каторжник (Записки из Мёрт. дома, 11 глав. 4). Есть ли сходство между артикуляционным движением слова ‘тилиснуть’ и движением скользящего по человеческому телу и врезывающегося в него ножа. Нет, но зато это артикуляционное движение как нельзя лучше соответствует тому положению лицевых мускулов, которое инстинктивно вызывается особым чувством нервной боли, испытываемой нами при представлении о скользящем по коже (а не вонзаемом в тело) ноже: губы судорожно вытягиваются, горло щемит, зубы стиснуты — только и есть возможность произнести гласный
и и языковые согласные
т, л, с, причём в выборе именно их, а не громких
д, р, з сказался и некоторый звукоподражательный элемент. Сообразно с этим, Зелинский определяет звуковые образы как слова, артикуляция которых соответствует общей мимике лица, выражающей вызываемое ими чувство. См.
Ф. Зелинский. Вильгельм Вундт и психология языка: жесты и звуки. Из жизни идей; том II, изд. 3-е (С.П.Б. 1911 г. стр. 185–186). Любопытно сравнить также Lautbilder Вундта с тем, что Жуковский, разбирая басни Крылова, называл живописью в самых звуках, см.
В.А. Жуковский. Собр. соч., том V, стр. 341: издание Глазунова.
 ****
**** “Глоссы”-языки звучали на церковных собраниях апостольских времён. Апостол Павел (I послание к Кор, гл. 14) говорит о проповедниках „на языках”, что никто не понимает их, что их речь является невразумительной (об этом же писал Ириней Лионский, см.
Д.А. Коновалов. Религиозный экстаз в русском мистическои сектанстве, стр. 175).
* * *
Пионерский горн и хрестоматийный глянец
 1
1 Статья В.Б. Шкловского (1893–1984) «О поэзии и заумном языке» по праву считается основополагающей. Пионерский горн — раз, хрестоматийный глянец — два. Знатоки авангарда советуют новичкам приступать к зауми, начав именно с неё. Заумичок вбивает в строку поиска заглавие статьи Шкловского — и без промедленья, в сей же час чудовищно дружелюбные джинны отверзают перед ним пещеру имени графа Монте-Кристо. Или перед ней. Поехали привередничать. Здесь купи, там подпишись. Я вам не Ротшильд. А вот и халява. Готово, читаем хрестоматийную пионерию.
Да уж, заумичок — парень тёртый. То же самое заумичиха: вылитая княгиня Екатерина Романовна Дашкова времён свержения Петра III. А сильный пол представлен Ломоносовым до женитьбы на немке. Миша и Катя. Дорого дал бы я за то, чтобы не знать про глину и ребро. Но ведь знаю. Предстоит преодолеть осведомлённость. Готово: Михайла. Вот как зовут пристального читателя статьи В.Б. Шкловского: Михайла. Ломоносов пополам с княгиней Дашковой. Других личных имён мужского рода с женским окончанием у меня для вас нет. Итак, Михайла засучил рукава вприсядку близ.
Начав от печки: выходные данные. Извольте сообщить извод. Малый ребёнок знает: Шкловский сел кучковать мысли в 1913 г., расставил все точки над
i в 1916 г. Расставив, отдал в печать: извод №1. Переиздал уже без точек, ятей и т.п. отрыжки Поприщина в 1919 г.: извод №2.
— Умничка, — одобряют Михайлу ангелы-хранители русской зауми, — главное подметил: оба раза война. Зоркие наборщики на передовой, в тылу подслеповатые. Оба раза!
— А ведь они правы, черти полосатые, — вздыхает Михайла и соглашается на сборник
Гамбургский счёт: Статьи — Воспоминания — Эссе (1914–1933). Составление А.Ю. Галушкина и А.П. Чудакова. Предисловие А.П. Чудакова. Комментарии и подготовка текста А.Ю. Галушкина. Советский писатель.
М., 1990.
— Москва — третий Рим,
Гамбургский счёт (далее
ГС) — третий извод. Четвёртому не бывать! — восклицают ангелы и удаляются в сказку А.С. Пушкина о попе и его работнике Балде.
Запомнив про третий Рим и А.Ю. Галушкина, Михайла приступает к чтению. Какая прелесть этот Шкловский. Велимир Хлебников, раскладывая умы по полочкам, наверняка предусмотрел такой вот:
не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. Не мне учить вас: да, это
Раум. Речи его — раречи. И вот Михайла упивается
раумом Шкловского.
Бывает,
раречи текут молоком и мёдом. Почему. Потому что без мёда молоко сквасится и откажется течь. Яркий пример — Василий Васильевич Розанов. Но никак не Виктор Борисович Шкловский: коровой даже не пахнет. Ни коровой, ни кобылой, ни овцой, ни верблюдицей. Пчелиным ядом, кстати, тоже не пахнет. И липой. Собрание сочинений Шкловского — здоровенная бадья кукурузного мёда. Соответственно, статья «О поэзии и заумном языке» — бадейка. Приналёг наш Михайла на содержимое, уже донце видать. И вдруг затошнило.
——————
 2
2 У Шкловского ‘открыть’. Благодарим проф. Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb) за указание на ошибку.
 3
3 Вот текст по рукописному оригиналу из письма М.В. Матюшину 1917 г. (нумерация высказываний нарочно перепутана):
Декларация слова, как такового
4) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения, (не застывшим),
заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее.
(Пример: го оснег кайд...)
5) Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, даёт всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена.
2) Согласные дают быт, национальность, тяжесть, гласные — обратное — вселенский язык. Стихотворение из одних гласных:
3) Стих даёт (бессознательно) ряды гласных и согласных.
Эти ряды неприкосновенны. Лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки — мыки — кыка). Одинаковые гласные и согласные, будучи заменены чертами, образуют рисунки, которые неприкосновенны (напр. | – ||| – | – | – |||). Поэтому переводить с одного языка на другой нельзя, можно лишь написать стихотворение латинскими буквами и дать подстрочник. Бывшие д‹о› с‹их› п‹ор› переводы лишь подстрочники; как художественные произведения — они грубейший вандализм.
1) Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот.
6) Давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить.
7) В искусстве могут быть неразрешенные диссонансы — “неприятное для слуха” — ибо в нашей душе есть диссонанс (злоглас), которым и разрешается первый. Пример дыр бул щыл и т.д.
В музыке — звук, в живописи — краска, в поэьии — буква (мысль = прозрение + звук + начертание + краска).
9) В заумной поэзии достигается высшая и окончательная всемирность и экономия — (эко-худ). Пример: хо-бо-ро...
10) Всем этим искусство не суживается, а приобретает новые поля, не умервщляется, а воскрешается.
баяч-будетлянин-поэт-кубофутурист
Алексей (Александр) Кручёных
1913–17
апрель–май.
Воспроизведено по:
Алексей Кручёных. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы.
М., Гилея. 2006. С. 287–288
В «Декларации заумного языка» (Баку, 1921 г., листовка), нумерация и даже табуляция строго выдержаны:
1) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее (пример: го оснег кайд и т.д.).
2) Заумь — первоначальная (исторически и индивидуально) форма поэзии. Сперва — ритмически-музыкальное волнение, пра-звук (поэту надо бы записывать его, потому что при дальнейшей работе может позабыться).
3) Заумная речь рождает заумный пра-образ (и обратно) — не определимый точно, например: бесформенные бука, Горго, Мормо; Туманная красавица Илайяли; Авоська да Небоська и т.д.
4) К заумному языку прибегают:
a) когда художник даёт образы, ещё не вполне определившиеся (в нём или вовне),
b) когда не хотят назвать предмет, а только намекнуть — заумная характеристика: он какой-то эдакий, у него четырехугольная душа — здесь обычное слово в заумном значении. Сюда же относятся выдуманные имена и фамилии героев, названия народов, местностей, городов и проч., напр.: Ойле, Блеяна, Вудрас и Барыба, Свидригайлов, Карамазов, Чичиков и др. (но не аллегорические, как то: Правдин, Глупышкин — здесь ясна и определена их значимость),
c) когда теряют рассудок (ненависть, ревность, буйство…),
d) когда не нуждаются в нём — религиозный экстаз, любовь. (Глосса, восклицания, междометия, мурлыканья, припевы, детский лепет, ласкательные имена, прозвища — подобная заумь имеется в изобилии у писателей всех направлений).
5) Заумь пробуждает и даёт свободу творческой фантазии, не оскорбляя её ничем конкретным. От смысла слово сокращается, корчится, каменеет, заумь же — дикая, пламенная, взрывная (дикий рай, огненные языки, пылающий уголь).
6) Таким образом, надо различать три основные формы словотворчества:
I. Заумное —
a) песенная, заговорная и наговорная магия.
b) “обличение” (название и изображение) вещей невидимых — мистика.
c) музыкально-фонетическое словотворчество — инструментовка, фактура.
II. Разумное (противоположность его — безумное, клиническое, имеющее свои законы, определяемые наукой, а что сверх научного познания — входит в область эстетики наобумного).
III. Наобумное (алогичное, случайное, творческий прорыв, механическое соединение слов: оговорки, опечатки, ляпсусы; сюда же отчасти относятся звуковые и смысловые сдвиги, национальный акцент, заикание, сюсюканье и пр.).
7) Заумь — самое краткое искусство, как по длительности пути от восприятия к воспроизведению, так и по своей форме, например: Кубоа (Гамсун), Хо-бо-ро и др.
8) Заумь — самое всеобщее искусство, хотя происхождение и первоначальный характер его могут быть национальными, например: Ура, Эван-эвое! и др.
Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, рождённый органически, а не искусственно, как эсперанто.
А. Кручёных
Баку — 1921 г.
Воспроизведено по:
Алексей Кручёных. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы.
М., Гилея. 2006. С. 296–297
Налицо взаимообогащение: в 1913–1919 гг. Шкловский цитирует Кручёных, в 1921 г. — Кручёных заимствует у Шкловского (выделено цветом). Двумя годами позже значение статьи Шкловского признаётся открыто (выделено цветом):
Откуда и как пошли заумники?
Временем возникновения ЗАУМНОГО ЯЗЫКА как явления (т.е. языка, имеющего не подсобное значение), на котором пишутся целые самостоятельные произведения, а не только отдельные части таковых (в виде припева, звукового украшения и пр.) следует считать декабрь 1912 г., когда был написан мой, ныне общеизвестный, —
Дыр–бул–щыл
Убещур
Скум
Вы–со–бу
Р–л–эз.
Это стихотворение увидело свет в январе 1913 г. в моей книге «ПОМАДА». В том же году были напечатаны мои заумные стихи в сборниках «Садок судей II» и «Союз молодёжи III».
В апреле 1913 года мною была опубликована «Декларация слова, как такового», где впервые дано определение заумного языка и введен этот термин, отныне ставший общепризнанным (перепечатана в моей книге «Апокалипсис в русской литературе».
Привожу центральную часть декларации:
„Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный помогает выразиться полнее (например: го оснег кайд и т.д.)”.
Ни у кого из русских писателей до меня не было стихов или других произведений, целиком написанных на заумном языке, а встречались только отдельные строчки и слова, и больше всего у В. Хлебникова, Е. Гуро и В. Каменского.
Но, как химический элемент, пока он не получен в чистом виде, не имеет самостоятельного существования и не может служить объектом всестороннего исследования и определения, так и заумный язык, лишь данный мною в чистом виде, породил целую заумную поэтическую школу (единственно <не> заимствованную с Запада) и положил начало ряду проблем и исследований о нём.
Заумная школа объединяет следующих поэтов:
А. Кручёных — (около 100 заумных стихов и несколько пьес).
В. Хлебников — («Зангези» и др. стихи).
Е. Гуро.
В. Каменский.
С. Третьяков.
О. Розанова.
И. Зданевич — (5 заумных драм).
И. Терентьев
и др.
Из исследований о заумном языке можно указать статью Виктора Шкловского «Заумный язык в поэзии» (сборник «Поэтика» 1919 г.), книгу Корнея Чуковского «Футуристы», глава «Заумный язык», отчасти в книге Р. Якобсона «Новейшая русская поэзия» (набросок первый); сборник «Заумники» А. Кручёных, Г. Петников и В. Хлебников. Москва 1922 г., «Сдвигология» Кручёных 1923 г. и др.
Проблемы, возникшие с появлением заумного языка, следующие:
1) Образная и фонетическая сторона заумного языка.
До сих пор всеми исследователями обращалось, главным образом, внимание на звуковую, фонетическую сторону зауми, нас обвиняли даже в желании перевести поэзию на положение музыки, т.е. лишить её одной из важных частей — словообразности, совершенно забывая, что образованием словесных сдвигов и заумно-синтетических слов нами выдвигается совершенно новое положение заумности образа, выражаемое нашими словами, например: сахрун, мизюнь, трусть, рококовый рококуй, гнестр, петер
и т.д.
Это ветра ласковый петер
(В. Хлебников). В слове петер
соединяется глагол ‘петь’ с существительным ‘ветер’, и песня ветра дается одним словом петер, новый, ещё не определенный точно образ, напоминающий отчасти петуха.
В заумном слове — всегда части разных слов (понятий, образов), дающих новый “заумный” (не определённый точно) образ. (Например: слово петер
допускает и иное толкование, чем то, что мы ему дали).
Фонетическая сторона заумного слова отнюдь не является простым звукоподражанием (ибо тогда это будет обычный язык „ай-ай” или „мяу-мяу”), но самостоятельным, всегда необычным звукосочетанием, например:
Хо–бо–ро
Мо–чо–ро
Во–ро–мо
Жлыч
Задача заумного языка — всегда давать необычный для данного языка новый звуковой ряд, тем освежая ухо и горло, воспринимающий и воспроизводящий звук органы слуха и речи.
Из дальнейших проблем наметим:
2) Судьбы заумного языка —
а) до какой степени допустим заумный язык в поэзии (отдельные словечки, небольшие стихи, целые поэмы, драмы, романы?).
б) какому языку принадлежит будущее в искусстве — обычному или заумному, и является ли заумь только омолаживанием старого языка или полным поглощением его.
3) Заумный язык и общественность:
а) есть ли заумь порождение индивидуализма, субъективного смакования мира или он ‹заумный язык› носит в себе коллективное начало, нужен ли он массам? (массовая сигнализация).
б) является ли заумь языком будущего (беспредметничество, конструктивизм) или прошедшего (дикарство, примитив)…
Пока же моё мнение и вера таковы:
ЗАУМЬ — НОВОЕ ИСКУССТВО, ДАННОЕ НОВОЙ РОССИЕЙ ВСЕМУ ИЗУМЛЕННОМУ И РАСТЕРЯВШЕМУСЯ МИРУ.
Алексей (Александр) КРУЧЁНЫХ
Воспроизведено по:
Алексей Кручёных. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы.
М., Гилея. 2006. 301–304
Впервые опубликовано: Крученых А. Фонетика театра. М.: 41°, 1923. С. 38–42
 4
4 В
ГС опечатка
шыл исправлена.
 5
5 Стихотворение Е. Гуро «Финляндия» в подлиннике.
 6
6 Вариант
ГС. Поскольку Борис Арватов (см.
www.ka2.ru/nauka/arvatov.html) заимствует примеры детских считалок из статьи В.Б. Шкловского 1919 г., привожу исходник:
| Перо (название игры). | По Божьей Русе |
| Перо | По поповой полосе |
| Уго | Прело грело |
| Теро | Осиново полено |
| Пято | Чивиль доска |
| Сото | Дара-шепешка |
| Иво | Топча-понча |
| Сиво | Пиневиче |
| Дуб | Вылез. |
| Крест | Русь кнесь |
| (Вятской губернии). | (Вятской губ.). |
| Первинчики | |
| Другинчики | |
——————
| Бубикони. | Пяти соти |
| Ни чем гони | Сиви или |
| Златом-литом | Пень. |
| Под полетом | (Тульской губ.). |
| Черный палец | |
| Выйди за печь | |
| Рус-квас | |
| Шишел-вышел | |
| Вон пошёл. | |
| (Владимирской губернии). | |
| Пера, ера | |
| Чуха, луха | |
 7
7 Выверено по: Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х. Дворецкий. Т. I, II.
М.: ГИИиНС. 1958; Греческо-русский словарь, составленный А.Д. Вейсманом. Издание пятое. СПб. 1899; краткий очерк
Ephesia Grammata (http://en.wikipedia.org/wiki/Ephesia_Grammata). См. также:
‹...› Известная в древности магическая формула. Из Гесихия и Климента Александрийского (Clemens Alexandrinus Stromata V 242, Hsch. s. v.) мы знаем её звучание — άσκιον, κατάσκιον, λιξ, τετράξ, δαμναμενεύς, αϊσιον (или αίσια). О её магической силе “свидетельствовало”, что Крез, уже стоя на костре, приговорённый к смерти, спасся, произнеся её, а кони эфесян, имевшие её на бабках, были непобедимы в ристании (Suidae Lexicon s. v., Eusth. XIX 274). Значение этих слов уже в древности было непонятно, хотя пифагореец Андрокид попытался истолковать их символически: άσκιον = σκότος (‘мрак’), κατάσκιον = φω̃ς (‘свет’),
λιξ = γη̃ (‘земля’), δαμναμενεύς =
η̃λιος (‘солнце’),
αίσια =
άληθής φονή, άληθές
(‘истинный глас’, ‘истина’), Clemens Alexandrinus, ibid. В действительности это, вероятно, звукоподражательное заклинание вроде тех, которые приводит Катон в трактате О «земледелии» (160): aries dardaries astataries, ista sista pista. Только δαμναμενεύς осмысленно и известно как имя идейского дактиля (демонические спутники Реи-Кибелы): имя происходит от глагола δαμνάω — ‘укрощать’.
http://simposium.ru/ru/node/822
Исходник 1919 г. (опечатки выделены цветом):
Заклинания всего мира часто пишутся на таких языках, так, например, известные у древних греков, в качестве могущественных филактериев, “ta’Ephecia grammata” (магические письмена на короне, поясе и пьедестале Дианы Ефесской) состояли из загадочных слов (aenigmato des): askion, kataskon; siz, tetras, damna; menein, aesia (ср. Климент Алек. Stromata lib. V cah VIII, цитата по Коновалову, 191). В
ГС цитата воспроизведена с использованием греческих букв (опечатки выделены цветом):
Заклинания всего мира часто пишутся на таких языках; так, например, известные у древних греков, в качестве могущественных филактериев, τα Εφεθια γραμματα (магические письмена на короне, поясе и пьедестале Дианы Эфесской) состояли из загадочных (αινιφματοδης) слов: αδχιου, χαταδχιον, λιξ, τετεας, δαμναμενευς, αιγα
Цит. по: Д. Коновалов. «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве».
Сергиев Посад, 1908. С. 191
 8
8 В
ГС приведено в соответствие с
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: [1. Картина сектантского экстаза] // Богословский вестник 1907. Т. 1. № 3. С. 738 (цветом выделены исправления), см. www.eresi.net/pdf/ekstaz.pdf:
рентре фенте ренте финтрифунт
нодар лисентрант нохонтрофинт. 9
9 В
ГС приведено в соответствие с
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: [1. Картина сектантского экстаза] // Богословский вестник 1907. Т. 1. № 3. С. 738 (цветом выделены исправления), см. www.eresi.net/pdf/ekstaz.pdf:
насонтос лесонтос фурт лис натруфунтру натрисинфур. 10
10 В
ГС приведено в соответствие с
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: [1. Картина сектантского экстаза] // Богословский вестник 1907. Т. 1. № 3. С. 750 (цветом выделены исправления), см. www.eresi.net/pdf/ekstaz.pdf:
Hippo-gerosto hippo booros senoote
Foorime oorin hoopo tanto noostin
Noorastin niparos hipanos bantos boorin
О Pinitos eleiastino halimungitos dantitu
Harapootine farimi aristos ekrampos
‹...› 11
11 В
ГС (цветом выделены исправления):
Schua ea, schua ea
O tschi biro ti pea
Akki lungo ta ri fungo,
U Ii bara ti ra iungo
Latschi bungo ti tu ta. 12
12 В
ГС внесены исправления (существенные выделены цветом). Текст сектантов уточнён по:
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: [1. Картина сектантского экстаза] // Богословский вестник 1907. Т. 1. № 3. С. 739
Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши —
Спасенные души,
Воробьи пророки —
Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?
| Текст сектантов: | Текст продолжения песни у детей: |
|
| | |
А писано тамо | Зюзюка, зюзюка, | | „Савишрáи само | Куда нам катиться? |
| Капилáста гàндря | Вдоль по дорожке… |
| Даранатá шáнтра | и пр. |
| Сункара пуруша | |
| Моя дева, Луша”. | |
 13
13 В
ГС исправлено:
Вээоми.
 14
14 В
ГС (цветом выделены исправления):
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки. 15
15 В
ГС исправлено.
 16
16 В
ГС исправлено: «Шиповник», кн. 22, стр. 144 — «Образцы футуристической литературы» К. Чуковского.
 17
17 Вариант 1919 г. (опечатки выделены цветом):
choris ton episkaton meden noeite
ten sarka nmono suaon, oe on tereite
ten enosen agapate
tous merisms pheunete
mimetai ginesthe Jesou Christou
Os kai autos tou Patros autou.
В
ГС видим попытку цитирования на языке подлинника. Грубые ошибки (следствие повсеместной подмены σ → δ и κ → χ, а также путаницы ν ↔ υ ) выделены цветом:
Χωρις του επιδχοπον μηδεν ποιεττε,
τηυ δαρχα νμωυ ως ναου θεου τηρεττε,
τηυ ενωδιυ αγαπατε,
τους μεριδμους φευγετξ,
μιμηται γινεδθε Ιηδου Χριδτου, 
ως χαι αυτος του Πατρος αυτου. Повторно цитирую фрагмент главы VII послания Св. Игнатия к филадельфийцам (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣΙΝ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Epistle of St. Ignatios of Antioch: To The Philadelphians; см. http://learningthroughhistory.wordpress.com/) скудными средствами HTML:
Χωρις του̃ έπισκόπου μηδέν ποει̃τε,
τήν σάρκα ύμω̃ν ώς ναόν θεου̃ τηρει̃τε,
τήν ένωσιν άγαπα̃τε,
τούς μερισμούς φεύγετε,
μιμηταί γίνεσθε Ίησου̃ Χριστου̃,
ώς καί αύτός του̃ πατρός αύτόυ̃.
Глава VII в переводе (цитируемый фрагмент выделен):
„For though some would nave deceived me according to the flesh, yet the Spirit, as being from God, is not deceived. For it knows both whence it comes and whither it goes, and detects the secrets [of the heart]. For, when I was among you, I cried, I spoke with a loud voice: Give heed to the bishop, and to the presbytery and deacons. Now, some suspected me of having spoken thus, as knowing beforehand the division caused by some among you. But He is my witness, for whose sake I am in bonds, that I got no intelligence from any man. But the Spirit proclaimed these words:
Do nothing without the bishop; keep your bodies as the temples of God; love unity; avoid divisions; be the followers of Jesus Christ, even as He is of His Father”.
Наконец, источник злополучного заимствования:
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: [1. Картина сектантского экстаза] // Богословский вестник 1907. Т. 1. № 3. С. 213
(см. www.xpa-spb.ru/libr/Konovalov-DG/religioznyj-ekstaz-8-10.pdf):
Воспроизведено по:
Поэтика. Сборники по теории поэтического языка.
Петроград. 18-ая Государственная типогрфия. Лашуков пер., 13. С. 13–26
Подлинник статьи здесь
Изображение заимствовано:
Joseba Eskubi (b. 1967, lives and works in Bilbao, Spain)
DSC05155. Técnica mixta. 2013.
www.flickr.com/photos/josebaeskubi/9964577986/


![]()
![]()