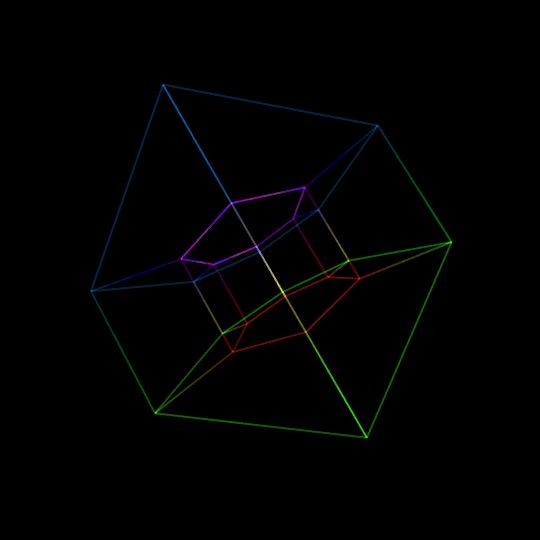Шарлотта Дуглас
Велимир Хлебников
От переводчика 

иктор (Велимир) Хлебников родился 9 ноября 1885 года в семье попечителя (the Russian administrator) калмыков — монголов-буддистов, кочевавших в степи западного побережья Каспийского моря.
1
Он был третьим (the fourth) из пяти детей: Борис и Екатерина (and Alexander) — старшие, самая близкая ему по духу Вера, которая стала известной художницей, родилась шестью годами позже. Владимир Алексеевич Хлебников, отец поэта, получил в Санкт-Петербургском университете учёную степень, соответствующую доктору философии в США, и был выдающимся естествоиспытателем и орнитологом. Мать, Екатерина Николаевна Хлебникова (Verbitskaia), обучалась в Смольном институте благородных девиц и до выхода замуж примыкала к народовольцам (was an intelligent woman who studied history in school and had close connections with the Populist movement).
2
Семья Хлебниковых была дружной, жизнерадостной и деятельной. Екатерина, хотя и всецело преданная своим детям, к домашним хлопотам была равнодушна и предпочитала проводить время в саду и за книгой. Владимир набивал чучела птиц и собирал гербарий, писал научные статьи по землеустроительству, горячо интересовался жизнью калмыков, их религией, играми и преданиями. Изучение птиц развило в нём способность к терпеливому наблюдению и привычку систематизировать собранные сведения. По общему мнению, это был мягкий, проницательный человек, и, хотя в годы самостоятельной жизни Виктор с ним ссорился, ещё мальчиком он перенял исключительную преданность отца науке (wholeheartedly adopted his father’s freethinking), проявляя наследственную предрасположенность к пристальному наблюдению и склонность к научной систематизации. Занятия Владимира этнографией дали его домочадцам редкое по тому времени представление о многообразии жизненных укладов. Друзья отмечали терпимость и взаимоуважение Хлебниковых; громадная домашняя библиотека способствовала самообразованию. Хлебниковы делили свой дом с множеством мелких диких животных — ежи, черепахи и песчанки разгуливали по комнатам; во дворе были сараи с клетками для живности покрупнее. Чтобы выработать у детей привычку записывать наблюдения за природными явлениями, Владимир поощрял ведение дневника. К одиннадцати годам Виктор уже вносил в него ход своих повседневных занятий и наблюдения за птицами.
До шести лет мальчик жил в единственном деревянном доме среди кибиток и пасущегося скота калмыков (позже он писал, что верблюд знает сущность буддизма и затаил ужимку Китая,3 ) и осознал себя насельником страны, принадлежащей как Западу, так и Востоку, человеком двух идентичностей — и всё это благодаря рождению близ “Каспийско-Китайского” моря. В конечном итоге это привело Виктора к мысли, что истинный его дом — планета Земля.
) и осознал себя насельником страны, принадлежащей как Западу, так и Востоку, человеком двух идентичностей — и всё это благодаря рождению близ “Каспийско-Китайского” моря. В конечном итоге это привело Виктора к мысли, что истинный его дом — планета Земля.
Руководствуясь, в первую очередь, желанием приобщить детей к большему разнообразию природы, Владимир покинул калмыцкую степь и занял должность управляющего Подлужанским удельным имением (district supervisor) в Волынской губернии, близ границы с Польшей. Во время переезда Виктор с братьями и сёстрами впервые посетил Петербург, проведя лето 1891 года у бабушки по материнской линии Марии Петровны Вербицкой. На её даче за городом шестилетний Виктор впервые окунулся в мир природы северо-запада России, столь отличный от равнин Калмыкии.
На Волыни Хлебниковы провели четыре года в сельской идиллии, ничуть не похожей на их жизнь в степи. Запущенное поместье среди дремучих лесов, дом, окружённый роскошным парком с фруктовыми деревьями и ботаническими редкостями. Дети играли среди развалин замка, бегали по лесу в поисках грибов, ягод и птичьих гнёзд.
Витя жадно учился умению распознавать травы и цветы. Он очень гордился, когда ему удалось изготовить чернила из полевых васильков... У него был свой гербарий и клумба, за которой он ухаживал, особое внимание уделяя барвинку, этому простому скромному цветку.
4
Когда Виктору исполнилось десять лет, семья переехала в Симбирскую губернию (ныне Ульяновская область) в северном Поволжье. Там они жили в мордовском селе Помаево, где Владимир служил управляющим Помаевским удельным имением (district steward). Именно здесь мальчик познакомился с мифами и фольклором мордвы, рассказами о богатырях-меченосцах и сокровищах, скрытых под поросшими лесом холмами. Семья Хлебниковых не увлекалась вечеринками и гостями, но по праздникам мордву приглашали на устраиваемые Екатериной гуляния; высокие и статные сельчане приходили в национальных костюмах, со сверкающими ожерельями и в высоких шапках, вызывая у детей восторг своими зажигательными танцами и пением.
Виктор был красивым ребёнком, своенравным, умным и задумчивым. Он был белокур и высок, в больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и зелёный, как будто плавал лист купавы по озеру.5 Мальчик рос в тёплой семейной обстановке, и когда в возрасте двенадцати лет его отправили за 60 вёрст в Симбирскую гимназию, ему так плохо показалось у чужих людей, что родители сочли за благо поселиться в городе, чтобы сын мог оставаться при них.
Мальчик рос в тёплой семейной обстановке, и когда в возрасте двенадцати лет его отправили за 60 вёрст в Симбирскую гимназию, ему так плохо показалось у чужих людей, что родители сочли за благо поселиться в городе, чтобы сын мог оставаться при них.
В 1898 году семья переехала ещё севернее, в Казань, где располагался один из самых престижных университетов России. В казанской гимназии Виктор проявлял особый интерес к математике и литературе. С раннего детства он — естественное продолжение наблюдательности — рисовал, и, чтобы развить эти задатки, был нанят ученик Казанской художественной школы; через три года занятия вёл местный художник-график. Когда Виктор был свободен от обязательных гипсовых слепков, он рисовал своих любимых птиц и животных, а перейдя к живописи маслом — деревья и поля.6
После окончания гимназии он поступил в Казанский университет на математический факультет, тем самым, подпав под обаяние геометра Николая Ивановича Лобачевского, который приобретёт в творчестве Хлебникова мифологический статус. Непризнанный при жизни, Лобачевский своим революционным открытием неевклидовой геометрией бросил вызов общепринятому пониманию мирового пространства. Во многих отношениях Казань была городом Лобачевского: он доминировал здесь не только как всемирно известный математик, но и как ректор университета, чьими хлопотами тот прославился. Под занавес XIX века, благодаря усилиям Александра Васильева, Лобачевский получил запоздалое признание. Васильев, заведовавший кафедрой математики, опубликовал несколько книг и десятки статей о творчестве своего великого предшественника,7 и ко времени поступления Хлебникова в университет дух Лобачевского, то есть решительная приверженность свободе научных исследований, был здесь возрождён (had again become a vital force). Самоотождествление Хлебникова с великим геометром должен был усилить и обоюдный интерес к русскому языку, истории, искусству, восточным культурам. В каком-то смысле у Хлебникова не было иного выбора, кроме как стать “королём времени”, ибо Лобачевский изначально был для него “королём пространства”.
и ко времени поступления Хлебникова в университет дух Лобачевского, то есть решительная приверженность свободе научных исследований, был здесь возрождён (had again become a vital force). Самоотождествление Хлебникова с великим геометром должен был усилить и обоюдный интерес к русскому языку, истории, искусству, восточным культурам. В каком-то смысле у Хлебникова не было иного выбора, кроме как стать “королём времени”, ибо Лобачевский изначально был для него “королём пространства”.
В Казани занятия наукой стали для Хлебникова образом жизни. После первого курса университета он сменил специализацию с математики на естествознание и был принят в знаменитое Казанское Общество естествоиспытателей, членом которого был и его отец. Под эгидой Общества весной 1905 года Виктор и его брат Александр отправились в орнитологическую экспедицию на Северный Урал, где, без малого пять месяцев, исследовали окрестности Николае-Павдинского завода (the Pavdinsk Preserve), собирая образцы для отцовской коллекции и записывая свои наблюдения (and recording songs and sightings). Позже они доложили о результатах поездки на собрании Общества и, наконец, в соавторстве опубликовали свой труд.8 Натуралистические по форме, орнитологические заметки эти исключительно живы, полны краеведческих сведений, почерпнутых у местных охотников, и замечательных описаний птичьих повадок:
Натуралистические по форме, орнитологические заметки эти исключительно живы, полны краеведческих сведений, почерпнутых у местных охотников, и замечательных описаний птичьих повадок:
Наевшись, кедровка часто сидит подолгу, нахохлившись и закрыв глаза, видимо наслаждаясь своим голосом, как бы рассказывая что-то о дневных впечатлениях на своём странном языке: „пи-у, пи-у, пи-у”, стонет она болезненно и жалостно; „пи-и, пи-и, пи-и”, пищит она голосом тонким, как крик рябчика; вот настойчиво и вразумительно звучит её голос: „кннья, кннья, кннья”; вот переходит в бормотанье: „кя, кя, кя”; вот, вздрагивая от напряжения и ещё больше, как бы сердито ероша перья, грубо и хрипло шипит она.
9
Интерес Хлебникова к птицам сохранялся на протяжении всего пребывания в Казани. В 1907 г. он опубликовал краткий отчёт об орнитологических наблюдениях, сделанных предыдущей весной.
10
Очевидно, уже тогда к миру природы Хлебников развил в себе подход натуралиста (a knowing, intimate relationship to the natural world), который испытует, наблюдая. Он как бы ведёт учёт, дабы разобраться системе управления этим мудрёным хозяйством. Ещё живя в деревне Помаево, одиннадцатилетний Хлебников начал писать стихи. Самая ранняя из сохранившихся проб пера — сочувственное наблюдение за птицей в клетке.11 Этот образ освоенной, покорённой человеком природы крепнет на протяжении всего творчества Хлебникова; позже он станет средоточием множества его проектов.
Этот образ освоенной, покорённой человеком природы крепнет на протяжении всего творчества Хлебникова; позже он станет средоточием множества его проектов.
Но, в дополнение к научным интересам, в Казани Хлебников становится завзятым (eager) читателем символистского литературного журнала «Весы»12 и начинает писать первые “взрослые” стихи, часто используя образы птиц, которых он с таким прилежанием изучал. Лучшие пробы пера начинающий автор в марте 1908 года послал на отзыв известному поэту-символисту Вячеславу Иванову. Ответ Иванова не сохранился, но можно предположить, что — либо тогда, либо летом этого года, когда молодой поэт познакомился с Ивановым в Крыму — тот его не обескуражил: через полгода студент Хлебников перевёлся в Петербург и начал издавать свои литературные опыты.
и начинает писать первые “взрослые” стихи, часто используя образы птиц, которых он с таким прилежанием изучал. Лучшие пробы пера начинающий автор в марте 1908 года послал на отзыв известному поэту-символисту Вячеславу Иванову. Ответ Иванова не сохранился, но можно предположить, что — либо тогда, либо летом этого года, когда молодой поэт познакомился с Ивановым в Крыму — тот его не обескуражил: через полгода студент Хлебников перевёлся в Петербург и начал издавать свои литературные опыты.
Не исключено, что продолжение учёбы в alma mater отца был намерением угодить ему. В столичном университете Хлебников изучал естественные науки, но со временем занятия ими уступили место литературной работе. На следующий год, после длительного пребывания дома, он сменил специализацию на филологию и приступил к изучению Пушкина.13
Формально первая публикация Хлебникова в Петербурге — вывешенное в университетском коридоре анонимное воззвание о защите славянских государствах Боснии и Герцеговины от аннексии Австрией; вскоре воинственный документ попал в петербургскую газету:14
‹...› Чёрная Гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей по воле богов, готовы противопоставить свою волю воле несравненно сильнейшего врага ‹...›
Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные права славян, приветствую тебя!
Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!
Настроения в пользу панславянского культурного и политического возрождения были широко распространены в России. Летом 1908 года Всеславянский конгресс, состоявшийся в Праге, разработал программу неославизма. Славянофильские круги в университетах поощряли единомышленников, спонсируя поездки с целью расширения культурного кругозора; известны попытки воссоздания общеславянского языка.
15
Когда осенью Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину (с тайного согласия царя), русская интеллигенция, включая властителей дум,
16
выступила с громким протестом. Панславянские взгляды Хлебникова, несомненно, подкреплялись народническими убеждениями его матери (and grandparents) и рассказами жены его дяди (
тётя Маша), несколько лет прожившей в Черногории.
17
Его письма того времени свидетельствуют о визитах к ней и другим родственникам по линии Вербицких. К концу 1909 года он сменил имя на южнославянское Велимир и подумывал о поездке в Черногорию.
18
Романтическая склонность к народовластию (to democratic utopianism) в молодом поэте проявилась ещё в Казани. Вместе с другими студентами в 1905 году он попал в тюрьму за участие в акции протеста по поводу смерти молодого социал-демократа.19 Когда во время его первого посещения Москвы годом позже извозчик с одобрением отзывался о доме в ложнорусском (in the Neo-Slavic style) стиле, Хлебников с воодушевлением писал родным: Так как простые люди обыкновенно не ценят архитектуры, то, очевидно, этот стиль наиболее близок и понятен русскому человеку, иначе извозчик не выделил бы его.20
Когда во время его первого посещения Москвы годом позже извозчик с одобрением отзывался о доме в ложнорусском (in the Neo-Slavic style) стиле, Хлебников с воодушевлением писал родным: Так как простые люди обыкновенно не ценят архитектуры, то, очевидно, этот стиль наиболее близок и понятен русскому человеку, иначе извозчик не выделил бы его.20 Легко понять, что при общем подъёме славянских настроений в 1908 году Хлебников видел себя в авангарде этого движения. „Да здравствует славянское Возрождение!” — взывал он к своим сокурсникам. „Славянская молодёжь, объединяйся! Славянская молодёжь Петербурга, объединяйся! Да здравствует славянская весна!”21
Легко понять, что при общем подъёме славянских настроений в 1908 году Хлебников видел себя в авангарде этого движения. „Да здравствует славянское Возрождение!” — взывал он к своим сокурсникам. „Славянская молодёжь, объединяйся! Славянская молодёжь Петербурга, объединяйся! Да здравствует славянская весна!”21
Хлебникова влекло и к литературным кругам: очевидно, встречи с писателями, которых он прежде знал только по печатным изданиям, ему льстили (obviously pleased). Через несколько недель после переезда в Петербург он писал домой, что видел на публичных чтениях Ф. Сологуба, Городецкого и других из зверинца (год спустя он сообщит родным: Я познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга — Гумилёв, Ауслендер, Кузмин, Гофман, гр. Толстой, Гюнтер и др.22 ). Вскоре он отнёс свою рукопись Василию Каменскому, писателю всего на год старше себя, но уже редактору литературного альманаха «Весна».23
). Вскоре он отнёс свою рукопись Василию Каменскому, писателю всего на год старше себя, но уже редактору литературного альманаха «Весна».23 Каменский так описывает свою первую встречу с Хлебниковым:
Каменский так описывает свою первую встречу с Хлебниковым:
Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого человека, кроме меня, застрявшего в рукописях.
Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращения Шебуева, чтобы бежать в театр.
Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.
Я вышел на площадку — шаги исчезли.
Снова взялся за работу.
И опять шаги.
Вышел — опять исчезли.
Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.
Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:
— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.
Студент произнёс что-то невнятное.
Я повторил приглашение:
— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.
Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошёл в прихожую.
— Хотите раздеться?
Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.
— Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.
Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потёр высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.
Так мы с ним молча смотрели друг на друга и улыбались.
Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.
— Вы что-нибудь принесли?
Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил её винтом и подал мне, как свечку:
— Вот тут что-то... вообще...
И больше ни слова.
Я расправил тетрадь: на первой странице, будто написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисления, цифры; на второй — вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей — написано крупно «Мучоба во взорах», и это зачёркнуто, и написано по-другому: «Искушенье грешника».
‹...› мы напечатаем ваше «Искушенье грешника». Убеждён: Шебуеву это понравится.
Студент быстро привскочил, обрадовался, потёр лоб:
— Очень приятно. Не ожидал... вообще...
— Ваш рассказ не подписан. Пожалуйста, подпишите.
И студент подписался: “В. Хлебников”.
24 В.В. Каменский. Путь энтузиаста
В.В. Каменский. Путь энтузиаста
Так, всего через месяц после приезда в Петербург, Хлебников дал в печать свой первый образчик литературной прозы.
25
Начинающий писатель стал частым гостем вечеров по средам у Вячеслава Иванова, где литараторы едва ли не всех стилистических направлений собирались для бесед и чтений. У Иванова он познакомился с Михаилом Кузминым, прекрасным поэтом, который в то время приобрёл известность своим недавно вышедшим сборником «Сети».26 Кузмин вершил суд и расправу в своих комнатах у Иванова (used to hold court in his own rooms at Ivanov’s) и, по-видимому, проявил интерес к новичку из Казани. Осенью 1909 года Хлебников радостно писал матери: Я подмастерье, а мой учитель — Кузмин. Кружок символистов, руководимый Ивановым, стал именоваться «Академией стиха» (Academy of poets) весной 1909 года, когда Иванов приступил к чтению своим друзьям курса лекций по русскому стихосложению. Группа поддерживала дружеские отношения с петербуржцами из распавшегося (former) к тому времени объединения «Мир искусства» — Сергеем Маковским, Львом Бакстом и Александром Бенуа. Настал черёд и сотрудничества: в октябре вышел изящно изданный журнал «Аполлон» под редакцией Маковского, посвящённый современным течениям в русском и западном искусстве и литературе. Хлебников, писавший запоем (writing furiously), пришёл в восторг: он попал — пусть и на птичьих правах — в завидную компанию (if only on the fringes, of such elevated company)! Из письма к брату:
Кузмин вершил суд и расправу в своих комнатах у Иванова (used to hold court in his own rooms at Ivanov’s) и, по-видимому, проявил интерес к новичку из Казани. Осенью 1909 года Хлебников радостно писал матери: Я подмастерье, а мой учитель — Кузмин. Кружок символистов, руководимый Ивановым, стал именоваться «Академией стиха» (Academy of poets) весной 1909 года, когда Иванов приступил к чтению своим друзьям курса лекций по русскому стихосложению. Группа поддерживала дружеские отношения с петербуржцами из распавшегося (former) к тому времени объединения «Мир искусства» — Сергеем Маковским, Львом Бакстом и Александром Бенуа. Настал черёд и сотрудничества: в октябре вышел изящно изданный журнал «Аполлон» под редакцией Маковского, посвящённый современным течениям в русском и западном искусстве и литературе. Хлебников, писавший запоем (writing furiously), пришёл в восторг: он попал — пусть и на птичьих правах — в завидную компанию (if only on the fringes, of such elevated company)! Из письма к брату:
‹...› Я буду участвовать в «Академии поэтов» ‹...› Я очень ‹её› ценю за глубину, искренность и своеобразие, чего у меня бедно.
Моё стихотворение в прозе будет печататься в «Аполлоне». И я делаю вид, что очень рад, хотя равнодушен. Я пришлю тебе оттиск.
Сомневающемуся (doubting) отцу он сообщил, что читал свои стихи на собраниях «Академии».
27
Однако предназначенный для «Аполлона» «Зверинец» в духе Уолта Уитмена28 так и не был там напечатан. Вероятно, редакторы сочли его парадоксальным — если не сказать невразумительным (paradoxical, if not downright incomprehensible) — и литературно сырым (lacking in literary finish). В лаконичном, но при этом изобилующем образами языке раннего Хлебникова прослеживается всё то, что занимало его тогда всего более: природа, этнокультурные традиции, славянская мифология и религия деревенской России, где христианские верования мирно уживаются (a homely blend) с пантеистическим антропоморфизмом природных сил. Образы птиц, отождествление себя с животными и жестокая мудрость охотников («Охотник Уса-Гали» и «Николай») представляют собой уникальную попытку передать глубоко прочувствованный личный опыт.
так и не был там напечатан. Вероятно, редакторы сочли его парадоксальным — если не сказать невразумительным (paradoxical, if not downright incomprehensible) — и литературно сырым (lacking in literary finish). В лаконичном, но при этом изобилующем образами языке раннего Хлебникова прослеживается всё то, что занимало его тогда всего более: природа, этнокультурные традиции, славянская мифология и религия деревенской России, где христианские верования мирно уживаются (a homely blend) с пантеистическим антропоморфизмом природных сил. Образы птиц, отождествление себя с животными и жестокая мудрость охотников («Охотник Уса-Гали» и «Николай») представляют собой уникальную попытку передать глубоко прочувствованный личный опыт.
Хлебников приехал в Петербург с отчётливым, вполне сложившимся мировоззрением (with a rich and keenly developed way of seeing the world), весьма отличным от взглядов литературного бомонда (literary establishment) столицы. Его знакомые по «Академии стиха» были символистами; они рассматривали мир как систему соответствий и пытались расшифровать таинственные намёки на высшую реальность. Утончённая экзотика их искусства и сопутствующая ему философия служили символистам своего рода тайной доктриной (as a kind of arcane religion); такого рода эстетика была Хлебникову чужда. Через год с небольшим это выяснилось со всей очевидностью, и поэт почувствовал себя жертвой предательства (to feel betrayed by his former friends). Его страдания усугубило незавидное положение домашнего учителя двух купеческих дочерей. В начале 1910 года предсказуемые разногласия с «Аполлоном» и «Академией» обострились, и Хлебников покинул кружок Иванова.
Именно Василий Каменский, редактор журнала «Весна», познакомил Хлебникова с гораздо более близкой ему по духу группой писателей и художников; сразу признав талант поэта, они в течение нескольких лет оказывали ему спасительную (crucial) моральную и финансовую поддержку. Обиженный и возмущённый небрежением «Академии», Хлебников счёл знакомство Каменского с Михаилом Матюшиным и Еленой Гуро перстом судьбы (providential). Матюшин был скрипачом, Гуро — писательницей, оба они занимались живописью, и в их уютной квартире на Песочной улице (Litseiskaia Street) Хлебников познакомился с Давидом Бурлюком, поэтом, художником, “отцом русского футуризма”. Бурлюк выручил его в трудной жизненной ситуации: перевёз на Фонтанку (on the Fontanka Canal) к Каменскому и его новой жене (his new wife).29
Хлебников жил у купца на уроке за комнату. Это был деревянный неоштукатуренный дом, и во все окна с одной стороны глядели кресты Волкова кладбища... Хлебников не решался, и я заявил мамаше, что забираю студента. Быстро собрали “вещи” — что-то очень мало. Был чемоданчик и мешок, который Витя вытащил из-под кровати: наволочка, набитая скомканными бумажками, обрывками тетрадей, листками бумаги или просто углами листов. „Рукописи...” — пробормотал Витя.
30 Давид Бурлюк. Я о Хлебникове написал паром дыхания своего...
Давид Бурлюк. Я о Хлебникове написал паром дыхания своего...
Вероятно, у Матюшина он познакомился и с Николаем Кульбиным, врачом, художником и пропагандистом нового искусства: всего через несколько недель, в марте, все они — Каменский, Матюшин, Гуро, Давид Бурлюк и его брат Владимир — приняли участие в большой выставке «Треугольник», организованной Кульбиным. Хлебников — наряду с Толстым, Горьким, Пушкиным, Чеховым и многими поэтами «Академии стиха» — был представлен в разделе рисунков и автографов писателей.
Тогда же в сборнике «Студия импрессионистов» Кульбин опубликовал стихотворение Хлебникова «Заклятье смехом» — верх словесной эквилибристики (a feat of verbal acrobatics), ставший образцовым и самым известным произведением русского футуризма.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей,
Смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!31
Больше года Хлебников писал стихи на основе неологизмов, и его новые друзья, признавая революционный характер этих произведений, охотно приспосабливали к нему свои эстетические принципы. Группа — позже они назовут себя футуристами и кубофутуристами
32
— намеревалась опубликовать подборку прозы и поэзии, которая возмутила бы литературную знать, и этим тотчас привлекла к себе внимание. Хлебников охотно присоединился к планам совместной атаки на русский символизм. Каменский, который был редактором их первого сборника, вспоминал о его создании:
Хлебников в это время жил у меня, и я не видел его более весёлого, скачущего, кипящего, чем в эти горячие дни. ‹...›
Хлебников, будоража волосы, то корчился, то вдруг выпрямлялся, глядел на нас пылающей лазурью, ходил нервно, подавшись туловищем вперёд, сплошь сияя от прибоя мыслей:
— Вообще... будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия... Мы будем соединяться с материком посредством аэропланов, как птицы. Станем прилетать весной и выводить разные идеи, а осенью улетать к себе.
Сверхреальный Давид Бурлюк наводил лорнет на нездешнего поэта и спрашивал:
— А чем же мы, Витя, станем питаться на этом острове?
Хлебников буквально пятился:
— Чем? Плодами. Вообще мы можем быть охотниками, жить в раскинутых палатках и писать... Мы образуем воинственное племя.
33 В.В. Каменский. Путь энтузиаста
В.В. Каменский. Путь энтузиаста
«Садок судей» (название предложено Хлебниковым и напоминает о его первой пробе пера, птичке в клетке) вышел в апреле 1910 года.34 В пику роскошному «Аполлону» он был отпечатан на оборотной стороне дешёвых обоев, без знаков препинания и прочих типографских тонкостей. Здесь, наконец, появился «Зверинец», недавно доработанный; среди прочих произведений Хлебникова дана пьеса «Маркиза Дезес», пародия на круг «Аполлона». В качестве ответной любезности редакция журнала процитировала «Садок судей» в колонке, предназначенной для графоманов. Спустя тринадцать месяцев поэт Гумилёв оценил произведения Хлебникова из «Садка» так:
В пику роскошному «Аполлону» он был отпечатан на оборотной стороне дешёвых обоев, без знаков препинания и прочих типографских тонкостей. Здесь, наконец, появился «Зверинец», недавно доработанный; среди прочих произведений Хлебникова дана пьеса «Маркиза Дезес», пародия на круг «Аполлона». В качестве ответной любезности редакция журнала процитировала «Садок судей» в колонке, предназначенной для графоманов. Спустя тринадцать месяцев поэт Гумилёв оценил произведения Хлебникова из «Садка» так:
В. Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий. ‹...› В. Хлебников сохраняет все нюансы, отчего его стихи, проигрывая в литературности, выигрывают в глубине. Отсюда иногда совершенно непонятные неологизмы, рифмы, будто бы притянутые за волосы, обороты речи, оскорбляющие самый снисходительный вкус. Но ведь чего не приснится, а во сне все значительно и самоценно.
35 Н.С. Гумилёв. Из «Писем о русской поэзии»
Н.С. Гумилёв. Из «Писем о русской поэзии»
Но больше никто не воспринял публикацию всерьёз — хотя бы настолько, чтобы возмутиться.
Следующей зимой на деньги, одолженные у Матюшина и Гуро, Хлебников уехал на восемь месяцев к родителям; они тогда жили в Алферьево (Alferovo), другой мордовской деревне примерно в 100 милях к северо-западу от нынешнего Ульяновска. Принуждённый отцом изнывать в самом скверном из городов, Хлебников занялся изысканиям во времени, которым он посвятит всю оставшуюся жизнь. Всё время я работаю над числами и судьбами народов, как зависимыми переменными чисел, — писал он Матюшину в апреле 1911 года, и своей сестре Вере: Я работаю над числами.36
В июне, ещё находясь в Алферьево, Хлебников был официально исключён из университета за недоимку (for nonpayment of fees). Вернувшись осенью в Санкт-Петербург, он какое-то время подумывал о поступлении в Археологический институт в Москве, но быстро увлёкся нарастающим темпом кубофутуристской деятельности.37 Через Бурлюка он сошёлся с Владимиром Маяковским и Алексеем Кручёных,38
Через Бурлюка он сошёлся с Владимиром Маяковским и Алексеем Кручёных,38 приехавшими в Москву молодыми художниками, которые переключились на изящную словесность. Когда при первом знакомстве Кручёных показал Хлебникову свои опыты, между двумя поэтами завязалось сотрудничество, которому суждено было возыметь величайшее значение для русского футуризма.
приехавшими в Москву молодыми художниками, которые переключились на изящную словесность. Когда при первом знакомстве Кручёных показал Хлебникову свои опыты, между двумя поэтами завязалось сотрудничество, которому суждено было возыметь величайшее значение для русского футуризма.
В одну из следующих встреч в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка — наброски, строк 40–50, своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг — собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещрённые его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, ещё поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами.
39 А.А. Кручёных. О Велимире Хлебникове
А.А. Кручёных. О Велимире Хлебникове
В течение следующих двух лет они совместно опубликовали ещё пять брошюр
40
и выработали новый подход к поэтическому языку, ставший центром притяжения литературного модернизма в России.
Хлебников уехал в начале весны к братьям Бурлюкам в Чернянку, имение в Таврической губернии, которым управлял их отец.41 9 апреля 1912 года Бурлюк писал Василию Кандинскому в Мюнхен:
9 апреля 1912 года Бурлюк писал Василию Кандинскому в Мюнхен:
Виктор Хлебников здесь, со мной; я привезу вам его статью или отправлю по почте — о его открытиях в истории и географии. Его надо издавать, но в России почему-то всегда публикуют менее достойных, а у него совсем нет энергии на это.
42
В середине апреля, перед отъездом на шесть недель в Западную Европу, Бурлюк одолжил (loaned) Хлебникову деньги на публикацию его брошюры «Учитель и ученик», которая включала первое из составленных в дальнейшем уравнений, управляющих судьбами народов, и обоснование закономерности расположения крупных городов. Здесь же Хлебников ввёл понятие внутреннего склонения слов.43 На сомнение отца в познавательной добротности (intellectual respectability) своих открытий Хлебников ответил:
На сомнение отца в познавательной добротности (intellectual respectability) своих открытий Хлебников ответил:
Уверяю вас, что там решительно нет ничего такого, чтобы позволяло трепетать, подобно зайцам, за честь семьи и имени. Наоборот, я уверен, будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной.
44
Хлебников продолжал работать над числами, готовя к изданию очередную брошюру о циклах времени и природе языка.45 В начале осени на деньги приятелей Маяковского по летним вакациям (summer neighbors) Георгия Кузьмина и Сергея Долинского в Москве вышла «Игра в аду» Хлебникова и Кручёных, проиллюстрированная шестнадцатью яркими примитивистскими рисунками коллеги Кручёных (Kruchonykh’s friend) Натальи Гончаровой.46
В начале осени на деньги приятелей Маяковского по летним вакациям (summer neighbors) Георгия Кузьмина и Сергея Долинского в Москве вышла «Игра в аду» Хлебникова и Кручёных, проиллюстрированная шестнадцатью яркими примитивистскими рисунками коллеги Кручёных (Kruchonykh’s friend) Натальи Гончаровой.46
После отдыха у своей тётки в Одессе (Каждый день купаюсь в море и делаюсь земноводным, потому что в воде совершаю столь же длинные путешествия, как и на суше47 ) Хлебников отправился в Москву, к Бурлюкам, Кручёных и Маяковскому. Занимал он тогда маленькую комнату в квартире №3 дома № 11 по Ново-Васильевской улице, „с одним окном, без солнца, с кроватью почти у пола, как черепаха на железных ногах. Под кроватью наволочка, в которой он хранил свои работы ‹...› стол и стул, платяной шкаф без дверцы”.48
) Хлебников отправился в Москву, к Бурлюкам, Кручёных и Маяковскому. Занимал он тогда маленькую комнату в квартире №3 дома № 11 по Ново-Васильевской улице, „с одним окном, без солнца, с кроватью почти у пола, как черепаха на железных ногах. Под кроватью наволочка, в которой он хранил свои работы ‹...› стол и стул, платяной шкаф без дверцы”.48 Вечерами друзья собирались у Маруси и Давида Бурлюков в номере гостиницы «Романовка» на углу Тверского бульвара и Малой Никитской (Malaia Bronnaia Street), населённом студентами консерватории. Там, среди мягкой мебели красного дерева (Хлебников занимал кресло у рояля, Маяковский — на диване), попивая чай из огромного самовара, молодые поэты и художники встретили свою самую важную и продуктивную зиму. В течение следующих двух лет кубофутуристы опубликовали в Москве и Санкт-Петербурге свыше десятка небольших сборников радикально передовой прозы и поэзии, оформленных авангардистами Михаилом Ларионовым, Давидом и Владимиром Бурлюками, Гончаровой, Казимиром Малевичем и Павлом Филоновым (издавали большей частью Матюшин, Кручёных, Кузьмин и Долинский). И во всём этом, несмотря на периоды упадка, вызванные непростыми отношениями с отцом, Хлебников принимал активное участие.
Вечерами друзья собирались у Маруси и Давида Бурлюков в номере гостиницы «Романовка» на углу Тверского бульвара и Малой Никитской (Malaia Bronnaia Street), населённом студентами консерватории. Там, среди мягкой мебели красного дерева (Хлебников занимал кресло у рояля, Маяковский — на диване), попивая чай из огромного самовара, молодые поэты и художники встретили свою самую важную и продуктивную зиму. В течение следующих двух лет кубофутуристы опубликовали в Москве и Санкт-Петербурге свыше десятка небольших сборников радикально передовой прозы и поэзии, оформленных авангардистами Михаилом Ларионовым, Давидом и Владимиром Бурлюками, Гончаровой, Казимиром Малевичем и Павлом Филоновым (издавали большей частью Матюшин, Кручёных, Кузьмин и Долинский). И во всём этом, несмотря на периоды упадка, вызванные непростыми отношениями с отцом, Хлебников принимал активное участие.
Той же осенью кубофутуристы начали готовить очередной «Садок судей» для издательства Гуро и Матюшина «Журавль» (Crane Press). Хлебников, возможно сгоряча, пообещал какой-то юной особе (young friend), названной в письмах к Матюшину Милица, малороссиянка 13 лет и Ел. Ал., что её стихи будут напечатаны в «Садке судей II». Давид Бурлюк и Каменский были против. Хлебников обратился к Матюшину не из-за новой эстетики — детское творчество уже было знакомо публике по современным выставкам, — а из-за того исторического значения, которое эти стихи приобретут в будущем.49 В «Романовке» группа готовила материал и для «Пощёчины общественному вкусу», сборнику прозы и стихов Хлебникова, Кручёных, Николая Бурлюка, Маяковского, Кандинского и др. Его предваряла одноименная листовка, где провозглашалось право поэтов „на непреодолимую ненависть к существовавшему языку” и превозносилось „самовитое, самоценное слово”. «Пощёчина» была доставлена из типографии 18 декабря; дабы вызвать у публики негодование, она была отпечатана на серо-жёлтой оберточной бумаге и в обложке из мешковины. Более половины сборника составили произведения Хлебникова, более чем удивительные по духу и небывалые по исполнению. Таковы «Бобэоби» и несколько других стихотворений, где очевидны его идеи об универсальном алфавите.50
В «Романовке» группа готовила материал и для «Пощёчины общественному вкусу», сборнику прозы и стихов Хлебникова, Кручёных, Николая Бурлюка, Маяковского, Кандинского и др. Его предваряла одноименная листовка, где провозглашалось право поэтов „на непреодолимую ненависть к существовавшему языку” и превозносилось „самовитое, самоценное слово”. «Пощёчина» была доставлена из типографии 18 декабря; дабы вызвать у публики негодование, она была отпечатана на серо-жёлтой оберточной бумаге и в обложке из мешковины. Более половины сборника составили произведения Хлебникова, более чем удивительные по духу и небывалые по исполнению. Таковы «Бобэоби» и несколько других стихотворений, где очевидны его идеи об универсальном алфавите.50
Ко времени возвращения в Петербург (начало 1913 года) Хлебников вновь погрузился в размышления о положении славян. В Москве он познакомился с Янко Лавриным, известным славистом и издателем, сотрудником газеты «Славянин». Хлебников гостил у Лаврина в Петербурге около двух месяцев и — возможно, в ответ на военные действия на Балканах и наращивание немецкой армии — написал для «Славянина» несколько статей, где обличал австро-венгерский и германский милитаризм, а также исследовал культурные корни различных славянских народностей.51 В этих очерках отмечена исконная узость русской литературы и поставлена задача обогатить её “тёмными веками” и небрегаемыми народами — евреями, поморянами (Pomeranians) и булгарами. Здесь, как обычно, он заявляет о важности для России персидских и монгольских влияний — даже предлагает политический союз с Востоком:
В этих очерках отмечена исконная узость русской литературы и поставлена задача обогатить её “тёмными веками” и небрегаемыми народами — евреями, поморянами (Pomeranians) и булгарами. Здесь, как обычно, он заявляет о важности для России персидских и монгольских влияний — даже предлагает политический союз с Востоком:
На кольцо европейских союзов можно ответить кольцом азиатских союзов — дружбой мусульман, китайцев и русских.
52
Возвращение Хлебникова в Петербург (1913) совпало с прибытием туда большинства кубофутуристов (a general Cubo-Futurist shift). Той же весной в столицу перебрался и Кручёных, основав здесь новое издательство «ЕУЫ». В марте он, Бурлюк и другие поэты-кубофутуристы официально вступили в петербургский «Союз молодёжи», что дало им право на финансовую поддержку в проведении публичных дебатов и постановке кубофутуристской оперы «Победа над Солнцем». Отношения Хлебникова с Михаилом Матюшиным, лидером «Союза молодёжи» и одним из самых надёжных издателей и сторонников поэта, отныне были оформлены организационно (made official Khlebnikov’s relationship). Тоже самое можно сказать о Малевиче и Филонове, двух его любимых художниках. Именно сотрудничество с кубофутуристами привело к изданию первых сборников Хлебникова — Бурлюк напечатал «Творения» (1914), Кручёных под маркой «ЕУЫ» издал «Ряв! Перчатки» (1913) и «Изборник стихов» (1914).
Хотя их убеждения совпадали далеко не во всём, именно Хлебников и Кручёных ответственны за бóльшую часть кубофутуристской теории. В основополагающей статье «Новые пути слова» Кручёных цитирует стихи Хлебникова и излагает ряд эстетических принципов кубофутуризма. В совместных эссе 1913 года «Слово как таковое» и «Буква как таковая» поэты настаивают на отношении к слову и букве как к физическим объектам, чувственным знакам, которыми допустимо манипулировать каким угодно способом для придания высказыванию выразительности. Для обоих заумь (выходящее за пределы понимания словесное сообщение) была расширением поэтического языка, отказом от посредничества здравого смысла и небрежением денотацией. Запредельного смысла Кручёных добивался с помощью интуитивно постигаемых неологизмов, грамматической путаницы, звуковых каламбуров и непоследовательности изложения, в то время как Хлебников сосредоточился на аналитическом построении неологизмов, тщательно выстраивая новые слова из значимых языковых элементов.53
Жена Матюшина, поэтесса Елена Гуро, умерла от туберкулёза 24 апреля 1913 года на их даче в Уусикиркко, Финляндия. Ей было тридцать пять лет. Нежная и чувствительная, Гуро искренне восхищалась Хлебниковым — за его любовь к животным и птицам, за стихи. Она видела в нём идеального поэта с „голосом неисчерпаемой любви ‹...› даятеля, а не отнимателя жизни.54 Известие о смерти Гуро Хлебников получил в Астрахани, где проводил лето у родителей. Вкупе с придирками отца (daily life with his father) это заставило его приуныть: Скучно, что одни люди умирают, — писал он Матюшину, — следовательно, и ты умрёшь, а книги пишут, печатают. Я же духовно умираю. Какая-то перемена, разочарование, упадок веры, сухость, чёрствость.55
Известие о смерти Гуро Хлебников получил в Астрахани, где проводил лето у родителей. Вкупе с придирками отца (daily life with his father) это заставило его приуныть: Скучно, что одни люди умирают, — писал он Матюшину, — следовательно, и ты умрёшь, а книги пишут, печатают. Я же духовно умираю. Какая-то перемена, разочарование, упадок веры, сухость, чёрствость.55
В июле Кручёных и Казимир Малевич навестили Матюшина, который оправлялся в Уусикиркко после смерти жены. Они намеревались разработать программу кубофутуристического движения на предстоящий сезон и пригласили Хлебникова к ним присоединиться. Он радостно откликнулся на этот повод удрать из Астрахани: Здесь я напрасно что-то хотел сделать, и что-то упорно расстраивало работу,56 — писал он Матюшину в дополнение к просьбе о деньгах на дорогу. Перевод он получил, но во время купания выронил кошелёк в воду. Поездка сорвалась. Остаток лета он литературно сотрудничал с Кручёных посредством почты, а в остальном занимался теориями времени и повторяемостью событий (resonance). Только осенью он вернулся на север.
— писал он Матюшину в дополнение к просьбе о деньгах на дорогу. Перевод он получил, но во время купания выронил кошелёк в воду. Поездка сорвалась. Остаток лета он литературно сотрудничал с Кручёных посредством почты, а в остальном занимался теориями времени и повторяемостью событий (resonance). Только осенью он вернулся на север.
В Петербурге Хлебников захватил самое горячее для кубофутуризма время. И здесь, и в Москве Давид Бурлюк читал лекции на тему «Пушкин и Хлебников», так что последнему поневоле приходилось выступать в роли чтеца-декламатора.57 Эпатируя публику, кубофутуристы разгуливали по улицам с картинками и надписями на лицах; газеты добросовестно сообщали о каждой выходке подобного рода. Такая реклама обеспечила высокую посещаемость двух крупных мероприятий: в конце года под эгидой «Союза молодёжи» были поставлены опера Кручёных «Победа над солнцем» и лирическая пьеса Маяковского «Трагедия». Абсурдистское либретто «Победы» предварял пространный пролог Хлебникова; Матюшин сочинил для оперы музыку, а Малевич создал эскизы геометрических костюмов и декораций; Филонов работал над оформлением «Трагедии». Эти две постановки чередовались в петербургском театре «Луна-парк» со второго по пятое декабря. Вызывающая грубость и мнимая бессмысленность «Победы» вызывали бурю негодования и массовый наплыв зрителей на каждом представлении.58
Эпатируя публику, кубофутуристы разгуливали по улицам с картинками и надписями на лицах; газеты добросовестно сообщали о каждой выходке подобного рода. Такая реклама обеспечила высокую посещаемость двух крупных мероприятий: в конце года под эгидой «Союза молодёжи» были поставлены опера Кручёных «Победа над солнцем» и лирическая пьеса Маяковского «Трагедия». Абсурдистское либретто «Победы» предварял пространный пролог Хлебникова; Матюшин сочинил для оперы музыку, а Малевич создал эскизы геометрических костюмов и декораций; Филонов работал над оформлением «Трагедии». Эти две постановки чередовались в петербургском театре «Луна-парк» со второго по пятое декабря. Вызывающая грубость и мнимая бессмысленность «Победы» вызывали бурю негодования и массовый наплыв зрителей на каждом представлении.58
Печально известный (notorious) основоположник итальянского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти нанёс свой единственный визит (made his sole visit) в Россию в начале 1914 года.59 Из представителей авангарда в Москве оказались только Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и горстка их сторонников. Ларионов немедленно задал тон гостеприимству: по его мнению, скисшее молоко и тухлые яйца — наилучший способ приветствовать заезжую знаменитость. Выступив с тремя получившими широкую огласку лекциями, Маринетти отбыл в Петербург — и там уже Хлебников набросился на него с яростью, которую в нём трудно было предположить. На первой же лекции он раздавал публике листовки, где соотечественники обвинялись в том, что припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести.60
Из представителей авангарда в Москве оказались только Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и горстка их сторонников. Ларионов немедленно задал тон гостеприимству: по его мнению, скисшее молоко и тухлые яйца — наилучший способ приветствовать заезжую знаменитость. Выступив с тремя получившими широкую огласку лекциями, Маринетти отбыл в Петербург — и там уже Хлебников набросился на него с яростью, которую в нём трудно было предположить. На первой же лекции он раздавал публике листовки, где соотечественники обвинялись в том, что припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести.60 Врач Николай Кульбин, который принимал Маринетти в Петербурге и отвечал за организацию лекций, пытался помешать Хлебникову. На глазах у Маринетти распря закончилась тем, что Хлебников, уже не помня себя, вызвал Кульбина на дуэль и покинул зал.61
Врач Николай Кульбин, который принимал Маринетти в Петербурге и отвечал за организацию лекций, пытался помешать Хлебникову. На глазах у Маринетти распря закончилась тем, что Хлебников, уже не помня себя, вызвал Кульбина на дуэль и покинул зал.61
На следующий день, в рамках отчёта о лекции, в «Биржевых ведомостях» была воспроизведена листовка Хлебникова с ехидным комментарием о “гениальности” её автора. Это вызвало очередной приступ гнева: в оскорбительных по тону и выражениям письмах к Николаю Бурлюку и Маринетти он нападал на них, поносил Кульбина в самых грубых выражениях и отмежёвывался от кубофутуристов.62 Маринетти прибыл в Россию как раз тогда, когда авангардисты почувствовали, что наконец-то завоёвывают репутацию, независимую от своих итальянских “однофамильцев” (namesakes). Это, в сочетании с вполне оправданным страхом перед туземной склонностью (the native tendency) чрезмерно восхищаться чем угодно иностранным, и вызвало реакцию отторжения. Маринетти, вероятно, был разочарован тем, что реальных контактов с кубофутуристами было крайне мало. Во всяком случае, он критиковал их за религиозные и космические пристрастия, которые считал неуместными для футуризма. Не все отнеслись к нему столь враждебно, как Хлебников; Маяковский и Бурлюки проявили нечто похожее на благорасположение (were grudgingly cordial). Ценя футуристическое искусство итальянцев, русские были неприятно удивлены (were offended) развязностью Маринетти, его воинственными заявлениями и даже его усами. Больше всего их коробило его пренебрежительное отношение к их достижениям (most of all they were disturbed by his lack of understanding of their work). Стоило Маринетти выехать из России, как поэт Илья Зданевич подвёл неутешительные итоги визита: „Он очень симпатичен, но много болтает без толку. К тому же буржуазен и плохо разбирается в искусстве.”.63
Маринетти прибыл в Россию как раз тогда, когда авангардисты почувствовали, что наконец-то завоёвывают репутацию, независимую от своих итальянских “однофамильцев” (namesakes). Это, в сочетании с вполне оправданным страхом перед туземной склонностью (the native tendency) чрезмерно восхищаться чем угодно иностранным, и вызвало реакцию отторжения. Маринетти, вероятно, был разочарован тем, что реальных контактов с кубофутуристами было крайне мало. Во всяком случае, он критиковал их за религиозные и космические пристрастия, которые считал неуместными для футуризма. Не все отнеслись к нему столь враждебно, как Хлебников; Маяковский и Бурлюки проявили нечто похожее на благорасположение (were grudgingly cordial). Ценя футуристическое искусство итальянцев, русские были неприятно удивлены (were offended) развязностью Маринетти, его воинственными заявлениями и даже его усами. Больше всего их коробило его пренебрежительное отношение к их достижениям (most of all they were disturbed by his lack of understanding of their work). Стоило Маринетти выехать из России, как поэт Илья Зданевич подвёл неутешительные итоги визита: „Он очень симпатичен, но много болтает без толку. К тому же буржуазен и плохо разбирается в искусстве.”.63
К этому времени у Хлебникова сложился широкий круг знакомств в петербургской творческой элите. В 1913–1915 годах он часто проводил выходные дни в финской сельской местности близ Петербурга, приезжая погостить в уютных загородных дачах (the comfortable summer homes) своих новых друзей. Там он рисовал, писал стихи и был объектом то приязни, то недоумения (alternately of affection and bewilderment) хозяев.64
Первая мировая война принесла России разруху. В борьбе за самосохранение страна израсходовала все свои силы и ресурсы, о былом достатке приходилось только мечтать. Революции февраля и октября 1917 года были ответом измученного народа на войну, которая, казалось, никогда не закончится. Подобно многим своим товарищам, Хлебников был её противником. Бóльшая часть его произведений после 1915 года имеет резко выраженный пацифистской настрой, а его расчёты времени вызывают ощущение безотлагательности. В повести «Ка» читаем:
Я встретил одного художника и спросил, пойдёт ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжёл, что и у войск за пространство”.65
8 апреля 1916 года тридцатилетний поэт, работавший над своей Азбукой ума у родных в Астрахани во время пасхальных праздников, был мобилизован в 93-й стрелковый полк, расположенный в Царицыне. Более непригодного к военной жизни призывника едва ли можно было найти. Он с тоской пишет другу из казармы:
Король в темнице,
Король томится.
В пеший полк 93-й
Я погиб, как гибнут дети.
Хлебников обратился за помощью к Николаю Кульбину, издателю его «Заклятья смехом» и недавнему заклятому врагу (the object of his wrath). Несмотря на кипучую деятельность в области авангарда, Кульбин был уважаемым профессором Военно-медицинской академии в Петербурге:
Шаги‹стика›,
приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. ‹...›
Благодаря ругани, однообразной и тяжёлой, во мне умирает чувство языка.
66
Армейская служба Хлебникова проходила, главным образом, в учебной команде (training camps) и в ожидании результатов медицинских обследований. Находясь летом 1916 года в отпуске, в Харькове он встретился с поэтами Григорием Петниковым и Николаем Асеевым, и они издали в виде листовки «Трубу марсиан» — манифест, провозглашающий новую всемирную организацию и нападающий на старшее поколение. “Марсиане” часто бывали в весёлом и дружном семействе Синяковых. Мария, одна из сестёр, художница, подписала манифест.67 В ноябре Петников опубликовал в своём журнале «Временник» («Chronicle») хлебниковские «Азбуку ума», «Второй язык» и «Письмо двум японцам».
В ноябре Петников опубликовал в своём журнале «Временник» («Chronicle») хлебниковские «Азбуку ума», «Второй язык» и «Письмо двум японцам».
Февральская революция 1917 года избавила Хлебникова от армейской лямки (from active service). В то время он проходил службу в Саратове. К середине апреля он получил отпуск и, опять-таки в Харькове, вместе с Петниковым написал «Воззвание Председателей Земного Шара» — манифест в футуристическом стиле с анархистскими нотками (with anarchist overtones), где славилось будущее мировое правительство и проклиналась война.
Именно во время войны работа Хлебникова над числами постепенно переросла в идею Правительства времени. Провозглашённый кубофутуристами в конце 1915 года „королем времени”, Хлебников вместе со своим другом и последователем (with his friend and disciple) Григорием Петниковым основал «Общество 317». Планировалось, что это будет объединение 317 — ключевое число в тогдашних расчётах Хлебникова — передовых учёных, писателей и мыслителей из разных стран, которые сплотятся ради противостояния злу, творимому политическими государствами, этими правительствами пространства. Спустя несколько месяцев Хлебников и группа его друзей из 317 и марсиан была переименована отцом-основателем в Председателей Земного Шара, иначе говоря — изобретателей, которые выступают против приобретателей. Со времени февральской революции 1917 года воззвания, директивы и манифесты писались в руководящем ключе (were written in bureaucratic language) от имени Правительства Земного Шара.
Сумятица (the turmoil) революционной России, волнующая смесь детских шалостей и всеобщей непочтительности в сочетании с отрезвляющей неуверенностью в том, кто победит, с поразительной наглядностью переданы в очерке «Октябрь на Неве», свидетельских показаниях Хлебникова о большевистской революции в Петербурге и Москве:
Вырвались. Пушки молчат.
Мы бросились в голоде улиц, походя на детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звёзды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин кругом следа пуль и скрюченных, точно тела сгоревших на пожаре бабочек, осколков шрапнели.
68
В Петербурге ближайшими друзьями Хлебникова и Петникова были художники. Некоторое время поэты жили у Льва Бруни, чья квартира в здании Академии художеств была известным местом сбора авангардистов — главным образом, почитателей Хлебникова. „Хлебников — это ствол века, мы прорастаем на нём ветвями”, — писал о завсегдатаях “квартиры №5” критик Николай Пунин.69 Хлебников был воодушевлён происходящим вокруг, несмотря на все житейские трудности. В Москве бóльшую часть времени он проводил у художника Владимира Татлина. Революционные столкновения на улицах, казалось, предвещали огромные возможности для искусства, и они вдвоем предавались планам постановки пьес Хлебникова.70
Хлебников был воодушевлён происходящим вокруг, несмотря на все житейские трудности. В Москве бóльшую часть времени он проводил у художника Владимира Татлина. Революционные столкновения на улицах, казалось, предвещали огромные возможности для искусства, и они вдвоем предавались планам постановки пьес Хлебникова.70
В революции русские модернисты увидели возможность продвигать своё искусство, работая без указки свыше (create autonomously), но с одобрения и при поддержке правительства, дабы служить обществу, очевидным образом нуждающемуся в их творчестве (demonstrably in need of their help). От Совета рабочих и крестьян Хлебников с нетерпением ждал социальных изменений, которые казались возможными в России, и нашёл применение своим талантам: в годы гражданской войны работал корреспондентом большевистской газеты «Красный воин», органе Астраханского губкома.71 Вместе с отцом он участвовал в создании природного заповедника в дельте Волги и сотрудничал с Союзом изобретателей (the Technical Union) — объединением интересующихся научными идеями астраханцев.72
Вместе с отцом он участвовал в создании природного заповедника в дельте Волги и сотрудничал с Союзом изобретателей (the Technical Union) — объединением интересующихся научными идеями астраханцев.72
Зимой 1919 года в Харькове, когда город попеременно переходил в руки то Красной, то Белой армии, Хлебников избежал деникинского призыва, проведя четыре месяца в психиатрической больнице. Он пришёл туда сам, предъявив официальное направление на проверку его годности к несению военной службы. Психиатр, с нескрываемой симпатией (generally sympathetic) исследовав психическое состояние Хлебникова, пришёл к выводу:
‹...› наличие выдающихся задатков у талантливого Хлебникова ясно говорит о том, что защищать от него общество не приходится и, наоборот, своеобразие этой даровитой личности постулировало особый подход к нему со стороны коллектива, чтобы получить от него максимум пользы.
Вот почему в своём специальном заключении я не признал его годным к военной службе.
73 А.Я. Анфимов. В. Хлебников в 1919 году. К вопросу о психопатологии творчества
А.Я. Анфимов. В. Хлебников в 1919 году. К вопросу о психопатологии творчества
Но Хлебников — по всей видимости, из-за хаоса в городе — не спешил выписываться, и пробыл в больнице до февраля 1920 года. За это время он дважды перенёс тиф, свирепствовавший тогда, но — если не считать состояния ног, которые у него стали побаливать — казалось, вполне выздоровел. Хлебников окончательно покинул своё убежище, когда А.Н. Андриевский, военный следователь Ревтрибунала 14-й армии (a young instructor with the political section of the Red Army) и поклонник его творчества, предложил поэту переехать в коммуну, где жил сам (room in his communal lodgings).74
После выписки Хлебников напоминает москвичам об издании своего собрания сочинений, давно обещанного, но неоднократно откладываемого, и сообщает: начинаю снова работать, что долго был лишён возможности делать.75 Сергей Есенин опубликовал несколько стихотворений Хлебникова в сборнике «Харчевня зорь» («Dawnlight Diner»), а в голодном и истерзанном войной городе художник Василий Ермилов сумел напечатать пятьдесят экземпляров «Ладомира» — развёрнутого проекта страны будущего (a long evocation of the land of the future).76
Сергей Есенин опубликовал несколько стихотворений Хлебникова в сборнике «Харчевня зорь» («Dawnlight Diner»), а в голодном и истерзанном войной городе художник Василий Ермилов сумел напечатать пятьдесят экземпляров «Ладомира» — развёрнутого проекта страны будущего (a long evocation of the land of the future).76 Ермилов только что был назначен художественным руководителем местного Политпросвета (the local propaganda organization), но даже его возможности были ограничены:
Ермилов только что был назначен художественным руководителем местного Политпросвета (the local propaganda organization), но даже его возможности были ограничены:
Он сказал мне: „Я должен напечатать это, и тогда, как Антей в прикосновении к земле, я обновлю свои силы”. Я решил помочь ему в этом и предложил переписать текст собственноручно литографскими чернилами (он терпеть не мог переписывать), что он и сделал. Книга была напечатана с помощью моего брата, работавшего в то время в литографическом цехе Южной железной дороги.
77
На протяжении 1920 и 1921 годов Хлебников работал пропагандистом (as a civilian publicist) в армии и на флоте Южного фронта. Он был отчаянно беден, плохо питался и одевался, но казался довольным. В насмешливо-приподнятом настроении он даже поэтизировал ползавших по нему вшей (his body lice): Граждане и гражданки / Меня — государства.78 Сначала в Харькове, а затем в Баку он читал красноармейцам лекции о своём ви́дении будущего и временны́х циклах, за что получал продовольственный паёк и небольшое денежное вознаграждение. В Баку он вместе с двумя старыми друзьями, Кручёных и Городецким (которого знал по «Академии стиха»), сочинял подписи к агитационным плакатам для политотдела (for the cultural section) Волго-Каспийской флотилии. Жил Хлебников в общежитии для моряков по соседству с художником-графиком Мечиславом Доброковским, который эти плакаты писал. Именно здесь он сформулировал законы времени — фундаментальные алгоритмы, которые, по его мнению, управляют природными и историческими событиями. У меня есть уравнения для звёзд, уравнения голоса, уравнения мысли, уравнения рождения и смерти, — писал он сестре Вере. О преподавании на вечерних курсах для рабочих узнаём следующее: марксистам я сообщил, что я Маркс в квадрате, а тем, кто предпочитает Мухаммеда, я сообщил, что я продолжение проповеди Магомета, ставшего немым и заменившим слово числом.79
Сначала в Харькове, а затем в Баку он читал красноармейцам лекции о своём ви́дении будущего и временны́х циклах, за что получал продовольственный паёк и небольшое денежное вознаграждение. В Баку он вместе с двумя старыми друзьями, Кручёных и Городецким (которого знал по «Академии стиха»), сочинял подписи к агитационным плакатам для политотдела (for the cultural section) Волго-Каспийской флотилии. Жил Хлебников в общежитии для моряков по соседству с художником-графиком Мечиславом Доброковским, который эти плакаты писал. Именно здесь он сформулировал законы времени — фундаментальные алгоритмы, которые, по его мнению, управляют природными и историческими событиями. У меня есть уравнения для звёзд, уравнения голоса, уравнения мысли, уравнения рождения и смерти, — писал он сестре Вере. О преподавании на вечерних курсах для рабочих узнаём следующее: марксистам я сообщил, что я Маркс в квадрате, а тем, кто предпочитает Мухаммеда, я сообщил, что я продолжение проповеди Магомета, ставшего немым и заменившим слово числом.79
Именно в связи со своей пропагандистской деятельностью поэт неожиданно получил возможность отправиться в Персию в качестве политработника (as a lecturer and journalist) Красной Армии. В середине апреля 1921 года полный радостного возбуждения Хлебников отплыл в Энзели (ныне Бандар-е-Анзали, Иран). Он был в восторге от солнца, моря и от возможности наконец-то побывать на Востоке. Своей матери он послал листья хининового дерева, а сестре торжествующе написал: Знамя Председателей Земного Шара, всюду следующее за мной, развевается сейчас в Персии.80 Загорелый, одетый в персидские одежды, живя подаянием, он бродил от одного селения к другому (he explored coastal and inland villages). Гостя некоторое время у талышского хана (as tutor in the house of a Talysh khan), он влюбился в его юную дочь.81
Загорелый, одетый в персидские одежды, живя подаянием, он бродил от одного селения к другому (he explored coastal and inland villages). Гостя некоторое время у талышского хана (as tutor in the house of a Talysh khan), он влюбился в его юную дочь.81 В гарнизонном клубе в Реште он читал солдатам стихи и опубликовал многие из них в армейском еженедельнике «Красный Иран».82
В гарнизонном клубе в Реште он читал солдатам стихи и опубликовал многие из них в армейском еженедельнике «Красный Иран».82 Доброковский прибыл в Персию раньше Хлебникова и, как обычно, писал революционные плакаты и резал линогравюры (linoleum cuts) для «Красного Ирана». Длинноволосые и босые, друзья разгуливали по узким улочкам Решта. Местные жители принимали их за “божьих людей” и прозвали „русскими дервишами”:
Доброковский прибыл в Персию раньше Хлебникова и, как обычно, писал революционные плакаты и резал линогравюры (linoleum cuts) для «Красного Ирана». Длинноволосые и босые, друзья разгуливали по узким улочкам Решта. Местные жители принимали их за “божьих людей” и прозвали „русскими дервишами”:
Только с Доброковским он о чём-то говорил и часто ходил с ним по городу, вызывая у персов некое, почти религиозное уважение.
В одном стиле с ним был Доброковский, ходивший в какой-то цветастой кофте с махорками и такой же длинноволосый. Кофту Доброковский, кажется, взял из цирковой костюмерной, захваченной моряками-балтийцами с несколькими тысячами белогвардейских чемоданов.
83 А. Костерин. “Русские дервиши”
А. Костерин. “Русские дервиши”
Бóльшую часть дня они проводили полулежа в какой-нибудь чайхане (in cafes), попивая чай и куря терьяк (the opium-based teriak). Хлебников сочинял стихи, а Доброковский, быстро освоивший местный диалект, рисовал портреты, рассуждал о политике и славил революцию: „Долой англичан! Землю крестьянам! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует дружба с Советской Россией!” Доброхотные даяния (spontaneous contributions) слушателей вполне обеспечивали “русских дервишей” едой, питьём и куревом.
Осенью Хлебников вместе с армией вернулся в Россию и несколько месяцев провёл в Пятигорске на Кавказе. Увядание природы гор стало для него потрясением:
Дерево горело лучиной в воздухе золотом,
Гнётся и клонится.
Осени огниво гневно —
Высекло золотые дни. ‹...›
Ветер осени золотой
Развеял меня.84
Здесь он столкнулся лицом к лицу со страшным голодом, следствием гражданской войны. Особенно сочувствовал Хлебников детям, многим из которых пытался помочь. Цикл стихов «Голод» — горестное и, как ни странно, приподнято-деловитое описание (painful and ironic witness) того, как дети становятся кормильцами своих близких, добывая лесную живность, к которой поэт тоже испытывает родственное чувство (also felt a kinship).
Дети, разведчики леса,
Бродят по рощам,
Жарят в костре белых червей,
Заячью капусту и гусениц жирных
Или больших пауков, они слаще ореха.
Ловят кротов и ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,
Хлебцы пекут из лебеды.
За мотыльками от голода,
Глянь-ка, бегают.
Полный набрали мешок.
Будет сегодня из бабочек борщ
— Мамка сварит.85
В разгар этих чудовищных лишений Хлебникова посещали пророческие видения грядущих технологических прорывов. В Пятигорске он написал очерк «Радио будущего», предсказывая концерты
от Владивостока до Балтики по радио и художественные выставки
цветными тенями на экранах. По вполне понятным причинам наиболее оптимистично он высказался еде:
И вот научились передавать вкусовые ощущения ‹...›
Сыт‹н›
ый и простой обед оденет личину роскошного пира.
86
В последний раз Хлебников приехал в Москву в конце декабря 1921 года. Он отсутствовал больше двух с половиной лет, и ему понадобился месяц на поездку в больничном вагоне по перегруженной, действующей без расписания железной дороге, чтобы преодолеть 2500 миль от Пятигорска. В холодном и разорённом городе, страдающем от катастрофического падения курса бумажных денег и постоянной нехватки продовольствия (enormous inflation and persistent food shortages), поэт нашёл многих своих старых друзей, в том числе Каменского, Кручёных и Маяковского, которые помогли ему с едой и одеждой. Возвратный сыпной тиф подорвал его здоровье:
В ту пору он совсем не был похож на прежнего Хлебникова, участника литературных восстаний. Он был согбен, лицо его утопало в большой запущенной бороде.
87
Поначалу он остановился у Маяковского и Бриков в Водопьяном переулке (Vodopiany Street).
88
„Приехал Витя Хлебников: в одной рубашке! — писал Маяковский Лиле Брик. — Одели его и обули. У него длинная борода — хороший вид, только чересчур интеллигентный”.
89
«Союз поэтов» время от времени предоставлял бесплатные обеды в кафе «Домино».
90
Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Хлебников много работал. К февралю он закончил отделку стихотворной драмы «Зангези» и стихотворения «Море» (drafted the prose piece «At the Sea»), написал несколько стихотворных и прозаических отрывков о Стеньке Разине. В ответ на запрос журнала «Маковец» он дал в него стихи о недавнем пребывании в Персии и на Кавказе.91 Казалось, Хлебников был даже готов с головой окунуться в общественную жизнь, появляясь на публичных и частных собраниях „бледный и измождённый ‹...› в солдатской шинели, в персидской барашковой шапке и тяжёлых солдатских ботинках. Его громоздкий портфель был набит рукописями”.92
Казалось, Хлебников был даже готов с головой окунуться в общественную жизнь, появляясь на публичных и частных собраниях „бледный и измождённый ‹...› в солдатской шинели, в персидской барашковой шапке и тяжёлых солдатских ботинках. Его громоздкий портфель был набит рукописями”.92 Поэт часто бывал в приподнятом настроении:
Поэт часто бывал в приподнятом настроении:
Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачёвском тулупчике
Я иду по Москве!93
В то время одной из важнейших задач для Хлебникова была подготовка к печати «Досок судьбы» — работы, которая, как он надеялся, увенчает его метод математических изысканий, отточенный до совершенства годом ранее. Вернувшись в Москву, он страстно мечтал обнародовать своё открытие. Я надеюсь отпечатать закон времени, и тогда я буду свободен, — писал он своему восторженному адепту, художнику Петру Митуричу.94 В разорённой Москве поэт постоянно нуждался в пище и ночлеге. После Водопьяного переулка он сменил несколько временных пристанищ, которые находили ему друзья; как это часто бывало и раньше, существеннее прочих помогали художники. Николай Барютин из «Маковца» вспоминает свою встречу с Хлебниковым и студентом ВХУТЕМАС (art student) Фёдором Богородским хмурым днём на Арбате:
В разорённой Москве поэт постоянно нуждался в пище и ночлеге. После Водопьяного переулка он сменил несколько временных пристанищ, которые находили ему друзья; как это часто бывало и раньше, существеннее прочих помогали художники. Николай Барютин из «Маковца» вспоминает свою встречу с Хлебниковым и студентом ВХУТЕМАС (art student) Фёдором Богородским хмурым днём на Арбате:
Богородский устраивал Хлебникова на ночлег, ведя его в комнату своего приятеля, уехавшего из Москвы.
Заходим в дом. Идём по длинному коридору в когда-то просторной и уютной, а теперь забитой бытовым хламом квартире.
— Здесь печурка есть, — говорит Богородский, входя в тёмную комнату и зажигая спичку. — Приступим.
Через несколько минут в печурке весело играет огонь.
— Ну, Велимир, вот ты и дома. Разувайся, раздевайся, обмотки (leggings) просуши, — успокаивающе говорит Богородский. — Приляг, отдохни, хозяина нет, здесь никто тебя не побеспокоит. Единственный недостаток: нет ночного колпака.
Хлебников тихо радуется возможности переночевать. Он стаскивает свои насквозь промокшие ботинки.
95
В конце концов Хлебников нашёл относительно постоянный угол в комнате студенческого общежития ВХУТЕМАСа, прежнего Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где десять лет назад учились Бурлюк и Маяковский. О пребывании здесь Хлебникова вспоминает художник Александр Лабас:
Алексей Кручёных был частым посетителем общежития ВХУТЕМАСа на Мясницкой улице, 21. Как-то с ним пришёл к нам Велемир Хлебников. Мы его давно знали и читали стихи Хлебникова, у меня была его книга «Доски судьбы». С. Телингатер — тогда студент — жил тоже в нашей квартире и знал Хлебникова по Баку — откуда оба они приехали в Москву. Я помню, несколько раньше Кручёных рассказывал, что Хлебников жил некоторое время у Маяковского. Вскоре Хлебников поселился в нашей квартире в первой комнате налево, где жили Телингатер, Плаксин и Томас. Все к Хлебникову тепло отнеслись и были рады ему. Когда я заходил в эту комнату к моим товарищам, я встречал Хлебникова, он часто сидел около кровати, на которой лежали тетради. Мне запомнилось первое впечатление от него: прежде всего, огромные серые с голубизной глаза, странное отчуждённое продолговатое лицо — весь он напоминал одинокий утёс
.96 А. Лабас. Размышления и воспоминания. Страницы из дневников
А. Лабас. Размышления и воспоминания. Страницы из дневников
Несмотря на трудности с жильём и болезни, которые к весне, по-видимому, обострились, Хлебникову удалось опубликовать первый раздел «Досок судьбы» и подготовить к печати ещё два. В один из весенних дней Барютин в поисках материала для второго номера «Маковца» застал его за работой с юношей, проверявшим математические расчёты поэта:
Закончив расчёты, он предложил нам выехать за город. Апрель был солнечным. Хлебников обрадовался и стал собирать вещи.
— Мы можем доехать отсюда на трамвае до Ярославского вокзала. Затем поездом на Лосиноостровскую или Перловку... Мы выйдем в поля, где окоём распахнут во всю ширь.
— Замечательно! — воскликнул юноша, его глаза сияли предвкушением.
— Ты поедешь с нами? — возбуждённо спросил меня Хлебников.
Я решил остаться. Хлебников вспоминает, что я живу в келье Симонова монастыря, где он никогда не был. Он собирается навестить меня в ближайшее время. Завтра же! Я прощаюсь. Мы вместе идём к двери.
Но... У Хлебникова, как всегда, нет денег. Его спутник судорожно роется в бумажнике. На один билет хватит, но вот на два... Грустно смотрит то на Хлебникова, то на меня. Я смущённо шлепаю по пустым карманам.
Хлебников очень расстроен сорвавшейся поездкой; он помрачнел и ушёл в себя.
97
Но другая поездка обещала быть успешной: он решил навестить родителей в Астрахани. Однако перед тем, как отправиться на юг, Хлебников поддался на уговоры своего друга Петра Митурича отдохнуть несколько недель в селе Санталово под Новгородом, где жена Митурича преподавала в школе. Хлебников и Митурич выехали из Москвы 12 мая и прибыли на место через три дня нелёгкого пути. Вскоре Хлебников слёг: отнялись ноги. В начале июня Митурич привёз его в больницу соседнего городка, но тамошние врачи ничем помочь уже не могли: гангрена обеих ног. Через три недели, уверенный в близкой смерти, поэт вернулся к Митуричам; они поселили его в баньке. Там он и умер пять дней спустя, 28 июня 1922 года.98
29-го его похоронили на уголке кладбища в Ручьях. Священник было не пускал в ограду кладбища, так как мы устраивали гражданские похороны. Но так как тут нет другого кладбища, то исполком распорядился пустить в ограду, и ему отвели место в самом заду, со старообрядцами “верующими”.
На крышке гроба изображён голубой земной шар и надпись: „Председатель Земного Шара Велемир 1-ый”.
Положили гроб в яму, и, закурив “трубку мира”, я рассказал мужикам про друга Велимира, Гайавату, который также заботился о всех людях полсвета, а Велемир о всём свете, в этом разница.
И зарыли, а на сосне рядом, в головах, написали имя и дату.
99 П.В. Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым
П.В. Митурич. Моё знакомство с Велимиром Хлебниковым
Хлебникову было всего тридцать шесть лет. «Зангези», поэтический итог дела его жизни, был напечатан в Москве всего за несколько дней до этого.
————————
ПримечанияПринятые сокращения:
СП: Собрание произведений Велимира Хлебникова / под общей редакцией Ю. Тынянова и Н. Степанова. Т. I–V. Изд-во писателей в Ленинграде. 1928–1933:
• Том I: Поэмы / Редакция текста Н. Степанова. 1928. — 325, [2] с., 2 вклад. л. : портр., факс.;
• Том II: Творения 1906–1916 / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 327 с., 1 л. фронт. (портр.);
• Том III: Стихотворения 1917–1922 / Редакция текста Н. Степанова. 1931. — 391 с.;
• Том IV: Проза и драматические произведения / Редакция текста Н. Степанова. 1930. — 343 с., 1 л. портр.;
• Том V: Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / Редакция текста Н. Степанова. 1933. — 375 с. : фронт. (портр.).;
НП:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения / ред. и комм. Н. Харджиева и Т. Грица.
М.: Художественная литература. 1940.
 1
1 Хлебников родился на территории нынешнего села Малые Дербеты Калмыцкой Автономной Республики, примерно в 50 милях к юго-востоку от Царицына (Волгограда).
 2
2 Е.Н. Хлебникова была связной заключённого в Петропавловскую крепость Александра Михайлова, её двоюродного брата, и Веры Фигнер, известных членов террористической организации «Народная воля» (Verbitskaia knew Vera Figner and was especially close to her first cousin, Alexander Mikhailov, both well-known members of the Populist terrorist organization). См. письмо Михайлова к ней 1882 г.:
А.П. Прибылева-Корба, В.Н. Фигнер. Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов.
Л. 1925. С. 186–188.
 3
3 Из «О сад...», посланного Вячеславу Иванову в письме от 10 июня 1909 г.
 4
4 Из неопубликованных воспоминаний матери, Е.Н. Хлебниковой (1923).
 5 Велимир Хлебников
5 Велимир Хлебников. Коля был красивый мальчик... (1912–1913).
 6
6 Многие ранние рисунки и картины Хлебникова хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве.
 7
7 См., например:
А.В. Васильев. Николай Иванович Лобачевский.
Казань. 1894; Николай Иванович Лобачевский.
СПб. 1914. Посвящённая 100-летию Лобачевского (1893) книга Васильева издана на английском языке: Nicolai Ivanovich Lobachevsky / trans. George Bruce Halsted.
Austin, Texas. 1894.
 8
8 Хлебников выступил с отчётом о поездке в Обществе естествоиспытателей при Казанском университете 3 декабря 1906 г., см.:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Русская литература №9 (1975). С. 9. Коллекция птиц Владимира в итоге была передана Астраханскому краеведческому музею, см.:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // День поэзии.
М., 1975. С. 203.
 9
9 Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе // Природа и охота, №12.
М. 1911.
 10
10 О нахождении кукушки, близкой к Cuculus Intermedius Vahl., в Казанском у. Каз. губ. // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском ун-те (1906–1907). Приложение №240.
Казань. 1908.
 11
11 «Птичка в клетке», см.:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // День поэзии.
М., 1975. С. 203.
 12
12 Воспоминания Б.П. Денике, цит. по:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Русская литература №9 (1975). С. 7.
 13
13 Среди прочих лекционных курсов курсов Хлебников был слушателем знаменитого пушкинского семинара С.А. Венгерова — опыт, который отразился в его творчестве. См.:
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978. С. 232.
 14
14 «Вечер» №133, 16 (29) октября 1908 г. Переиздано под именем Хлебникова в кубофутуристическом сборнике «Ряв! Перчатки».
СПб. 1913. С. 3.
 15
15 Есть основания предполагать, что и сам Хлебников принадлежал к этим кругам, см.:
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978.
 16
16 См. статью Льва Толстого «Об аннексии Боснии и Герцеговины Австрией» в нескольких номерах газеты «Голос Москвы» (4–7 декабря 1908 г.), цит. в:
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978. С. 223.
 17
17 Жена его дяди по материнской линии, Мария Константиновна Тимофеева, несколько лет провела в Черногории в качестве воспитательницы дочери князя Николая Негоша. См.:
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978. С. 228;
Парнис А.Е. Неизвестный рассказ В. Хлебникова // Russian Literature Triquarterly, 13 (Fall 1975), 47
2n7.
 18
18 Письма от 28 декабря 1909 г., 30 декабря 1909 г. и 1 февраля 1910 г. Хлебников пользовался многими псевдонимами, но закрепился и стал его именем Велимир. Выбор имени, заурядного для Болгарии и Югославии, был несомненно связан с панславизмом Хлебникова; этимология “великий мир” и “повелитель мира” не могла ему не импонировать. Вероятно, имя привлекло внимание Хлебникова, когда неизвестный поэт использовал его в той же самой «Весне», где Хлебников литературно дебютировал. См.:
А.Е. Парнис. Памятные книжные даты.
М. 1985. С. 166.
 19
19 Письмо от 3 декабря 1903 г.
 20
20 Письмо от (?) 1904 г.
 21 Парнис А.Е
21 Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978. С. 225.
 22
22 Письма от 13 октября 1908 г. и 16 октября 1909 г.
 23
23 Василий Каменский был писателем, художником и лётчиком. Свою литературную деятельность он начал в семнадцать лет очерком о социальных проблемах Перми в местной газете. В 1906 году переехал в Петербург. Был плодовитым автором и мемуаристом; в числе его работ футуристического периода — роман «Землянка» и „железобетонная поэма” «Танго с коровами». В качестве редактора «Весны», отличился изданием прозаического отрывка «Искушение грешника» Хлебникова (октябрь 1908). К январю 1909 работал в недолговечном литературном журнале «Луч света», где Хлебников предполагал издаваться.
 24 Каменский В.В
24 Каменский В.В. Путь энтузиаста.
М. 1931. С. 92–93, 95.
воспроизведено на www.ka2.ru 25 В. Хлебников
25 В. Хлебников. Искушение грешника // Весна, октябрь 1908 г. С. 2.
 26
26 Михаил Алексеевич Кузмин, талантливый романист и поэт. Ко времени приезда Хлебникова широкую известность получили роман «Крылья» (1906), цикл «Александрийские песни» (1907) и сборник стихов «Сети» (1908). Кузмин было особенно благосклонен к Хлебникову в первое время знакомства.
 27
27 Письма от 25 октября 1909 г. и 13 ноября 1909 г.
 28
28 В это время Хлебников сочинил по крайней мере ещё одно стихотворение в прозе, используя поэтические приёмы Уитмена. До недавнего времени оно не публиковалось: «Я переплыл залив Судака...» (цит.:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // Русская литература №9 (1975). С. 12–13).
 29
29 Каменский только что вернулся из родной Перми. В августе прошлого года он женился там на Августе Викторовне Юговой, вдове с двумя маленькими детьми.
 30
30 Творчество, №1 (1920). С. 13. Вариант: „‹...› Через несколько дней я отправился за Хлебниковым в Волкову деревню, где он жил у купца “за уроки”. Он не мог сразу решиться на переезд, но я заявил хозяйке, что забираю студента к себе на Каменноостровский. Быстро собрали вещи: чемоданчик и мешок, который Хлебников вытащил из-под кровати. Это была наволочка, набитая бумажками и тетрадями. „Рукописи”, — пробормотал Хлебников. Когда мы уходили, я увидел на полу у двери бумажку и поднял её. На ней было: «О рассмейтесь, смехачи...» Рукопись была оттиснута в «Студии импрессионистов», изданной Н. Бутковской, под редакцией Н.И. Кульбина”.
 31
31 СП II: 35.
 32
32 Группа не называла себя кубофутуристами до 1913 года; прежние названия — гилейцы, футуриане, футуристы. В интересах упрощения терминологии я везде использую термин “кубофутурист”.
 33 Каменский В.В
33 Каменский В.В. Путь энтузиаста.
М. 1931. С. 114–115.
 34
34 «Садок судей» был издан Матюшиным тиражом в триста экземпляров.
 35
35 Аполлон, №5 (1911). С. 76–78.
 36
36 Сестре Хлебников написал:
Вера! я, может быть, напечатаю два твоих рисунка (избушку) вместе со своими вещами.
Как художественные дела? Не встречалась ли ты с моими знакомыми?
Хотел бы посмотреть твои рисунки, но далеко.
Я работаю над числами. Меня снова задерживают.
Книжка, если выйдет, то будет озаглавлена «Чёрный холм».
Печатаю «Девий бог», «Аспарух», «Смерть Паливоды», «Велик-день». ‹...›
Население наших сарайчиков всёе уменьшается,
некоторые из них едут в зажаренном виде к вам. Всем поклон. 37
37 Общий обзор кубофутуризма 1913 года см.:
Vladimir Markov. Russian Futurism.
Berkeley. 1968.
воспроизведено на www.ka2.ru 38
38 Алексей Кручёных, график из Херсонской губернии, был приятелем Бурлюков. Он побывал в Москве в 1907 году и поселился там зимой 1910-го. В начале 1912 года оставил живопись ради поэзии.
 39
39 Неопубликованные воспоминания Кручёных, цитируемые Харджиевым (НП: 438).
 40
40 «Мирсконца» (1912), «Слово как таковое» (1913), «Бух лесиный» (1913), «Старинная любовь. Бух лесиный» (1914), «Тэ-ли-ле» (1914).
 41
41 Письмо Александра Хлебникова из собрания Митурича, штемпель от 21 марта 1912 года: „Витя уезжает к Бурлюкам в Чернянку”.
 42
42 Письмо из собрания Gabriele Münter-Johannes Eichner Stiftung, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich. Я благодарна Роуз-Кэрол Вашингтон Лонг и Армин Цвайт за копию письма.
 43 Бурлюк Д
43 Бурлюк Д. Три главы. С. 15. См. также письмо от 23 апреля 1912 г. Издание брошюры Хлебников оценивает в пятнадцать рублей, Бурлюк говорит о двадцати. «Учитель и ученик» вышел в Херсоне с рисунком Владимира Бурлюка на обложке.
 44
44 Письмо от 5 июня 1912 г.
 45
45 «Разговор двух особ» был опубликован только в следующем марте «Союзом молодёжи».
 46
46 Первая книга стихов Кручёных «Старинная любовь» с иллюстрациями Михаила Ларионова вышла приблизительно в то же время, что и «Игра в аду». Георгий Кузьмин был лётчиком, и летом 1912 года сдружился с Маяковским, живя по соседству. С осени того же года по начало 1914 года он и композитор Сергей Д. Долинский спонсировали ещё пять изданий Кручёных и два альманаха: «Пощёчина общественному вкусу». (январь 1913) и «Требник троих» (апрель 1913). Второе издание «Игры в аду» с иллюстрациями Ольги Розановой и Казимира Малевича вышло их иждивением в конце 1913 года.
 47
47 Письмо от 5 июня 1912 г.
 48 Бурлюк Д
48 Бурлюк Д. Три главы. С. 17. Ныне улица Юлиуса Фучика.
 49
49 Письмо от 5 октября 1912 г.
 50
50 Письмо от 13 декабря 1912 г. О дате выхода «Пощёчины» см.:
Николай Харджиев. Поэзия и живопись // К истории русского авангарда.
Stockholm. 1976. P. 16.
 51
51 Возможно, именно об этом сообщает Хлебников в письме от 13 декабря 1912 года к своему двоюродному брату Борису:
Устраиваюсь на работу в журнал за 40–50 рублей. «Славянин» начал выходить два раза в неделю с февраля 1913 г. как „орган духовного, политического и экономического сближения славян”; он просуществовал полгода. См.:
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова // Зарубежные славяне и русская культура.
Л. 1978. С. 229–230.
 52
52 «Западный друг». Известно подобное предложение Лейбница. «Кто такие угророссы?» и «О расширении пределов русской словесности» изданы «Славянином» в период с марта по июль 1913 г.
 53
53 О восточных мистических концепциях, связанных с теорией кубофутуризма и сектантской сути зауми Кручёных, см.:
Charlotte Douglas. Beyond Reason: Malevich, Matiushin, and Their Circles // The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890–1985.
New York. 1986. P. 184–199.
 54
54 Цит. по:
Е.Ф. Ковтун. Елена Гуро, поэт и художник // Памятники культуры: новые открытия. Ежегодник.
1976.
М. 1977. С. 321.
 55
55 Письмо от 18 июня 1913 г.
 56
56 Письмо от (?) июля 1913 г.
 57
57 Бурлюк выступил в Тенишевском училище (Петербург) 3 ноября и в Политехническом музее (Москва) 1 ноября 1913 года. Хлебников принимал участие в лекциях и чтениях в Женском медицинском институте вместе с Северяниным 2 ноября 1913 года («Колокол», №2260 (5 ноября 1913). С. 3.
 58
58 Подробнее см.:
Charlotte Douglas. Birth of a ‘Royal Infant’: Malevich and ‘Victory over the Sun’ // Art in America, March-April 1974. P. 30–41.
 59
59 Маринетти прибыл в Россию 26 января (8 февраля) и уехал 17 февраля (2 марта) 1914 года.
 60
60 Привожу текст листовки:
Сегодня иные туземцы и итальянскiй поселокъ на Неве изъ личныхъ соображенiй
припадаютъ къ ногамъ Маринетти, предавая первый шагъ русскаго искусства по пути свободы и чести,
и склоняютъ благородную выю Азiи подъ ярмо Европы.
Люди, не желающiе хомута на шее, будутъ, какъ и въ позорные дни Верхарна и Макса Линдера,
спокойными созерцателями темного подвига.
Люди воли остались въ сторонѣ . Они помнятъ законъ гостепрiимства, но лукъ ихъ натянуть,
а чело гневается.
Чужеземецъ, помни страну, куда ты пришелъ!
Кружева холопства на баранахъ гостепрiимства.
В. Хлебниковъ.
Б. Лившицъ.  61 Н.И. Харджиев
61 Н.И. Харджиев. “Весёлый год” Маяковского // Vladimir Majakovskij: Memoirs and Essays / ed. Bengt Jangfeldt and Nils Åke Nilsson.
Stockholm. 1975. P. 131.
воспроизведено на www.ka2.ru 62
62 Письма Николаю Д. Бурлюку (СПб., 2 февраля 1914 г.) и Филиппо Т. Маринетти (СПб., 2 февраля 1914 г.).
 63
63 Подробнее о приёме Маринетти в России см.:
Н.И. Харджиев. “Весёлый год” Маяковского // Vladimir Majakovskij: Memoirs and Essays / ed. Bengt Jangfeldt and Nils Åke Nilsson.
Stockholm. 1975. P. 108–151;
Bengt Jangfeldt. Šersenevič, Kul’bin and Marinetti // We and They: National Identity as a Theme in Slavic Cultures.
Copenhagen. 1984. P. 158–165;
Charlotte Douglas. The New Russian Art and Italian Futurism // Art Journal, Spring 1975. P. 229–239.
 64
64 Среди новых друзей Хлебникова были дочери барона и баронессы Будбергов Ирина и Вера, популярный писатель Борис Лазаревский и его дочь Вера, драматург Николай Евреинов, редактор альманаха «Стрелец» А.Е. Беленсон, художники Иван Пуни и его жена Ксения Богуславская.
 65
65 СП IV: 50–51.
 66
66 Письмо от (? апреля-мая) 1916 г.
 67
67 Красная Поляна, усадьба Синяковых, находилась под Харьковом. Одна из сестёр, Оксана, вышла замуж за Асеева.
 68
68 СП IV: 112.
 69
69 В своих неопубликованных мемуарах Пунин говорит об особом отношении к творчеству Хлебникова у него, Бруни и Петра Митурича, жильцов этой квартиры в 1916 г. См. также письмо Петникова к А.Е. Парнису, цит. в:
А. Парнис. В. Хлебников — Сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 108. В декабре Пунин обратился к Анатолию Луначарскому, главе ленинского Наркомпроса, за разрешением поставить «Ошибку Смерти», но идея не получила развития. См.:
Пунин Н. В дни Красного Октября // Жизнь искусства, №816 (1921). С. 1.
 70
70 Хлебников и Татлин планировали поставить «Ошибку Смерти», «Госпожу Ленин» и «13 в воздухе» (НП: 413).
 71
71 Газета «Красный воин» первоначально была органом Астраханского Военного Совета и губернского военного комиссариата, впоследствии редакция перешла в подчинение политотдела 11-й армии. См.:
А. Парнис. В. Хлебников — Сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 105.
 72
72 О Союзе изобретателей см.:
А. Парнис. В. Хлебников — Сотрудник «Красного воина» // Литературное обозрение, №2 (1980). С. 108.
 73 В.Я. Анфимов
73 В.Я. Анфимов. К вопросу о психопатологии творчества. В. Хлебников в 1919 году // Труды 3-й Краснодарской клинической городской больницы.
Краснодар. 1935. С. 71.
 74
74 О Хлебникове в Харькове см.:
Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s ‘I esli v «Khar'kovskie ptitsy»’: Manuscript Sources and Subtexts // Russian Review 42 (1983). P. 249–270.
 75
75 Письмо от 30 апреля 1920 г.
 76
76 Позже в Москве Есенин выпустил хлебниковскую «Ночь в окопе» отдельным изданием. См.:
А.Е. Парнис. Встреча поэтов // Литературная Россия, 12 декабря 1975 г. С. 16.
 77 А.Е. Парнис
77 А.Е. Парнис. 28 октября 1885 г. // Памятные книжные даты.
М. 1985. С. 168. См. также:
Зиновий Фогель. Василий Ермилов.
М. 1975.
 78 В. Хлебников
78 В. Хлебников. Я и Россия.
 79
79 Письмо от 2 января 1921 г.
 80
80 Письмо от 14 апреля 1921 г.
 81 Ronald Vroon
81 Ronald Vroon. Velimir Khlebnikov’s ‘Razin: Two Trinities’: A Reconstruction // Slavic Review 39/1 (March 1980). P. 81–82.
 82 Парнис А.Е
82 Парнис А.Е. Хлебников в революционном Гиляне // Народы Азии и Африки, №5 (1967). С. 157, 159.
 83 А. Костерин
83 А. Костерин. Русские дервиши // Москва, №9 (1966). С. 218.
 84
84 СП III: 186.
 85
85 СП III: 191.
 86
86 СП IV: 290–295.
 87
87 Воспоминания Николая Николаевича Барютина (Амфиана Решетова) «Мои встречи с Хлебниковым», ЦГАЛИ, ф. 2283, оп. 1, ед. хр. 6. Барютин был заведующим литературным отделом журнала «Маковец», выпустившего в 1922 году два номера. Во втором, печатавшемся во время смерти Хлебникова, было объявлено о публикации воспоминаний Решетова о Хлебникове. Рукопись «Мои встречи с Хлебниковым», вероятно, является черновиком этой статьи.
 88
88 Письмо от 14 января 1922 г. В 1972 г. переулок слился с площадью Тургенева.
 89
89 Цит. по: Письма к Л.Ю. Брик (1917–1930) // Литературное наследство, №65.
М. 1958. С. 126.
 90
90 Воспоминания Барютина, 1.5, 10.
 91
91 В первой номер «Маковца» Хлебников дал «Ночь в Персии» и «Сегодня Машук как борзая». Во втором (и последнем) номере опубликовано стихотворение «Как воды далеких озёр».
 92
92 Воспоминания Б.П. Денике, цит. по:
Николай Харджиев. Новое о Велимире Хлебникове // День поэзии.
М., 1975. С. 202.
 93
93 «Эй, молодички-купчики» напечатано в «Известиях» 5 марта 1922 года.
 94
94 Письмо от 14 марта 1922 г.
 95
95 Воспоминания Барютина, 1.11 об., 12.
 96 Лабас А
96 Лабас А. Размышления и воспоминания. Страницы из дневников //
Буторина Е.И. Александр Лабас.
М. 1979. С. 67.
 97
97 Воспоминания Барютина. 1.14, 14 об.
 98
98 Отчёт об этих последних днях взят из неопубликованной рукописи Василия А. Катаняна «О смерти Хлебникова». Медицинский диагноз последней болезни Хлебникова не поставлен. Биографические данные, составленные Е.Ф. Никитиной, свидетельствуют о том, что Хлебников умер от заражения крови (toxemia): ЦГАЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. 292. После госпитализации в Харькове в 1920 г. он, по-видимому, так и не смог полностью восстановить работоспособность ног.
 99
99 В письме Митурича Николаю Пунину (Антология современной русской поэзии «Голубая лагуна». Т. 2A / ред. Константин К. Кузьминский, Григорий Л. Ковалёв.
Newtonville, Mass. 1983. С. 42) Митурич везде использует написание Велемир.
Воспроизведено по:
Introduction // Collected Works of Velimir Khlebnikov. Volume I.
Letters and theoretical writings / translated by Paul Schmidt edited by Charlotte Douglas.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, and London, England. 1987. P. 3–33.
Перевод В. Молотилова
Изображение заимствовано:
Jonathan Baldock (b. 1980 in Pembury, UK. Lives and works in London).
Mother Flower. 2022.
Hessian, felt, ceramic stoneware, wadding, hollow fibre, wood, boning.
Flower: 260 × 255 × 58 cm.
Root length: 790 cm. Overall dimensions variable.
————————
 От переводчика
От переводчика
Высказывания, на мой взляд спорные или неточные, оставлены как есть и заключены в круглые скобки. Отрывок воспоминаний Н.Н. Барютина (Амфиана Решетова) о незадаче с выездом за город дан в обратном переводе, поскольку Н.И. Харджиев обнародовал более сжатый вариант:
Я познакомился с Хлебниковым в начале 1922 года, когда после персидской экспедиции и жизни на Кавказе он приехал в Москву.
Жизнь, полная лишений и невзгод, наложила на него заметный отпечаток. В ту пору он совсем не был похож на прежнего Хлебникова, участника литературных восстаний. Он был согбен, лицо его утопало в большой запущенной бороде. Житейские невзгоды продолжались в Москве с неослабевающей силой. Он переживал полосу одиночества и неудач, может быть, горчайших за всю его многострадальную жизнь. Ему не удавалось устроить издания своих произведений, что было главной причиной его приезда в Москву. В прежних друзьях своих, литературных единомышленниках, из которых многие занимали по тому времени прочное положение, он не находил должной поддержки и участия. Эту полосу жизни он провёл главным образом среди молодых художников.
Знакомство наше произошло в кафе поэтов «Домино», где молодые поэты ежедневно выступали перед жующими за столиками обладателями неведомых доходов. Хлебников получал там от Союза поэтов бесплатный обед.
Помню один из таких обедов. Хлебников сидел за столиком в углу, среди снующей и шумящей молодёжи. Никем не узнанный и не замеченный, он казался далёким от всего окружающего. Одет он был в пальто с оборванными пуговицами, похожее на халат. На голове — прикрывавшая лишь темя старая барашковая круглая шапочка. С равнодушием автомата он съел принесённый ему обед и молча удалился из кафе.
Первое моё свидание с ним после знакомства было в квартире Брик (в Водопьяном переулке), где Хлебников нашёл себе кратковременное пристанище. Я пришёл от имени «Маковца» просить его участия в журнале. Он встретил меня в просторной белой комнате с большим чёрным роялем. Вид у него был смущённый и рассеянный. Озираясь, он прислушивался к голосам, доносившимся из-за закрытых дверей. Разговор о поэзии, о журнале, долженствующем объединить все виды современного русского искусства, оживил его.
Я просил Хлебникова дать для журнала последнюю законченную работу. Он присаживается и пишет своим детским почерком, кривыми, сходящими вниз строчками две вещи: «Ночь в Персии» и «Сегодня Машук, как борзая...» (по его словам, это — последняя вещь, написанная им на Кавказе). Я прошу поставить дату. В разговор развязно вмешивается оказавшийся здесь Ф. Богородский:
— Как это надоело: даты и подписи. Ставьте вместо набившего всем оскомину 1921 года что-нибудь более интересное, например... — Богородский называет какое-то астрономическое число.
Хлебников колеблется.
— Ну, пометьте рукопись хоть 1925 годом, — не унимается Богородский.
— Правда? — робко соглашается Хлебников и выводит на рукописи 1925 г., затем подписывается: Волеполк Хлебников.
Я протестую против устаревших выходок футуристической практики, и Хлебников 1925 год переправляет на 1921.
Его приютили молодые художники в своём общежитии на Мясницкой. Помещение в полуподвальном этаже, состоявшее из нескольких небольших комнат, было неуютное, холодное и грязноватое. Кругом стояли кровати, на полу — немудрящий скарб. Штукатуренные стены были завешены этюдами.
Я застал Хлебникова сидящим на железной кровати, на которой ничего, кроме досок, не было. Поставленная перед кроватью табуретка служила ему столом. Он писал, склонившись над гроссбухом.
Я зашёл за материалами для второго номера «Маковца». Хлебников выволок из-под кровати мешок, набитый рукописями, и предложил выбрать. Я выбрал наудачу несколько разрозненных листков, лежащих сверху. Они были формата почтовой бумаги с оборванным левым краем. Всего было семь листов, исписанных с двух сторон, они содержали 278 стиховых строк.
Последняя моя встреча с Хлебниковым была месяца за два до его смерти.
Я застал у него какого-то юношу с большими детски-выразительными глазами. Юноша проверял его вычисления.
— Так... так... здесь всё верно. В одном месте вы допустили ошибку, Виктор Владимирович.
— Вы занимаетесь математикой? — спросил меня Хлебников.
И на мой отрицательный ответ возразил:
— Поэту надо заниматься математикой. Поэзия и математика — из одного истока.
Н.И. Харджиев Статьи о Хлебникове
За неимением источников, отрывок воспоминаний Е.Н. Хлебниковой, сообщение Василия Ермилова и выдержка из «Трёх глав» Давида Бурлюка тоже даны в обратном переводе.
Немаловажный, на мой взгляд, вклад составителей гарвардского сборника писем и статей Хлебникова в одноименную научную дисциплину — обнародование послания к Маринетти (побывавшего, кстати говоря, в России ещё и в составе союзных гитлеровцам итальянских войск. Есть сведения, что Маринетти умер от последствий полученного в Донских степях ранения). В редакционном примечании язык письма не указан; вероятно, за ненадобностью: французским Хлебников владел в достаточной, дабы изъясняться, степени (племянник поэта Май Митурич-Хлебников, вспоминает, что бабушка, Е.Н. Хлебникова, пыталась обучить его языку дворянского общения, отточенному до совершенства в Смольном институте благородных девиц, с упорством, достойным лучшего применения).
To Filippo Marinetti * Petersburg
February 2, 1914
You untalented loudmouth.
Your exchange in No. 13984, by the way, is a monologue from Griboedov („The French Fop from Bordeaux”). You came a little late to Russia, friend; you should have come in 1814. The man of the future, born a hundred years too late. There is more purpose to the mad rush of life than having a French Fop from Bordeaux hop from century to century. Therefore, to use the same language your bondslave Kulbin used, you are a coward and a villain. Thus does a Futurian honor the French Fop from Bordeaux. Farewell, you fruit.
I am convinced that we will meet one day to the sound of cannons, in a duel between the Italo-German coalition and the Slavs, on the Dalmatian coast. I suggest Dubrovnik as the place for our seconds to meet.
————————
* Part of a letter to Marinetti, probably written at the same time as the previous letter to Nikolai Burliuk. Another extant fragment by Khlebnikov on the same subject repeats the title of the Russian manifesto, A Slap in the Face of Public Taste: „Public taste nowadays wears a Gothic moustache. Marinetti! Show us your public taste, so I can give you a slap in the face of your public taste!”
Спорным представляется перевод прошальной фразы (Farewell, you fruit), см. письмо (разрядка моя. — В.М.):
Бездарный болтун!
В стороне скотский поступок врача Кульбина. Он, этот слабоумный безумец, этот верный Личарда, надеялся убеждённой бранью искреннего дурака запачкать чьё-то имя. Но так как в скотском поступке известного врача я услышал голос итальянца, управляющего петрушками, то я с некоторым отвращением к этому грязному делу возвращаю вам слова Кульбина: подлец, негодяй. Он ваш раин (славянин нашёл господина и кнут). Заступитесь же за своего слугу, как более сильный и более равный мне, и, неся ответственность за его поступки, вынесите тяжесть слов “негодяй”, “подлец” и пр. удар в лицо Маринетти, этого итальянского овоща.
Понимайте письмо как угодно, вкупе или порознь с тремя друзьями, но здесь Восток бросает вызов надменному Западу, с презрением шагая через тела падале‹доителей›.
Ваш итальянец Маринетти (беседа в 13984 «Биржевых ведомостей») удивляет своей приятной развязностью.
Нам незачем было прививаться извне, так как мы бросились в будущее от 1905 г. То, что Бурлюк, Кульбин не заметили этой лжи, указывает, что они рядились, а не были.
Между прочим, эта беседа №13984 — монолог из Грибоедова (французик из Бордо).
Вы, приятель, опоздали приехать в Россию, вам нужно было приехать в 1814 г. Сто лет ошибки в рождении человека будущего.
Бешеный бег жизни заключается не в том, чтобы французик из Бордо выскакивал каждое столетие.
Итак, прибегая к языку, к которому прибег ваш раин Кульбин, вы подлец и негодяй. Так чествует новейшего французика из Бордо Будетлянин. До свидания, овощ!
Я уверен, что некогда мы встретимся при пушечных выстрелах в поединке между итало-германским союзом и славянами на берег‹ах› Далмации. В Дубровнике я назначаю место встречи друзей.
P.S. Ввиду того, что ваш друг уклонился от ответственности за свои слова, я совершенно уверен в соответствующем поведении и с вашей стороны и никакими просьбами не решаюсь вас утруждать, считая исчерпанным происшедшее.
Трусость — народная черта итальянцев, искусных торгашей и учителей, обу‹чающих› м‹узыке›.
Письмо не будет тайна.
С членами «Гилеи» я отныне не имею ничего общего.
‹2 (15) февраля 1914›
Н.И. Харджиев полагал адресатом Николая Бурлюка, Р.В. Дуганов более осторожен, и это правильно. Вероятно, Хлебников изливает свой гнев на Бенедикта Лившица: тот помог отпечатать и лично раздавал по рядам листовки, а на другой день беседовал с Маринетти, как ни в чём не бывало (и это правильно). Вот извлечение из «Полутораглазого стрельца» (разрядка моя):
Не успел я распространить и десяток экземпляров, как ко мне подскочил Кульбин. С проворством, неожиданным в пожилом человеке, он выхватил у меня из рук всю пачку и, яростно разрывая на части свою добычу, кинулся догонять Хлебникова, орудовавшего уже в задних рядах. В первый раз в жизни я видел Кульбина остервенелым: он не помнил себя и одним своим взором, казалось, был способен испепелить меня и Хлебникова.
Что там произошло у них в другом конце зала, не знаю, но, когда Николай Иванович вернулся на эстраду, он производил впечатление человека, выпрыгнувшего из поезда на полном ходу. ‹...›
На другой день после первой лекции Маринетти мы собрались вечером у Кульбина, устроившего ужин в честь итальянского гостя. Нас было человек пятнадцать, но в беседе, завязавшейся за столом, приняли участие лишь те, кто
более или менее свободно владел французским языком. Хлебников демонстративно отсутствовал и, вероятно,
счёл меня предателем, хотя теоретически допускал существование „баранов гостеприимства, не украшенных кружевами холопства”. ‹...›
За ужином меня посадили рядом с Маринетти. Вино быстро развязало нам языки. Маринетти уже знал про вчерашнюю листовку, кто-то даже перевёл её ему, и он первый заговорил на эту тему:
— Вы правы в одном: кровь расы — не волос Магдалины... Через неё нелегко перешагнуть. Да и незачем! Но у нас с вами общий враг — пассеизм. Мы должны действовать сплочённо...
— Пассеизм в Италии и пассеизм русский — у нас этим термином можно пользоваться только условно — вещи глубоко различные... Гнёт прошлого, ваша главная трагедия, нам почти неизвестен: он ведь прямо пропорционален количеству национального гения, воплощённого в произведениях искусства. Ваши лозунги утрачивают у нас весь свой пафос. В России не было Микеланджело, а Опекушины, Антокольские, Трубецкие — кому они мешают? К тому же, разве это — русское искусство?
— А Пушкин?
— У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он — то же, что Пушкин для начала девятнадцатого века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого..
Я пробую, как умею, растолковать моему собеседнику, в чём заслуги Хлебникова перед русским языком и русской поэзией. Это получается у меня, должно быть, не слишком убедительно, потому что Маринетти вдруг заявляет:
— Нет, словотворчество ещё не всё... Вот мы — мы разрушили синтаксис!.. Мы употребляем глагол только в неопределённом наклонении, мы упразднили прилагательное, уничтожили знаки препинания...
— Ваше воительство носит поверхностный характер. Вы сражаетесь с отдельными частями речи и даже не пытаетесь проникнуть за плоскость этимологических категорий... Вы не хотите видеть в грамматическом предложении лишь внешнюю форму логического суждения. Все стрелы, которыми вы метите в традиционный синтаксис, летят мимо цели. Несмотря на вводимые вами новшества, связь логического субъекта с предикатом остается непоколебленной, ибо с точки зрения этой связи безразлично, какою частью речи выражены члены логического суждения.
— Вы отрицаете возможность разрушения синтаксиса?
— Ничуть не бывало. Мы только утверждаем, что теми средствами, какими вы, итальянские футуристы, ограничиваетесь, нельзя ничего добиться.
— Мы выдвинули учение о зауми как основе иррациональной поэзии, — поддерживает меня подсевший к нам Кульбин.
— Заумь? — не понимает Маринетти. — Что это такое?
Я объясняю.
— Да ведь это же мои „слова на свободе”! Вы знакомы с моим техническим манифестом литературы?
— Конечно. Но я нахожу, что вы противоречите самому себе.
— Чем? — загорается Маринетти.
— Собственным чтением!.. Какую цель преследуете вы аморфным нагромождением слов, которое вы называете „словами на свободе”? Максимальным беспорядком свести на нет посредствующую роль рассудка, не правда ли? Однако между типографским начертанием вашего «Цанг Тумб Тууум» и произнесением его вслух — целая пропасть. ‹...›
— Вы говорите только о живописи...
— Потому что она, так же как и скульптура, как и музыка, — международный язык искусства. Вы думаете, что в поэзии дело обстоит иначе? К сожалению, Хлебников для вас пустой звук: он совершенно непереводим в тех своих вещах, где с наибольшей силой сказалась его гениальность. Самые отважные дерзания Рембо — ребяческий лепет по сравнению с тем, что делает Хлебников, взрывая тысячелетние языковые напластования и бесстрашно погружаясь в артикуляционные бездны первозданного слова.
— Для чего нужна эта архаика? — пожимает плечами Маринетти. — Разве она способна выразить всю сложность современных темпов?
Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец
Итак, никакого письма к Маринетти не существует: узнав, что последний в умилении сердечном надписал Лившицу «Цанг Тумб Тууум», Хлебников в одном и том же послании обрушивается на обоих футуристов, отечественного разлива и заморского; при этом бездарным болтуном оказывается Лившиц (выше воспроизведено менее половины беседы, которую хозяин дома вынужден был прервать в принудительном порядке), а “заморский фрукт” — овощем.
Сам великолепный переводчик, Лившиц головой отвечает за слова о непереводимости наиболее сильных вещей Хлебникова, и ей-таки не катиться с плеч на гарвардский сборник: окажись Paul Schmidt русским Павлом, тем хуже для него (ино дело переводы Владимира Фёдоровича Маркова). Предлагаю догадаться с трёх раз, о чём это:
You hotshot young hustlers,
you air-brains, look out!
There’s a new man in Moscow
in an old country coat.
О пугачёвском тулупчике, да уж. Доброхотное даяние В. Маяковского, шуба с барского плеча. Или вот ещё: зверушки из прим. 78 (his body lice). Этих якобы граждан и гражданок Хлебников привёз в своей бороде столько, что посовестился обременять Водопьяный своим присутствием: как бы чего не вышло по возвращении хозяйки дома.
В 1922 году, в декабре месяце, после долгой разлуки я снова встречаю Велимира Хлебникова, которого потерял из виду с моими разъездами. Да и сам он эти годы был в отлучке. Велимир любил путешествовать, и только что вернулся из Персии. Привёз с собою — вернее, на себе — пёстрые, коврового рисунка штаны, сшитые из шерстяной ткани, которые ему кто-то подарил. Здесь его быстро одели друзья в светлый серовато-голубого цвета костюм, который по размеру был на два номера больше и поэтому висел на нём как на вешалке, но он, как мне казалось, чувствовал себя в этом костюме хорошо. ‹...›
И вот передо мной стоял похожий на Достоевского, с громадной бородой, но с теми же кроткими и небесно-ясными глазами Велимир. ‹...›
Итак, встретились мы на каком-то вечере во Вхутемасе. Он очень обрадовался, лицо засветилось ласковой улыбкой. Коротко рассказал о себе, о своих путешествиях, о жизни и событиях за эти годы. Прощаясь, сказал, что очень хочет повидаться со мной и поговорить, но не здесь, в шумно расходящейся толпе. Неловко и смущённо сунул мне на прощание руку и пошёл — чуть сутулый, большой, осторожный — своей мягкой походкой, словно боясь кого-нибудь толкнуть или обидеть. Он не ходил, а скорее скользил по земле, слегка её касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир. И тут же на вечере, я не помню кто, но кто-то из молодых поэтов, видя, что я разговаривал с Хлебниковым, подошёл ко мне и сказал, что трудно сейчас бедному Велимиру: живёт неустроенный, ночует в коридоре студенческого общежития Вхутемаса на Мясницкой улице, в доме, где жил и я. ‹...› Встретившись с Хлебниковым через несколько дней, я и предложил ему переехать ко мне. Он очень охотно и с большой радостью принял моё предложение и с поспешностью в тот же вечер перебрался в мою квартиру. У меня была комната с большим итальянским окном. Мебель не очень изысканная, но было всё, что необходимо, и ничего лишнего: столик, две табуретки, мольберт и соседское кресло, удобное для размышлений и отдыха, старенький диван, на котором спал я, и напротив поставили железную кровать с матрацем для Велимира. Единственное богатство моё составлял небольшой кавказский ковёр, полученный мною в наследство, которым я закрывал матрац на кровати, так как одеяла лишнего у меня не было, не было его и у Велимира. Так началась совместная наша трудовая жизнь. Главное, что обоим было и хорошо, и спокойно. Всё имущество Велимира составлял белый узелок, с которым подмышкой он и пришёл. С большой любовью и осторожностью он его развязал, вынул оттуда чернильницу, ручку и большую пачку неаккуратно, довольно беспорядочно сложенных листков бумаги, как чистых, так и испещренных мелким бисерным почерком в разных направлениях. Чернильницу и ручку он пристроил на табуретке, пододвинул её к своей кровати, а все листки бумаги с поспешностью были брошены под кровать, откуда они извлекались по мере надобности. Причём, как он в этом хаотичном хозяйстве разбирался и находил то, что ему было нужно, непонятно. Работал он быстро, стихийно и нервно, всегда как бы прислушиваясь к витающим вокруг него мыслям и словам. Каждое утро, напившись чаю, устраивались мы по своим углам, я пододвигал мольберт, а Велимир свой столик с бумагой и чернилами. ‹...› Велимир, как всегда, работал порывами: то быстро и мелко исписывал листик бумаги, то с такой же быстротой и уверенностью всё перечёркивал. Иногда сминал написанное и бросал под кровать. После этого молниеносно ложился, подтягивал к себе колени, натягивал шубу, которая лежала тут же, закрывался с головой и затихал, но ненадолго. Минут через 10–15 шуба откидывалась в сторону, он энергично бросался под кровать, и тут начинались поиски. Из-под кровати летели во все стороны исписанные листочки, покрывая, как снег, весь пол. То вдруг он замирал, стоя на коленях или сидя на полу, и внимательно вглядывался в найденную бумажечку. То снова бросал её в сторону и продолжал искать ещё и ещё, пока наконец не находил нужное, мучившее его. Тогда поспешно вставал, и с ожесточением всё остальное запинывал ногой под кровать. А найденный им листочек бережно расправлял и укладывал перед собой на столике, причём на лице появлялась блаженная улыбка, и по улыбке всегда было видно, что он нашёл нужное. ‹...› Бывало и так: в любой час, среди ночи он так же стремительно соскакивал, словно боясь потерять пойманное слово. Хватался за ручку и замирал над столом с бумагой. Просиживал он, погружённый в свои мысли 15–20 минут, вновь исчезал под шубой с головой и затихал. ‹...› Часто к нам прилетали воробьи или синички и садились на оконную раму. Это всегда приводило Велимира в неописуемый восторг. Большие голубые, ликующие от счастья глаза с детской восторженностью и любовью смотрели на птиц, и невольно вырывались у него какие-то неповторимые звуки радости и счастья. ‹...› Днём мы говорили мало, стараясь не мешать друг другу работать. Вечера часто проводили вместе у кого-нибудь из друзей Велимира — хороших, простых и милых людей, любящих искусство. В гостях Велимира почти всегда просили читать свои стихи, и он никогда не отказывался. Читал он своеобразно: скороговоркой, негромко, как бы выстреливая фразами, застенчиво улыбаясь, словно конфузился своего собственного голоса. Часто бывали мы в начале Большой Бронной улицы на втором этаже у Куфтиных, где встречали нас радушно муж с женой в небольшой комнатке, единственным украшением которой была висевшая на стене громадная икона, приписываемая школе Рублева. Были как-то в Замоскворечье у знакомой актрисы Велимира, где и ночевали из-за позднего времени. Сама она читала стихи, молодая, грациозная, вдохновенная. Женское общество Велимир очень любил, но и страшно смущался.
Были и у Бриков в Водопьяном переулке, это рядом с нами, где встречались и с Маяковским, но чаще он один уходил туда на час-два после обеда, как сам он говорил: „Пойду к Володичке”, — и не всегда возвращался оттуда весёлым. ‹...› Вспоминаю, как он однажды таинственно вытащил из внутреннего правого кармана пиджака какую-то бумагу, бережно сложенную, и с сияющим лицом показал мне. Это было удостоверение личности, выданное за подписью наркома просвещения А. Луначарского, с просьбой всем оказывать помощь и содействие поэту В. Хлебникову. Это был единственный документ Велимира, который он бережно хранил. Так жили мы дружно и мирно, а нарушала иногда наш покой его лихорадка, страшная тропическая лихорадка, которую он привёз из Персии. Тогда он наваливал на себя всё, что возможно, но его так трясло, что кровать под ним начинала двигаться. Приступы бывали редко, но сил у него забирали много. ‹...›
С Митуричем я был знаком и встречался раньше в декоративной мастерской ПУОРа на Остоженке, где мы работали, а я, не имея жилплощади, даже жил на верхнем этаже этой мастерской, но, правда, недолго. Вот так неожиданно во второй раз меня судьба свела с Митуричем. Он, как хорошая нянька, со вниманием и лаской относился к Хлебникову.
Так дожили мы до весны, и к концу своей жизни у меня он начал жаловаться на здоровье. Дважды навещала его какая-то незнакомка в чёрном. В один из приездов Митурич сказал мне: „Я его возьму лучше к себе за город, там хороший воздух и покой. Он окрепнет и поправиться”. Но поправиться Хлебникову не удалось. Он умер на даче у Митурича через полтора месяца с большой скромностью и невероятным мужеством, перенося все трудности своей болезни и смерти.
Евгений Спасский. Встречи с будетлянами и жизнь с Велимиром Хлебниковым
Воспоминания Александра Лабаса, Амфиана Решетова и Евгения Спасского о последних месяцах жизни Хлебникова сподобились печатного станка, чего не скажешь о свидетельских показаниях С.Г. Евлампиева, доброхотном даянии «Хлебникова полю» Л.С. Богословской (отдельная благодарность В.Я. Мордерер). Оказывается, Митурич выманил Хлебникова из обители райского блаженства: половина жилого помещения, отдельная кровать. Подробность, от которой у меня начинает свербить в носоглотке, дана разрядкой.
‹...› Общежитие вхутемасовцев размещалось в двух восьмиэтажных зданиях на Мясницкой ул., д. 21. Там стихийно стали возникать в каждой квартире коммуны со своими номерами, например: комбыт №1 или комбыт №2. Проживающие студенты в количестве 20–25 человек объединялись в коммуну, в каждой такой квартире было 6–7 больших комнат, и всё, что получалось по карточкам или коллективно зарабатывалось, сдавалось в общий котёл коммуны. ‹...›
Велимир в среде молодёжи нашел товарищей, которые, насколько могли, его бескорыстно материально поддерживали. Это ему импонировало.
Но в силу своей большой скромности и человечности он не хотел ни для кого быть обузой, поэтому его образ жизни был похож на кочевника, то есть он ютился понемногу то у одного вхутемасовца, то у другого. Когда он появился в нашей коммуне, его здоровье уже было сильно подорвано. Не умея приспосабливаться и не будучи признанным широкой публикой, Велимир страшно нуждался и голодал.
И вот однажды, в один из вечеров поздней осени 1921 года в нашу коммуну, помещавшуюся в квартире №82, явился Велимир Хлебников. ‹...›
Хлебников был одет в большой серо-желтоватого цвета длинной поношенной поддёвке с меховым воротником, на голове с круглой чёрного цвета шапочкой. Высокий, с задумчивыми большими глазами. Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуну, так как ему негде жить и питаться. Все присутствующие коммунары с восторгом такую его просьбу горячо приняли и мне, как одному из активистов-комсомольцев, пришлось проявить личную инициативу по устройству быта для нового члена нашей коммуны. Я предложил ему соседство, и он согласился.
В маленькую комнатушку при кухне и вселился вместе со мной Велимир Хлебников. Жить нам было крайне тесновато — мой топчан был хорош для моего небольшого роста, но для Велимира он был коротковат. Укрывался он своей поддёвкой.
Подушка у нас была одна. Я же укрывался небольшим одеялом и шинелью. Часто мне приходилось спать у товарищей в других комнатах.
Велимир, после нашего согласия принять его в коммуну, тут же принёс свой багаж, состоявший из большой связки его рукописей и небольшого личного архива. Ежедневно и в одно и то же время, после нашего скудного завтрака, Велимир куда-то рано уходил со своими некоторыми рукописями и приходил поздно вечером. Поужинав со мной, он обыкновенно садился что-то писать, обрабатывал свои ранее написанные стихи и просиживал до 2–3 часов ночи. Работал он много и упорно. Члены нашей коммуны к Хлебникову относились с большим уважением и заботой. Сам он вёл себя исключительно скромно и даже несколько замкнуто. Он был очень застенчив и неразговорчив. Хлебников не любил много говорить, он был, очевидно, сильно занят своими творческими планами. Иногда, после позднего ужина, мне удавалось кое о чём с ним побеседовать, а позже Хлебников стал поручать мне переписывать под его диктовку начисто наброски его стихов. Такая работа меня очень радовала, но она была и трудна, так как его стихи оказались сложными и по тематике, и по набору слов. Все его рукописи валялись в углу комнатушки — Велимир не соблюдал какого-либо порядка для своих бумаг и к ним относился крайне небрежно
Сейчас, через 45 лет, крайне трудно вспомнить детали и характер тех небольших бесед, которые я имел возможность с Хлебниковым тогда вести. Осталось в памяти — его скромность и большая благодарность за всё, что мы тогда могли для него сделать.
Вспоминаются небольшие отрывки из его рассказов о себе. Кажется, он окончил два факультета университета — филологический и математический. Помнится, побывал в первую империалистическую войну, по-видимому, на русско-турецком фронте. Говорил о какой-то перенесенной им тяжелой болезни, когда он находился ещё в Персии.
Велимир был в движениях медлителен и крайне застенчив, о себе он мало беспокоился. Лицо опухшее, большой крупный нос и грустные глаза, говорили, что он не совсем был здоров. Высказываться о своих товарищах-поэтах он не любил. Хлебников выступал со своими стихами редко, голос у него был тихий, похожий на женский.
С.Г. Евлампиев. О Велимире Хлебникове


 иктор (Велимир) Хлебников родился 9 ноября 1885 года в семье попечителя (the Russian administrator) калмыков — монголов-буддистов, кочевавших в степи западного побережья Каспийского моря.1
иктор (Велимир) Хлебников родился 9 ноября 1885 года в семье попечителя (the Russian administrator) калмыков — монголов-буддистов, кочевавших в степи западного побережья Каспийского моря.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()