


Неизменно жизнерадостный, всегда смеющийся, деятельный, очень опытный марксист-подпольщик П.А. Матвеев, только что освобожденный из тюрьмы, горячо встретил мое возвращение и немедленно помог устроиться таксировщиком в товарную контору железной дороги Нижнетагильского завода.
Уральский центр чугуна, медной руды, золота и платины, громаднейший старинный демидовский завод, лесные горы, шахты, рабочие, служащие, товарная контора, пыль, дым, трубы, домны, деревянные низкие дома — вот где я находился теперь, таксируя дубликаты накладных с шести часов утра до шести вечера с часовым перерывом на обед.
И я торжествовал.
Но не от каторжного труда ликовало сердце, а от двух причин.
Во-первых, в екатеринбургской газете «Урал» печатались на самом видном месте мои стихи, отточенные гражданским сознанием, а во-вторых, я вел активную подпольную работу среди рабочих завода и железнодорожных мастерских.
Устраивал литературные вечера, спектакли в заводском театре. Читал в кружках свои произведения.
Организовывал с рабочими, сослуживцами, учащимися лесные прогулки, рыбалки, охоту, чтобы там — на свободе — коллективно изучать политические брошюры, обсуждать вопросы работы, спорить о партийных программах социалистов разных лагерей.
Тогда, все почти сплошь беспартийные, мы стремились стать политиками.
Готовился быть оратором, учился говорить речи, диспутировать, писал статьи, и все это удавалось, ибо всегда обладал исключительной природной памятью.
Мне, например, ничего не стоило моментально запомнить цитаты из политических теоретиков и цифры по экономике.
Да и работа таксировщика требовала быстрых вычислений многозначных цифр.
Словом, своей памяти (очевидно, особая способность) начиная с детства я обязан очень многим.
А в пору, о которой сейчас пишу, — тем, что за два года изучил уйму политических книг, ибо исторический ход событий усиливался с каждым часом и надо было успеть приготовиться.
И мы были готовы.
Но население Нижнего Тагила пребывало в глухом, захолустном сне гоголевских времен.
Исправник, становой пристав Попов, жирные купцы, торговцы, священники играли главные роли хранителей безмятежного жития.
И уж исключительным ореолом поклонения был окружен пышный дом управителя заводов.
Здесь он был царь и бог, а все остальное — его владычество.
Когда на паре вороных, в шикарном экипаже, он проезжал из дому в управление или обратно, почти все снимали шапки; но он не отвечал, не замечал ничего и никого, кроме своей божественной важности.
Если управитель улыбался, огорчался, шутил, принимал гостей или был не в духе, все об этом шепотом передавали друг другу.
Только не совсем спокойно выглядели в эти дни жандармский ротмистр, прокурор, начальник станции Кузнецов, заподозренный, кстати, в тайном сыске по части явной крамолы на громадной станции.
В залах заводского клуба высшее тагильское общество — инженеры, врачи, адвокаты, администрация, судьи, становой пристав и двое военных играли в карты, а их жены, дочери и свояченицы танцевали падеспань и краковяк, обмахиваясь веерами, кокетливо поправляя завитые букли.
И вдруг — трах!
Землетрясение, конец мира, страшный суд: вспыхнула первая российская революция.
Начальство Нижнего Тагила, во всяком случае, этого обстоятельства не ожидало.
Полнейшая растерянность высших тагильских сфер.
В доме управителя не зажигают огней, и неизвестно, у кого он находится в гостях и как его самочувствие; и, главное, он никому теперь не интересен, ибо каждый обыватель дрожит за свою овчину.
Исправник, становой пристав, околоточные, жандармский ротмистр, прокурор — где они, в чьих чуланах?
Тоже неизвестно.
Вообще творилось невероятное: начальник станции скрылся, и теперь я был назначен распоряжаться последними поездами перед всеобщей забастовкой как избранный представитель громадного района многих станций и железнодорожных мастерских.
Я сидел на телеграфе, со всех концов России получая информации о ходе событий на фронте революции. И, захватив телеграммы, бежал на собрания делать доклады, говорить речи.
Рабочие наполнили улицы, пели марсельезу. Начались выборы в Исполнительный забастовочный комитет.
Тайным голосованием всего громаднейшего района я получил большинство и стал председателем комитета.
Поезда остановились, за исключением тех, что возили продовольствие.
Дни и ночи происходили митинги, выносились резолюции об углублении революции.
Заводской театр стал центром сборищ. Товарищи в шутку называли меня “президентом Урала”: вероятно, потому, что был избран председателем комитета и каждый раз был избираем в председатели на сплошь тогда шедших собраниях. И говорю я об этом не с гордостью, а с глубокой горечью: как, значит, мало было подготовленных, истинных руководителей великого движения, если я, совсем молодой и малознающий, получил такое прозвище. И где?
В огромном рабочем округе.
Из пяти членов нашего комитета активно, по существу, работал я один, а четверо вроде как задумались — стали тихими и безучастными. Я кричал:
— Этак мы провалим революцию! Что же получится? Полиция возьмет нас за уши, как озорных детей, и потащит в тюрьму!
Так и вышло.
Из Перми получил первые тревожные телеграммы: „Петербург спасовал, начался белый террор, Пермь усмиряют казаки“.
Думал: вот тебе и бескровная революция, вот тебе и „царский манифест для известных мест“, как острил в «Пулемете» Н. Шебуев.
А ночью меня, моего заместителя и секретаря захватила врасплох полиция и посадила в нижнетагильскую тюрьму.
Просидели три дня, а на четвертый к тюрьме привалила густая рабочая масса и, несмотря на охрану пятидесяти солдат, освободила нас.
Мы скрылись в доме одного машиниста.
Нас тщетно разыскивали.
Но когда по заводу расклеили объявление, что ловкие зачинщики сбежали и что теперь придется отвечать многим, мы открылись.
На тройках, под усиленным конвоем жандармов, нас увезли в далекую глухую николаевскую тюрьму Верхотурского уезда.
В забытой богом и людьми снежной лесной глуши, в николаевской тюрьме побывало немало из ныне здравствующих и ушедших на вечный покой (в одиночке этой тюрьмы позже сидел Яков Свердлов).
Тюрьма славилась жестокостью.
Я это испытал сразу: меня, сонного, привезли в тюрьму в три часа ночи, и из-за того, что я не пожелал снять шапку перед начальником тюрьмы, старший надзиратель со всего маху ударил меня по голове шашкой в ножнах.
Шапка слетела, но я отказался ее подымать.
И пошел без шапки по тюремному двору, напевая «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою» — это была любимая песня.
Главный, громадный, корпус тюрьмы стоял в черном каменном дне посреди двора, а возле высокой стены чернелись оконца полуподвального помещения одиночек.
Спустившись по чугунным ступеням, мы вошли в длинный коридор, тускло освещенный керосиновыми лампами.
Большим ключом надзиратель открыл дверь одиночной камеры № 16 и зажег лампу.
Запахло керосином и карболкой: в углу стояла параша.
К стене привинчена койка, под высоким замерзшим оконцем — столик, табуретка.
А вся одиночка — два шага ширины и пять длины.
И в двери — глазок с пятак.
Камеру заперли на ключ. Ушли.
Когда лег спать, укрывшись своим овчинным тулупом, слышал: привели других товарищей и тоже заперли.
Тишина могильная, и только в коридоре тикали стенные часы да шаркали сапогами надзиратели.
Так началась новая жизнь.
С утра будят звонком рано, при огнях, дают кипяток и кусок ржаного хлеба, потом приходит арестант-уголовник и уносит парашу.
Раз в день, на шесть минут, выводят на дворик гулять одного.
На дворе много уголовников в серых арестантских одеждах, и все что-нибудь делают: убирают снег, пилят, носят дрова, таскают в котлах кипяток, капусту.
Поглядывают на меня, приветствуют, делают какие-то знаки, и я понимаю, что их очень бьют по головам, по зубам.
Кормили отвратительно.
Первые дни я почти не ел, а потом привык.
Долго не давали книг, но потом стали давать то жития святых, то глупейшие романы без начала и конца.
Одно удовольствие — надписи заключенных на полях, вроде: „Вот сволочи — какую дрянь дают“.
Или: „Книги наши — для параши“.
Выдали, наконец, тетрадь, пронумерованную, с сургучной печатью.
Стал писать стихи и заниматься по-французски, так как с собой захватил французскую начальную книгу.
Разрешили писать письма на волю, и я стал получать ответы, в которых половина тщательно вычеркивалась.
Медленно ползли недели и месяцы.
У меня выросла большая рыжая борода.
По субботам в бане всегда находил записки, в которых сообщалось, что в России свирепый террор, тюрьмы переполнены, всюду действуют кровавые карательные экспедиции.
Со скрежетом думал: а мы-то, бескровные дураки, церемонились, нянчились, собирались для резолюций, пели марсельезу и ни одного жандарма, ни даже станового пристава в тюрьму не посадили.
Ни единой баррикады не устроили.
Словом, ничего революционного не сделали, а ведь власть действительно была в наших руках.
О себе уж молчу, ибо был только рядовым и ждал приказаний из Перми...
Оказалось, что марсельеза без баррикад ровно ничего не стоит. Тут и сорвалось.
Долгие тюремные месяцы с нестерпимой досадой и грустью я раздумывал об этом “сорвалось”, но разобраться не мог.
Между тем все одиночки переполнились.
Мне подбросили записку, что начался расстрел отдельных политических в тюрьмах.
Тогда пережил неприятный момент.
Знал, что перед казнью приходит поп и предлагает исповедаться смертнику.
Однажды, перед сном, тихо открылась дверь — ко мне вошел, с крестом и евангелием, тюремный поп:
— Вы христианин?
От неожиданности похолодело сердце, но я быстро оправился и с гордостью заявил:
— Мне ничего этого не надо.
В эту минуту явился начальник тюрьмы, шепнул попу:
— Не сюда, батюшка... ошибка...
Ушли.
Разумеется, это было проделано с целью “по пути” попугать меня.
Время шагало мрачно, медленно.
Оконце оттаяло. Пахло весной. Целые дни на дворе чирикали воробьи.
В одну из ночей услышал шум в верхнем этаже главного яруса — вскочил, смотрю: окна осветились, и там раздался смех.
Что такое?
Утром узнал, что из Перми привезли большую партию политических и разместили в общих камерах.
Сразу стало веселее, будто грачи прилетели.
Я поставил на стол табуретку, открыл оконце и, уцепившись за решетку, смотрел на пермских гостей, которые тоже уцепились за свои решетки.
Начались оживленные разговоры, которые вдруг прекратились: во дворе, меж окнами, появился начальник караула и крикнул:
— Не разговаривать! С окон убирайтесь! Иначе приказываю часовым стрелять!
Все скрылись.
Но в ответ пермские запели любимую «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою».
И эта песня оборвалась на средине: очевидно, запретили.
Наступило крутое затишье.
Много писал стихов, много думал о том, как выйду из тюрьмы и поеду в Петербург учиться.
Пермские ловко действовали через уголовных: на прогулках подкидывали мне письма, брошюры, газеты и журнал Шебуева «Пулемет».
Потом прилетели птицы, принесли тепло и песни о широкой вольности.
На дворе стало сухо, и по сочному воздуху чувствовалась первая зелень за высокой стеной.
Так бы и кинулся в лес, на поляны сосновые, весеннюю землю понюхал бы, поцеловал и пожевал, черт возьми.
Или посмотрел бы на камский ледоход — ведь там скоро побегут пароходы, повезут пассажиров.
И кажется удивительным, и не верится, что пассажиры поедут свободно, без тюремных надзирателей.
Как-то утром — едва встали — я услышал радостное густое пенье пермских „Эй, дубинушка, ухнем“.
Ухнули.
И коллективный крик в окно:
— Да здравствует Первое мая! Ура!
— Ура! — орал я, снова уцепившись за решетку.
Пермские махали в окно красной рубахой.
— Поздравляем!
— Ура!
И вдруг выстрел часового.
Все стихло.
Праздник кончился.
А вечером, перед сном, как всегда, уголовные глухо, подземельно, безнадежно пели хором «Спаси, господи, люди твоя».
В средних числах мая внезапно по всей тюрьме политические объявили голодовку.
Мы требовали приезда прокурорских властей, чтобы расследовать дело о зверском избиении одного крестьянина-депутата тюремным начальством.
И заодно требовали освободить на поруки больных заключенных.
Трудно было голодать первый и особенно второй день, на третий легче.
Мы отказались даже от воды.
Я заболел: жар, озноб, тошнота, всего ломит.
Наехали из Перми власти.
Доктор меня обследовал при прокуроре и заявил тут же:
— Очень плохо...
Дал лекарства выпить.
Я отказался.
Тогда прокурор заявил, что все наши требования уважены сполна: сегодня же все больные будут освобождены, а за избиение заключенного начальник тюрьмы увольняется.
Поверил, выпил лекарство и две ложки портвейну.
Через час из окон крикнули:
— Наши требования удовлетворены! Голодовка, товарищи, кончилась! Поздравляем!
Сразу стало легче.
К вечеру всех больных освободили.
Меня спросили:
— Не желаете ли остаться до утра? Вы очень больны, и доктор советует переночевать.
— Ну нет, — улыбался я на всю камеру, — благодарю покорно. Вы только освободите, я на воле сразу исцелюсь.
Повели в контору, взяли несколько подписок о невыезде до суда из Нижнего Тагила.
Я еле держался на трясущихся ногах от голода, болезни и счастья; но, когда открыли тюремные ворота и глаза увидели солнце, деревья, зелень травы, дорогу, побежал сразу в лес и спрятался на случай, если бы вздумали вернуть.
И я действительно припал к земле, целовал землю, рвал зубами, жевал, хохотал и задыхался от пьяного майского воздуха.
Потом нанял крестьянскую подводу до станции Гороблагодатской, а там — с товарным поездом в Пермь.
И сейчас же на пароход, по Каме вниз.
И дальше, дальше.
Куда?
О, конечно, в Севастополь! Ведь это там живет капитан торгового парохода, и он снова возьмет меня в Турцию.
Ах, как жадно хочется выпить кофе на константинопольском базаре.
Дивно! Будто сорвался с виселицы.
Да, да, так превосходно жить на воле.
Снова майское безмятежное море, ленивые под горячим солнцем чайки, играющие дельфины, высокий воздух, ялики с парусами.
Снова на камнях, у самой воды, сижу — набираюсь сил, вдыхаю здоровье горизонтов.
Еще слаб, но ремонт идет полным ходом, и я тут как пароход в доке.
А кругом — будто ничего не случилось: та же внешняя тишина; так же трамваи бегают; люди бродят по приморскому бульвару; громыхают в порту, дымят пароходы, разносчики продают с лотков персики. Магазины торгуют. Белеются кители морских офицеров. А восстанье на «Потемкине»? Лейтенант Шмидт? Эскадра? Матросы? Революция?
Полное спокойствие, и от этой тишины — сверлящая боль досады, обиды: как это “они” могли взять верх, когда “их” жалкая кучка, а нас миллионы.
Все просто: марсельеза без баррикад ничего не стоит. Прохожу мимо дома Наташи — там пусто, уехали совсем, живут другие.
И все стало чужое, одинокое, холодное. Мой капитан с сыном в Одессе.
Но мне везет: случайно познакомился и сразу сдружился с бывшим лейтенантом Кусковым, другом лейтенанта Шмидта. Кусков — под надзором жандармерии, накануне ссылки в Сибирь.
Он посвятил меня во все севастопольские события, и он же устроил мне беспаспортную поездку в Константинополь, ибо я жил теперь по чужому паспорту.
И достал мне денег от подпольной флотской организации.
Новый капитан моего парохода — приятель Кускова и прежнего капитана, с которым ездили в Турцию.
Пароход шел прямо на Босфор.
Оказалось, что этот капитан прекрасно знает Персию и не менее — русскую поэзию.
Всю дорогу я читал стихи; он восхищался моим умением читать, сочинять и посоветовал воспеть Персию, куда обещал устроить при оказии.
И вот снова Константинополь!
Едем с капитаном на Галату, пьем душистый кофе, какого нигде больше нет в мире, читаем стихи, слушаем бродячих музыкантов, напеваем турецкие народные песни, осматриваем Стамбул, глотаем солнце и персики.
На главном базаре встретили группу чернокожих; они были одеты в растения, а у девочки на открытой груди — пустой кокосовый орех, и там живет змея.
На пятый день капитан познакомил меня с турецким торговцем, своим приятелем; и мы отправились в торговую поездку в Тегеран, за шелком и коврами.
Торговец Мохамед немного, как и я, знал по-французски; и нам было этого вполне достаточно, чтобы из бурдюка пить янтарное вино айюрташ и радоваться “тре-жоли” вокруг, и кричать встречным караванам верблюдов с товарами: „Вив ля ви!“
Мохамед спрашивал, зачем еду в Тегеран, что мне там надо.
Я отвечал, отмахиваясь:
— Рьен. Абсолюмо.
Мохамед приходил в детский восторг от моей скромности, сдвигал феску на глаза от смеха и повторял:
— Жюст. Жюст. Яхши!
Мохамед говорил, что, раз я занимаюсь поэзией, мне ничего не надо, кроме хорошей погоды.
И опять от смеха сдвигал феску на глаза.
Веселый Мохамед рассказывал, что его брат учится в Париже и посылает ему стихи, а он шлет деньги.
— И что из этого выйдет, неизвестно, — ухмылялся мой шелковый спутник.
Меж тем мы проезжали турецкие каменные плоско-крышие горные деревни.
Переехали наконец персидскую границу и скоро увидели громадное соленое озеро Урмию и вбегающие в него реки Джагатучай, Татау, Аджичай.
Здесь, на остановке, на берегу Аджичая, мы ели дикого кабана; и старый перс-охотник, с крашенными хной ногтями и бородой, принес продавать свежую тигровую шкуру за четыре золотых тумана.
Мохамед купил и подарил мне:
— Увези тигра в Россию и скажи народу, что Мохамед самый тре жоли охотник на тигров.
На другой день прибыли в Тавриз. Тут главное производство шелковых изделий, шалей.
Мохамед закупал товары, а я бродил по базару, сидел в кофейнях, чай-ханэ, слушал персидскую музыку и удивительные песни, в которых высокими вибрирующими голосами изливалась неизъяснимая боль далеких веков, будто это был жалобный, раздирающий душу плач.
И мне это очень нравилось, как, впрочем, и все, что видел, слушал, ел, пил.
Капитан был прав в восторгах от Персии.
Я жил среди тысячи и одной ночи; и отсюда николаевская тюрьма казалась кошмарным, убийственным сном.
И после, когда поехали за коврами в Тегеран, когда увидел столицу Персии, очарованью не было пределов.
Даже захотелось быть персом и петь в чай-ханэ стихи Гафиза, Шемс-Эддина или Фаррухи, Абагуль-сан-Али-ибн-Джулу.
Об этих знаменитых поэтах мне много говорил персидский художник Аббас-Ферюза из Хамадана, который, кстати, дивно их читал и переводил по-русски, так как учился в бакинской гимназии.
Странное дело: мне до такой степени нравился персидский язык, что, не изучая отдельных слов, я как-то вдруг стал понимать их смысловое значение и интуитивно точно угадывал слова.
И чувствовал: проживи я в Персии еще неделю-другую, заговорил бы.
И запел бы. Ого! Я и так многому научился, обладая песенным слухом и восточным вкусом.
Между прочим, Аббас-Ферюза показал в Тегеране место, где был растерзан Грибоедов.
Я торопился в Петербург.
Дружески попрощавшись с Мохамедом в изумительном ковровом караван-сарае, я отправился в дилижансе по тегеранскому шоссе в Решт.
Оттуда каспийским пароходом — в Баку, где удивленные глаза застряли в черном лесу нефтяных вышек; и восхитил сам великолепный город, проводив в петербургский путь слегка утомленного путешественника.
И вот на смену — Петербург.
Громадный, величественный, строгий, вытянутый прямыми улицами Петербург.
После пышных фруктовых персидских садов и ковровых караван-сараев, после плоских крыш, мечетей, ярко-пестрой толпы, верблюдов, буйволов, осликов, чай-ханэ с пловом и песнями далеких веков, после сказочной тысячи и одной ночи — Петербург, полное отрезвление: стиль холодного ума, краски гранитного севера, дух департамента, царство дворцов и казарм, владычество церквей-соборов.
И посредине — широкий блеск Невского.
Но здесь университет, искусство, книги, писатели, а для меня это — все.
Поселился на Васильевском острове.
Три месяца, сплошь дни и ночи, готовился на аттестат зрелости, сдал в василеостровской гимназии, поступил на вновь открывшиеся высшие сельскохозяйственные курсы, которые основали профессора Петербургского университета Адамов, Каракаш, Генкель, Рихтер, Шохор-Троцкий, Кравков.
Одновременно слушал лекции на естественном университета.
Студенты курсов выбрали старшиной. А в девятой аудитории университета по вечерам политические собрания, доклады. Началась студенческая жизнь.
Все жили впроголодь, но все энергично работали, учились, горели, волновались.
Я очень боялся, что вот-вот полиция разыщет меня по тагильскому делу и увезет на суд в Пермь, но этого не случилось; быть может, потому, что жил без прописки.
Зима сошла благополучно.
На все лето я уехал в Псковский уезд в экономию Карамышево вместе со всеми студентами на практические занятия по агрономии.
Там мы создали студенческую коммуну, много занимались: слушали лекции, работали с микроскопом по анатомии растений, группами ходили с профессорами по лугам и лесам, собирая насекомых, червей, паразитов, изучая на месте флору и фауну.
С профессором лесного института Сукачевым мы ходили в дальние экскурсии на озера для общего исследования.
Сами вели огромное молочное хозяйство экономии, доили, наблюдали, практиковались.
Жизнь леса я изучал с такой любовью, что построил себе землянку в роще и жил, иногда ночуя на кронах сосен, где устроил себе колыбель, вспоминая жизнь предков, живших на деревьях.
Зимой я учился дальше.
Начал заниматься живописью.
И вовсе не потому, что мечтал стать Айвазовским, а просто, вроде маляра, заработка ради.
Дело в том, что для курсов требовались разные картины геологических пластов, почвенных разрезов, корней растений.
Все это я живописал очень удачно, с натуры, и получал по десятке за картину.
Этот заработок настолько меня обеспечил, что ходил по театрам на галерку, восторгался игрой В.Ф. Комиссаржевской, мариинской оперой, александрийской драмой, народным домом, посещал выставки художников, музеи, Эрмитаж.
Покупал книги, зачитывался Гамсуном и ревел над «Викторией», ибо в ту пору влюбился в курсистку Марусю Косач и опять неудачно.
Маруся ревновала меня к своей сестре Вере и даже заявила:
— Ты желаешь переступить через мой труп, чтобы добиться взаимности Веры.
Я чуть с ума не сошел от столь неожиданного недоразумения, так как любил именно Марусю, а не Веру — будь она проклята, эта Вера.
До сих пор досадно за это недоразумение.
Однако моя сумасшедшая упрямая любовь сделала то, что все ночи напролет писал стихи, рассказы, посвящая ночные произведения возлюбленной.
И все-таки Маруся была убеждена, что я люблю ненавистную Веру.
Так и не выпутался из рокового тупика.
В эту зиму, 1907 года, большинство студентов благодаря Вербицкой и появившемуся «Санину» Арцыбашева было увлечено вопросами пола и “свободной любовью”.
В первый раз в жизни я выступил перед массой студенчества с большой лекцией по этому поводу и громил мещанскую пошлость и похабщину вербицких-арцыбашевых, отвлекавших молодежь от великих идей освободительного движения, от построения новых форм современной культуры.
Ободренный бурным успехом первого выступления, перешел к систематическому разбору сегодняшнего положения русской литературы, доказывая, что и тут нет никаких новых, открывающих исканий, что все задернуто густой завесой мистики и отчаянного пессимизма леонидоандреевского мироощущения.
Однажды в вечерней «Биржевке» я прочитал объявление о том, что Н.Г. Шебуев (известный в то время журналист, автор-редактор бывшего «Пулемета») организует литературный альманах «Весна» для начинающих писателей и приглашает молодых авторов явиться к нему с рукописями.
И я решил попробовать.
Взял ночные любовные произведения, что посвятил Марусе, и понес с трепетом к прославленному Шебуеву, которого, кстати, очень хотел увидеть за слова „царский манифест для известных мест“. Эти слова все знали, как и его «Пулемет», что прогремел на всю Россию и даже полез в тюрьмы.
Пришел. Сердце колотится, как на экзамене.
Передо мной за письменным столом сидел рыжеватый, бритый, в золотом пенсне, очень симпатичный улыбающийся Шебуев.
Подумал: вот они какие бывают.
Шебуев пригласил сесть, был необычайно приветлив, весел, остроумен.
— Ну что ж, давайте, — сказал “пулеметчик”, на минуту заглянув в мои рукописи, — давайте устроим братскую могилу. А?
Мне это легкое предложение понравилось, но я был застенчив и пробормотал:
— Спасибо за это самое... но как же так — ведь вы еще не читали мои произведения...
— Ого! — перебил редактор. — Мои глаза так натасканы, что раз взгляну — и все вижу. Главное — очень грамотно, а за талант вы будете отвечать сами, как за преступление, ха-ха.
— Значит, принимаете?
Шебуев молча написал на моем первом листке: „Да“. И подписался. И показал.
Я вспотел от счастья.
Разговорились о взглядах, о вкусах,
И о том рассказал я, какие лекции читаю студентам и каково мое мнение о состоянии современной литературы.
Через час разговоров Шебуев предложил мне место секретаря редакции «Весны» и заявил, что намерен издавать еженедельный журнал.
И предложил аванс.
Вот он какой, этот Шебуев!
Словом, через два часа я спускался от него по лестнице как пьяный.
Не знал, в какую сторону двинуться на улице от всего, что случилось.
Так я стал писателем и секретарем редакции «Весны».
И кругом действительно веяло сочной ароматичностью весны до головокружения.
Жизнь вила, накручивала толстый смоляной канат, и, как баржа за пароходом, я тянулся на этом канате за могучим шествием времени по реке бытия.
Ну, тут произошло такое, что пером не опишешь.
Одним словом — пошел.
В двух словах — действовал энергично.
В трех — жизнь строил фундаментально.
Сидел за тем редакционным столом, за которым принял меня Шебуев.
С левой стороны лежала пачка альманаха «Весна».
С правой — груда вышедшего иллюстрированного еженедельного журнала «Весна», в конце коего значилось:
Издатель — Н.Г. Шебуев. Редактор — В.В. Каменский.
Шебуев близко дружил с многими писателями и широко с ними знакомил, наворачивая на мою голову, как чалму, обильные комплименты.
За короткое время познакомился с Леонидом Андреевым, Куприным, Сологубом, Александром Блоком, Михаилом Кузминым, Алексеем Ремизовым, Чуковским, Петром Пильским, Скитальцем, Боцяновским, Городецким.
У всех бывал, чтобы получить материал для журнала, и тут же, на квартирах, платил гонорар.
А раз гонорар — значит, меня принимали с искренним почтением и непринужденной веселостью.
Только один из известностей упорно, настойчиво сам приходил и приезжал на извозчике за авансом — это критик Петр Пильский.
Больше всего на свете он любил авансы.
Частенько и в два часа ночи раздавался звонок.
Что случилось?
Приезжал извозчик из ресторана и вручал краткое письмо:
Очень мне нравился Куприн.
Один раз Шебуев попросил меня поехать в Гатчину к Куприну — взять рассказ и заплатить сто рублей.
И было наказано: пока не получу рассказа, денег не давать.
Я поехал.
На гатчинском вокзале спрашиваю буфетчика:
— Где живет писатель Куприн?
Буфетчик указал на столик:
— Вот он тут сидит.
Александр Иванович сидел под градусом и, повернув ко мне тихое татарское лицо, предложил сесть:
— Прежде чем разговаривать, прошу выпить.
Я отказался.
Куприн улыбнулся:
— Но кудрявые все пьют. Я их знаю.
Тут я заметил, что Куприн очень похож на одного купца-татарина из Перми, торговавшего под вывеской: «Рахматуллин, он же Бикматуллин».
Знаменитый писатель выпил, закусил, прищурился на меня:
— Сколько?
— Сто рублей, — быстро ответил я.
— Не о том речь. Спрашиваю: сколько лет?
— Двадцать три.
— Превосходно. Все впереди. В «Весне» мне очень понравились ваши стихи «В кабаке».
Я просиял:
— Благодарю.
— Что тут благодарить, пустяки. Я это к случаю: не люблю декадентских, мистических стихов, а у вас этого нет. Декаденты сочиняют “фиолетовые руки”. Противно. В руках — мускульная сила человека.
Мы поднялись из-за столика, и Куприн вдруг в упор:
— Дайте двадцать пять рублей. Должен буфетчику.
Помня шебуевский наказ, заволновался, не знал, что делать:
— А рассказ будет?
— Рассказа еще нет, но я напишу.
С грустью отдал двадцать пять рублей.
Пошли. На улице все почтительно раскланивались с Куприным.
Дома — такая тихая, одноэтажная квартирка — Куприн познакомил с женой и девочкой-воспитанницей.
Сели за вечерний чай в угловой комнате с большим старинным диваном.
Подумал: вот как живет Куприн — очень тихо, и тихий он человек, медленный, коренастый, с бычьей шеей и сильными руками.
Дома он оказался трезвым и пил квас.
А когда узнал, что я был актером, ожил, развеселился:
— Я ведь тоже был в актерах.
И давай рассказывать разные приключения, схожие с моими по части голодовок.
Превосходно он рисовал типы провинциальных актеров в клетчатых костюмах.
Особенно смешно было слушать о трагиках, любовниках.
В свою очередь, я рассказал о Помпе-Лирском и о том, как дошел до дубового гроба.
Прохохотали до ночи, а я все подумывал: когда же он станет писать рассказ?
Наконец меня уложили на диван спать.
А утром жена Куприна передала мне написанный за ночь рассказ.
Расплатился. Уехал. Куприн спал.
«Весна» шла отлично.
Журнал привлекал новых, начинающих писателей, к которым Шебуев относился с особым, дружеским вниманием.
Мы оба верили, что найдем талантливых людей из молодежи.
И нашли.
В первый раз в «Весне» начали печататься Хлебников, Н. Асеев, Игорь Северянин, Шкловский, Придворов (Демьян Бедный), Арк. Бухов, Пимен Карпов, Николай Карпов, Л. Рейснер, М. Пришвин.
И многие из теперь известных.
М. Пришвин принес первый рассказ «Белое».
Е. Придворов (Демьян Бедный) был тогда студентом — этакий здоровый остроумный парень. Он напечатал стихи о смертной казни.
Е. Придворов жил на Невском, в квартире портного, занимался репетиторством.
Мы с ним хорошо познакомились, бродили по улицам, по гостям.
Тогда же я начал печатать рассказы в «Вечерних новостях» и театральные рецензии в «Обозрении театров».
Но моя главная работа происходила дома — я весь горел в исканиях: изобретал новую форму писательской техники и поэзии, мастерил новые образы, реформировал литературный склад речи, занимался словотворчеством, неологизмами.
И был одинок в этой области, пока не встретил великолепного спутника.
Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого человека, кроме меня, застрявшего в рукописях.
Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращения Шебуева, чтобы бежать в театр.
Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.
Я вышел на площадку — шаги исчезли.
Снова взялся за работу.
И опять шаги.
Вышел — опять исчезли.
Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.
Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:
— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.
Студент произнес что-то невнятное.
Я повторил приглашение:
— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.
Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошел в прихожую.
— Хотите раздеться?
Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.
— Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.
Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.
Так мы с ним молча смотрели друг на друга и улыбались.
Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.
— Вы что-нибудь принесли?
Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил ее винтом и подал мне, как свечку:
— Вот тут что-то... вообще...
И больше ни слова.
Я расправил тетрадь: на первой странице, будто написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисления, цифры; на второй — вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей — написано крупно «Мучоба во взорах», и это зачеркнуто, и написано по-другому: «Искушенье грешника».
Сразу мои глаза напали на густоту новых словообразований и исключительную оригинальность прозаической формы рассказа «Искушенье грешника».
Тогда я достал из стола свою тетрадь и показал студенту.
Там на первой странице столбиком стояли слова:
И дальше — начало «Осени»:
И еще отрывок:
Студент просмотрел эту мою черновую работу, снова взлохматил волосы, улыбнулся:
— Надо это печатать, а не... вообще...
— Ну, пока что, — перебил я посетителя, — мы напечатаем ваше «Искушенье грешника». Убежден: Шебуеву это понравится.
Студент быстро привскочил, обрадовался, потер лоб:
— Очень приятно. Не ожидал... вообще...
— Ваш рассказ не подписан. Пожалуйста, подпишите.
И студент подписался: “В. Хлебников”.
Пришел Шебуев, я познакомил его с Хлебниковым, показал «Искушенье грешника».
Через пять минут просмотра Шебуев сказал:
— Прекрасно. Необычайно. Напечатаем.
Я вышел вместе с Хлебниковым.
Я совсем забыл о театре; и сначала мы пошли ко мне пить чай, а потом к нему: очень хотелось узнать, как он живет, где, в каких условиях.
Был поражен: Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской.
Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под кроватью белелись листочки со стихами и цифрами.
Но Хлебников был не от мира сего и ничего этого не замечал.
Как бы в качестве аванса я предложил ему двадцать рублей.
Но на другой день у него не было ни копейки.
Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык “под восточную музыку”, но музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал весь свой первый аванс.
— Ну хоть шашлык-то вы съели? — заинтересовался я, сидя на досках его кровати.
Хлебников рассеянно улыбался:
— Нет... не пришлось... но пели они замечательно. У них голоса горных птиц.
С этих минут Хлебников был со мной почти неразлучно.
Мы крепко сдружились.
Он буквально скакал от радости, когда я принес ему журнал «Весну» с рассказом «Искушенье грешника».
Сияющий автор воскликнул:
— Надо бы устроить пир, но у меня нет золота!
Все же мы устроили, ибо оба любили беспечную, окрыленную молодость и веселье без берегов.
С утренним поездом я вернулся из Финляндии, с дачи Леонида Андреева, где переночевал и получил начало большого рассказа «Царь», четко написанного на почтовой клетчатой бумаге крупного формата.
Леонид Андреев в эту пору громадной славой своей затмил всех писателей и потому казался непостижимым, загадочным гигантом, особенно для нашего молодого брата.
До поездки я встречал его несколько раз в курительной комнате фойе театра Комиссаржевской, — там ему и был представлен как редактор «Весны» Петром Пильским.
Но таких редакторов, как я, около знаменитого писателя было очень густо, и едва ли его величие заметило меня, рыжего человека в табачном костюме, да еще некурящего.
Словом, до поездки, судя по леонидоандреевским произведениям, я воображал, что увижу невероятно мрачную фигуру с черным пронзительным взглядом в глубину неразрешимых, проклятых вопросов.
Признаться, мне было заранее страшновато, ибо я-то обладал избытками жизнерадостности: все мне было весело, все интересно, все кружилось в вихре взбудораженной юности.
Ну какой же я собеседник для Леонида Андреева?
Однако с первой же минуты все получилось совершенно иначе.
Леонида Николаевича я встретил катающимся на велосипеде.
Приветливо поздоровавшись, он предложил:
— Давайте покатаемся вместе, а после этого приятно будет пить чай.
Через минуту он вытащил второй велосипед, и мы заколесили по тропинкам сосновой рощи.
Я ехал позади великого писателя и думал: вот те на — ни с того пи с сего я катаюсь с самим Леонидом Андреевым так, будто мы друзья детства.
Он мне рассказывал, какие нас ждут приятные места дальше, как хорошо пахнут смолистые сосны, как заливаются птички и что у него больное сердце — кататься много вредно.
— Но все в жизни вредно, — заявил знаменитый спутник, закуривая в десятый раз.
Курил он действительно много.
Велосипеды нас хорошо познакомили, и мы болтали без умолку о разных вещах и при этом напропалую острили.
И дома было просто и весело.
Надо сказать, что в качестве гонорара за рассказ я привез ему картину художника Коровина, снятую со стены квартиры Шебуева.
Писатель острил:
— В следующий раз Шебуев пусть пошлет мне самовар или граммофон — так потихоньку и обзаведусь необходимой обстановкой на новой даче.
Впрочем, картина Коровина «Ожиданье поезда на маленькой станции» писателю так понравилась, что он сказал:
— Вот я вглядываюсь и думаю, что можно смотреть на эту картину и писать рассказ на эту же тему. Ведь сколько таких людей на захолустных станциях ожидают поезда. Тут мысли о будущем, надежды, чаянья.
Говорил он медленно, тихо, много, как бы думая вслух.
Тут я узнал того самого Леонида Андреева, которого мы читали.
Дальше он стал показывать мне картины и портреты своей работы, но я их не оценил.
Он не обиделся:
— Кажется, только мне одному мои вещи нравятся, и то хорошо.
И вдруг:
— Знаете, я люблю писать по ночам, когда все спят. Сегодня буду работать над одной большой пьесой, а вам могу, если хотите, дать начало «Царя». Другого нет ничего — так и передайте Шебуеву.
Так я и передал.
Теперь Леонид Андреев в моих глазах двоился: один — страшный, вопрошающий, страдающий; другой — простой, веселый, любящий жизнь, спортсмен; в черной бархатной блузе с христовым лицом он больше походил на художника.
Удивительное дело: как только я прикасался к крупным писателям, знакомился с ними, весь ореол их величия спадал, рассеивался, и я ценил их иной, фантастической ценой.
До знакомства они мне казались непостижимыми сфинксами, а после — самыми обыкновенными людьми, но с изюминой.
Вернувшись от Леонида Андреева, в этот же день, по обязанности рецензента, я должен был пойти в пассаж, что на Невском, на вернисаж Выставки картин современной живописи.
Пришел в самый разгар.
Народу полно.
Среди публики увидел знакомых: Петра Пильского и высокого, под вид семинариста, Корнея Чуковского.
Шебуев их называл в журнале — Пильчуковский и Чукопильский.
Чуковский, рассматривая картины, положительно веселился, выкрикивая тоненьким тенорком:
— Гениально! Восхитительно! Зеленая голая девушка с фиолетовым пупом — кто же это такая? С каких диких островов? Нельзя ли с ней познакомиться?
Тут же стоял известный, популярный журналист из «Биржевки» Н.Н. Брешко-Брешковский, элегантно одетый, коротенький, полненький, с глазами рака.
Брешко-Брешковский спрашивал:
— Но почему она зеленая? С таким же успехом ее можно было сделать фиолетовой, а пуп зеленым? Вышло бы наряднее.
— Это утопленница, — тенорил Чуковский.
Около “зеленой” стоял без улыбки, с видом ученого, в военном сюртуке доктора, пожилой, скуластый, с воспаленными глазами господин и объяснял:
— Мы, художники-импрессионисты, даем на полотне свое впечатление, то есть импрессио. Мы видим именно так и свое впечатление отражаем на картине, не считаясь с банальным представлением других о цвете тела. В мире все условно. Даже солнце одни видят золотым, другие — серебряным, третьи — розовым, четвертые — бесцветным. Право художника видеть, как ему кажется, — его полное право.
— Кто это говорит, кто? — шептались в публике.
Чуковский заявил громко:
— Это сам художник, приват-доцент Военно-медицинской академии доктор Николай Иванович Кульбин.
Кто-то бросил из толпы:
— Сумасшедший доктор.
В этот момент на другом конце зала раздался густой, брюшной, почти дьявольский хохот.
Брешко-Брешковский бегом пустился туда:
— Ну и выставка! Гомерический успех!
Я — за ним.
Там перед густой толпой стояли двое здоровенных парней.
Один — высокий, мускулистый юноша в синем берете, в короткой вязаной матросской фуфайке, с лошадиными зубами настежь.
Другой — пониже ростом, мясистый, краснощекий, в короткой куртке; этот смотрел в лорнет то на публику, то на картину, изображающую синего быка на фоне цветных ломаных линий, вроде паутины, и зычным, сочным баритоном гремел:
— Вас приучили на мещанских выставках нюхать гиацинты и смотреть на картинки с хорошенькими, кучерявыми головками или с балкончиками на дачах. Вас приучили видеть на выставках бесплатное иллюстрированное приложение к «Ниве».
— Кто приучил? — крикнули из кучи.
— Вас приучили, — продолжал мясистый оратор, — разные галдящие бенуа и брешки-брешковские, ничего не смыслящие в значении искусства живописи.
Брешко-Брешковского передернуло:
— Вот нахальство!
Оратор горячился:
— Право нахальства остается за теми, кто в картинах видит раскрашенные фотографии уездных городов и с таким пошляцким вкусом пишет о картинах в «Биржевках», в «Речи», в зловонных “петербургских газетах”.
Брешко-Брешковский убежал с плевком:
— Мальчишки в коротеньких курточках! Нахалы из цирка! Маляры!
Оратор гремел:
— А мы, мастера современной живописи, открываем вам глаза на пришествие нового, настоящего искусства. Этот бык — символ нашего могущества, мы возьмем на рога этих всяких обывательских критиков, мы станем на лекциях и всюду громить мещанские вкусы и на деле докажем правоту левых течений в искусстве.
— Как ваша фамилия? — спрашивали рецензенты.
— Давид и Владимир Бурлюки, — отрекомендовался вспотевший художник.
Я схватил горячую руку агитатора, и он повторил:
— Давид Бурлюк. К вашим услугам.
С этого момента мы слились в неразлучности.
Бурлюки сейчас же познакомили с Кульбиным, Якуловым, Лентуловым, Ольгой Розановой, Ларионовым, Гончаровой, Татлиным, Малевичем, Филоновым, Спандиковым.
Все эти крепкие, здоровые, уверенные ребята мне так замечательно понравились, будто в жизни я их только и искал.
И вот нашел, и расставаться не хочется: ведь то, о чем бурно говорил Бурлюк, сам целиком стихийный, начиненный бурями протеста и натиском в будущее, убежденный в новаторстве, многознающий, современный человек культуры, — все это жило, существовало, действовало, говорило во мне.
На другой же день я был у Бурлюков, ровно с ними родился и вырос.
Я читал свои стихи, а Давид — свои.
Я говорил свои мысли об искусстве будущего, а Давид продолжал так, будто мы строили железную дорогу в новой, открытой стране, где люди не знали достижений сегодняшней культуры.
И в самом деле это было так.
Бытие определяет сознание.
Мы превосходно видели и сознавали, что величайшая область русского искусства, несмотря на революцию 1905 года, оставалась ничуть не задетой новыми веяниями, освежающими ветрами из утр будущего.
Мы великолепно сразу поняли, что в этой широкой, высококультурной области надо взять почин-вожжи в руки и действовать организованно, объединив новых мастеров литературы, живописи, театра, музыки в одно русло течения.
И, главное, мы уразумели истину, что должны апеллировать непосредственно к публике, к толпе, и особенно к передовой молодежи, чтобы наше движение приняло общественный характер, чтобы мы стали самой жизнью, а не книжной канцелярией исходящих и входящих образцов искусства.
Умудренные революцией, мы теперь знали, что для успешного переворота в искусстве нам нужны стойкие соратники, вооруженные блестящей техникой мастерства.
В отношении литературы я предложил двинуть Хлебникова, о котором рассказывал в самых восторженных утверждениях:
— Хлебников — гениальный поэт!
И привел Хлебникова к Бурлюкам.
Давид Бурлюк с величайшим вниманием прослушал хлебниковские вещи и подтвердил:
— Да, Хлебников — истинный гений.
Теперь Хлебников почти переселился к Бурлюкам и даже вместе с ними уехал гостить на лето в Херсонскую губернию, где жили бурлюковские родители.
Меж тем Брешко-Брешковский напечатал в «Биржевке» статью «Мальчики в коротеньких куртках», в которой отчаянно разругал Бурлюков и Кульбина.
Это же, конечно, проделали и другие газеты.
Зато «Весна» восхвалила новых художников и дала их картины в репродукциях.
На лето я уехал в Пермь и поселился в глухой деревушке Новоселы.
Там, на речке Ласьве, нашел заброшенную землянку, уладил ее по-хорошему и стал жить, работать по агрономии (наверстывать пропущенные лекции), по литературе.
Много охотился за рябчиками, утками.
Много сжег костров на берегах.
И немало гулял по Новоселам с деревенскими ребятами, играя на гармошке, распевая частушки, прославляя молодость.
Энергии хватало на все и даже оставалось на то, чтобы помогать крестьянам косить траву и пилить дрова в лесу.
Здесь набирался здоровья для борьбы впереди.
Здесь учился у птиц петь струистые, сочные звенящие песни.
Здесь в громовые часы гроз думал о том, что вот так бы, как гроза идет, уметь писать, уметь говорить молниями, вызывая гром восприятия читателей.
В эти стихийные часы писал — не на бумаге, а в голове, — сочинял песни о Степане Разине:
Мысль написать о Степане Разине пришла здесь и казалась самой заманчивой идеей: ведь эта крепкая дума жила во мне с детства, росла вместе со мной как сестра родная.
Перед отъездом в Петербург, осенью 1909 года, в Пермском научном музее я прочитал первую публичную платную лекцию «Путь молодой литературы».
Зеленые афиши с оригинальной конструкцией шрифтов, расклеенные по городу, острые тезисы темы собрали полный зал публики, среди которой находились П.А. Матвеев, железнодорожники, студенты, родственники.
Лекция кончилась стихами Хлебникова под недоумевающие улыбки одной части аудитории и под одобрительные хлопки другой.
Я видел, с каким радостным любопытством слушали меня бывшие сослуживцы-железнодорожники, будто говорившие: вот он, наш Вася, — не пропал.
Я, конечно, гордился первым успехом в “отечестве своем” и, как на крыльях, улетел в Петербург.
К этому времени вернулись из Херсонской губернии Бурлюки с Хлебниковым.
К двум Бурлюкам присоединился третий брат — Николай Бурлюк, студент, поэт нашего лагеря.
Давид нашел еще одного поэта — Бенедикта Лившица.
Армия левых росла.
Энергичный профессор Военно-медицинской академии статский советник Николай Иванович Кульбин, прозванный в фельетонах за свой либеральный импрессионизм и возню с бурлюками „сумасшедшим доктором“, теперь организовал громадную выставку картин левых течений.
Мы, бурлюки (в печати нашу группу так “бурлюками” и называли), придавали этой выставке решающее значение, так как здесь удобно было объединить, наконец, всех крупных мастеров левого движения искусства.
Следует сказать, что в это время я работал по живописи в открывшейся студии Давида Бурлюка, сделал картину и повесил на выставке, как настоящий художник.
Наш организационный план удался.
По части исканий и теории современного театра к нам вошел самый известный и модный режиссер той поры Николай Николаевич Евреинов.
По части музыки — двое молодых композиторов и отличных пианистов: Анатолий Дроздов и Лурье.
По части живописи: Бурлюки, Якулов, Ларионов, Гончарова, Ольга Розанова, Лентулов, Матюшин, Малевич, Татлин, Кульбин.
По литературе: Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский и Елена Гуро.
С Еленой Гуро (она принесла также свои картины) мы познакомились на выставке перед открытием, пошли к ней, прослушали ее замечательные произведения и сразу сдружились на почве родственного мастерства.
На этой же выставке я увидел необыкновенную пару: этакого вихрастого высоченного роста юношу, пошвыркивающего нервным носом, и рядом — чуть поменьше длиной — красавицу блондинку.
Это оказались соучастники выставки художники Эля и Борис Григорьевы.
С такой отменной парой не познакомиться было невозможно, потому что картины Бориса Григорьева по качеству были не меньше его роста, а сами Григорьевы — нестерпимо симпатичны.
Мы поприветствовались, пошли к ним пить чай во стихами и с этого вечера стали великолепными друзьями.
Григорьевы до умопомрачения любили Кнута Гамсуна, восторгались стихами Хлебникова и моими, много читали, работали и вообще были энтузиастами — это нас крепко связало.
От знакомства с Н.Н. Евреиновым также осталось обаянье сверх меры одаренного человека.
Николай Иванович Кульбин представил его так:
— Вася, перед тобой — блестящий Евреинов. Это не человек, а фонтан интеллекта. Везувий до безумия.
— Эти комплименты я уступаю вам, Николай Иванович, — улыбался из-под своей челки склонившийся Евреинов, — как отвечающие действительному адресу.
Кто из этих двух рыцарей искусства был прав, трудно сказать, ибо оба мне нравились.
Кульбин, работавший по медицине и занимавшийся левой живописью, Кульбин — настоящий ученый и он же пламенный фантазер, — разве этого мало для любви?
И мы любили его.
Мы часто собирались у него на квартире, рисовали, читали стихи, обсуждали планы дальнейших работ, слушали новые композиции Анатолия Дроздова, Лурье.
Эти же пианисты прекрасно играли Скрябина.
Бурно мы готовились к следующим выставкам, так как минувшая выставка привлекла громадное внимание и вызвала горячие разговоры о невиданных картинах современной живописи.
Брешко-брешковские с возрастающим озлоблением издевались в своих обывательских газетах над “бурлюками” и “сумасшедшими врачами”, пороли всякую несусветную чушь о новом искусстве, лишь бы гуще затмить мозги несчастных читателей, лишь бы обильнее напакостить в будущее, лишь бы этим глумленьем развлечь буржуазное петербургское общество.
Но мы, разумеется, не унывали, а, напротив, торжествовали, что задели за живое будуарные вкусы всяческих критиков, этих расторопных официантов при сытых столах гогочущих господ.
Однако успеха картинных выставок нам было далеко не достаточно; и теперь, набравшись сил, организовавшись в крепкую, дружную группу, наша литературная часть решила бросить бомбу в уездную безотрадную улицу общего литературного бытия, где декаденты уступали в конкуренции с порнографией, где мистики символизма тонули в бумажных морях Пинкертона, где читатели тупо совались от Бальмонта к Вербицкой и обратно.
Главное — нестерпимая скука жила на улице литературы, как в стоячем болоте.
Недаром Алексей Ремизов разводил чертей, жаб, домовых, леших, банных, кочерыжек.
Недаром стены ремизовской квартиры густо разукрашены коллекцией рогатых, хвостатых чертей всякого преисподнего происхождения.
Да и сам Ремизов походил на колдуна-шептуна, что, впрочем, не мешало ему писать крепкие, как бражное пиво, сказки и наворачивать сумбурные “сны”.
Нам также нравился Александр Блок, но он ежился от холода непонимания и в одиночестве шел “своей стороной”.
Я бывал у Блока на квартире, на Галерной улице, и уходил от него с болью: вот, мол, какой он громадный, культурный поэт, а живет будто на пустынном острове — в своем тихом синем кабинете, под большим синим абажуром и на письменном столе — синие конверты.
И сам Александр Александрович одет в синюю блузу с байроновским воротником.
Блок удивлялся и тихо спрашивал:
— Откуда вы черпаете столько энергии, жизнерадостности?
Я объяснял, а он говорил:
— Для этого, очевидно, надо жить на людях — я не умею так. С головой увяз в книги и вот сижу зарытым, и, мне кажется, меня мало понимают или, вернее, совсем не понимают. Я как-то вне этой общей жизни, и, знаете, меня к ней не тянет.
Так по-блоковски, по-ремизовски, по-бальмонтовски, по-андреевски, по-купрински, по-арцыбашевски, по-вербицки, по-мережковски все писатели жили в одиночку, врассыпную, вне общей жизни, оторванные, отрезанные от читателей.
Правда, в религиозно-философском обществе выступали с докладами Мережковский, Философов, Гиппиус, Вячеслав Иванов.
Но эти сектантские собрания были столь специфичны, что лишь углубляли тоску стоячего болота.
Мережковский рассуждал на тему о том, что русский народ считает себя Авелем, а интеллигенцию — Каином и что может так случиться, если роли переменятся, что Каин убьет Авеля.
И было непопятно, кто же в конце концов кого убьет и почему?
Ибо по этому поводу „народ безмолвствовал“.
У народа был свой враг — монархия и буржуазия.
Но об этом писатели говорили шепотом.
И только такие отборные публицисты, как Гершензон, П. Струве, Бердяев, Изгоев, Булгаков, Франк, нашумели в этот год своими «Вехами», сборником статей о русской интеллигенции.
Эта книга „жгучей тревоги за будущее родной страны“ являлась проверкой духовных основ интеллигенции, потрясенной пораженьем революции 1905 года. Цель: „Уразуметь грех прошлого“ и указать, что „путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик“.
И верно: превосходные знатоки русской интеллигенции блестяще доказали жуткую безвыходность тупика.
Громадным пессимизмом разочарования веяло от «Вех», как и безнадежностью провидения новой интеллигенции, более способной на решительные дела освободительного движения.
А пока — поражение, азефовщина, покаяние, богоискательство, угрызения совести, оторванность от народных чаяний.
И зеркало — литература.
Вообще литературная жизнь того времени напоминала нудную польку из андреевской «Жизни человека» — эту пьесу поставил у Комиссаржевской знакомый Мейерхольд, за исключительной работой которого я следил теперь издали.
Ну ясно, что газеты ругали Мейерхольда, как и все, выходящее из лакированных рамок обывательского серо-будничного бытия.
Надо отдать полную справедливость газетам и журналам той тяжкой поры черной реакции (наша «Весна» давно кончилась): всякое новое проявление в искусстве печать встречала остервенелыми глазами и бешеным лаем из подворотни хозяйских домов благополучия.
О, тем приятнее нам было швырнуть свою бомбу — начиненную динамитом первого литературного выступления общую книгу «Садок Судей».
Мы великолепно понимали, что этой книгой кладем гранитный камень в основание “новой эпохи” литературы, и потому постановили:
1) разрушить старую орфографию — выкинуть осточертевшие буквы ять и твердый знак;
2) напечатать книгу на обратной стороне комнатных дешевых обоев — это в знак протеста против роскошных буржуазных изданий;
3) выбрать рисунок обоев бедных квартир и этот рисунок оставить чистым на левых страницах как украшение;
4) дать матерьял только “лирический”, чтобы нашу книгу не могли конфисковать власти по наущению газет, от которых ожидали травли;
5) авторы: Хлебников, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Елена Гуро, Мясоедов, Е. Низен, рисунки Влад. Бурлюка;
6) издать «Садок Судей» на товарищеских началах;
7) по выходе книги появиться всем где возможно, чтобы с «Садком Судей» в руках читать вещи и пропагандировать пришествие будетлян (от слова ‘будет’, по Хлебникову).
С громовой радостью мы собирались у меня на квартире, на Фонтанке, и делали книгу.
Да! Это был незабываемый праздник мастеров-энтузиастов-будетлян.
Хлебников в это время жил у меня, и я не видел его более веселого, скачущего, кипящего, чем в эти горячие дни.
Он собирался весь мир обратить в будетлянство и тут же предлагал прорыть канал меж Каспийским и Черным морями.
Я поддерживал Хлебникова во всю колокольню:
— Витя, давай, гуще давай проектов, шире работай мотором мозга, прославляй великие изобретенья аэропланов, автомобилей, кино, радио, икс-лучей и всяческих машин. Ого! Мир только начинает, его молодость — наша молодость. Крылья Райтов, Фарманов и Блерио — наши крылья. Мы, будетляне, должны летать, должны уметь управлять аэропланом, как велосипедом или разумом. И вот, друзья, клянусь вам: я буду авиатором, черт возьми. Что стихи? Что наша литературная бомба? Ведь это только звено из цепи наших возможностей, кусок из арсенала энергии.
Давид Бурлюк в упор смотрел на меня в лорнет и ржал жеребцом:
— Вася на аэроплане! Вася — птичка! Вася на крыльях с пропеллером! Поэт-авиатор! Вот это дело, достойное храброго будетлянина.
Хлебников, будоража волосы, то корчился, то вдруг выпрямлялся, глядел на нас пылающей лазурью, ходил нервно, подавшись туловищем вперед, сплошь снял от прибоя мыслей:
— Вообще... будетляне должны основать остров и оттуда диктовать условия... Мы будем соединяться с материком посредством аэропланов, как птицы. Станем прилетать весной и выводить разные идеи, а осенью улетать к себе.
Сверхреальный Давид Бурлюк наводил лорнет на нездешнего поэта и спрашивал:
— А чем же мы, Витя, станем питаться на этом острове?
Хлебников буквально пятился:
— Чем? Плодами. Вообще мы можем быть охотниками, жить в раскинутых палатках и писать... Мы образуем воинственное племя.
Володя Бурлюк, делая за столом рисунки для книги, хохотал:
— И превратимся в людоедов. Нет, уж лучше давайте рыть каналы. Бери, Витя, лопату и айда без раз говоров.
Тогда Хлебников терялся, что-то шевелил губами и потом заявлял:
— Мы должны изобрести такие машины... вообще...
А вообще нам было беспредельно весело.
Нереальные, но прекрасные фантазии Хлебникова сталкивались с трезвой реальностью наших натур, и от этого происходил треск взаимных восторгов.
Давид Бурлюк был старшим в нашем братском будетлянстве; он значительно больше нас знал жизнь искусства, полнее насыщен был теоретическими познаниями, остро владел установившимся, точным вкусом и потому, по существу, являлся нашим учителем.
Его концентрированный темперамент, размах широкой воли к действию, пружинная убежденность открывателя, возрастающая настойчивость в борьбе за новое искусство, за нового человека на земле заражали нас до степени обоснованного упорства, делали нас сознательными, энергичными мастерами, вырабатывали из нас людей современной формации.
И когда, наконец, вышла наша первая “историческая” книга «Садок Судей», мы превосходно знали, о чем и как надо разговаривать с окружающим обществом.
Бомба была брошена умелой рукой, в подходящее место и время.
С оглушительным грохотом разорвалась эта бомба на мирной, дряхлой улице литературы, чтобы заявить отныне о пришествии новой смены новых часовых, ставших на страже искусства по воле пришедшего времени. Это совсем замечательно, что критики, писатели, буржуи, обыватели, профессора, педагоги и вообще старичье встретили нас лаем, свистом, ругательствами, кваканьем, шипеньем, насмешками, злобой, ненавистью.
Газетные брешковские-измайловы-яблоновские-суворины крыли нас обойными поэтами, Геростратами, мальчишками-забияками, сумасшедшими, анархистами, крамольниками.
О, конечно, крамола была: только за одно уничтожение священной буквы ять нас клеймили позором безграмотности и шарлатанства.
Однако наша ставка, наша опора на передовую молодежь оказалась вполне верным расчетом.
Достаточно было появиться мне и Николаю Бурлюку в университете, на женских курсах, на сельскохозяйственных, достаточно было, размахивая «Садком Судей», выступить со стихами и речами о будетлянстве, как вихрь бурной, бушующей юности циклоном приветствий охватывал огромные аудитории.
Здесь, среди штормового моря молодежи, мы нашли свое первое торжественное признание и знали, что пребудем в этой чудесной молодости до скончанья дней впредь.
Вот это была истинная опора, стена, крепость.
Сам студент (я до этой поры держал постоянную связь с курсами, посещал лекции, участвовал в студенческих организациях), сам активный работник, близко знакомый студенчеству по прежним литературным трактатам, я был здесь дома, среди своей дружины, и мне верили, что зря, на ура стоять за кафедрой не буду.
Всегда чувствовал, знал, видел, что ребята ждут от меня нового, горячего слова.
Помню: будто автомобильные прожекторы горели в движении глаза густой массы молодежи, сердца работали моторами, лица сверкали ракетами, руки взрывались грохотом восторгов, прерывая неслыханные мысли о пришествии будетлян.
Главное — все единодушно понимали, что суть нашего пришествия не только в книге «Садок Судей», но в тех огромных затеях будущего, за которое мы энергично взялись в надежде на поддержку армии передовой молодежи.
Так, через тупые головы газет, критиков и обывателей, но с действующей армией таких же будетлян, мы начали свое дело.
Так в 1909 году основался в Петербурге российский футуризм.
Правда, тогда мы, будетляне, базируясь на производстве новых слов русского языка, не называли себя футуристами, ибо не могли знать, что в следующем году сумбурные телеграммы газет как очередную заграничную сенсацию поднесут известие о появлении на свет итальянских футуристов во главе с Маринетти.
Но “будетляне” и “футуристы” — аналогия значенья слов полная, бесспорная.
Из сказанного до сих пор совершенно ясно, что зарождение нашего русского футуризма, наша “революция в искусстве”, наша борьба за новое искусство и наши работы — явления исключительной самостоятельности, продиктованные временем и кризисом, отсталостью, мертвечиной, пессимизмом, мещанством, пошлостью старого искусства.
И вот здесь следует заявить о полнейшей безграмотности наших доморощенных критиков, которые даже и сейчас (ведь двадцать лет миновало!) пишут “под вид ученых”, что-де мы, футуристы, все, огулом пошли от Маринетти.
Для критиков все делается просто.
И какое им дело, что «Манифесты итальянского футуризма» появились в переводе Вадима Шершеневича в 1914 году.
Только в 1914-м — это когда мы уже целых пять лет, как известно, властвовали по всей России, объездив с лекциями, диспутами, произведениями, пропагандой почти все города.
Ведь недаром в ушах звоном гудело эхо от недавнего землетрясения, когда в первый раз, раскаленный молодежью, я прочитал с огнем в зубах:

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 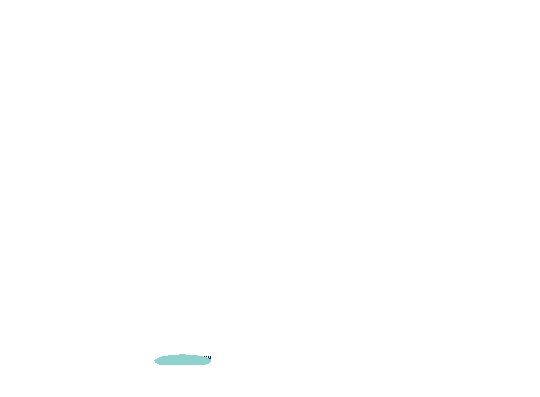 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||