



Безусловно, мы сияли именинниками.
Наш успех был таков, что мы носились всюду угорелыми, пьяными от молодости и удачного начала.
Даже скромный Витя Хлебников, проживавший у меня, на Фонтанке, повел себя необычайно.
В одно из утр мы встали рано; я пошел в лавку купить ветчины и сыру для завтрака и, когда вернулся, остановился в дверях изумленный: Витя смотрел в окно с четвертого этажа и, залитый солнцем, с полотенцем в руках, пел.
О, как он пел! Тончайшим голоском, будто ниточкой, Витя разматывал какую-то невероятную мелодию с еле уловимыми нюансами.
Так поют персидские пастухи на высоких горах, и мне вспомнилась чудесная Персия — так и потянуло туда, в путь, к Тегерану.
Застыл в дверях, слушаю, удивляюсь: откуда он знает персидскую песню.
А он пел да пел, ну совсем как в Персии, и остановиться не может, и слова непонятны.
Возбужденный, я тихонько побежал вниз, купил бутылку красного вина, которое очень любил Хлебников.
Вернулся, а он все поет, но, когда кончил, взглянул на бутылку, обрадовался:
— Замечательно. Очень кстати.
— Это тебе, Витя, за персидскую песню.
Он гордо просиял.
— В таком случае я всю бутылку выпью один.
— Пожалуйста.
И он выпил, ликуя, что пьет один. Впрочем, он знал, что я не люблю красного вина и вообще утром предпочитаю кофе.
Спросил:
— Откуда ты знаешь персидскую песню?
Хлебников втянул голову в плечи, потер лоб, по-детски выпятил губу:
— Персидскую? Вообще... будетляне должны двинуться на восток... Там лежит будущее России. Это совершенно ясно. Мы обязаны об этом написать и объявить народу.
А пока что мы, отзавтракав, побежали к Матюшиным, то есть к Елене Гуро, мужем которой был художник и музыкант Матюшин, превосходный, умный будетлянин, композитор.
Мы решили поздравить Елену Гуро с вышедшей большой книгой «Шарманка», где ее исключительное дарование было густо, ветвисто и стройно, как сосновая роща.
И сосновым теплом веяло от всей книги.
Легко дышалось при чтении книги Елены Гуро, и хотелось любить каждую каплю жизни.
И мы бесконечно умели любить жизнь, мир и этот деревянный домик на Песочной, где обитала Елена Гуро в гнезде своих слов:
А доля Елены Гуро в том была, что потеряла мать единственного сына-младенца и не могла смириться с горем.
Елена Гуро не поверила смерти сына, а вообразила, внушила себе, что жив сын, продолжает жить около матери.
И вот считает Елена Гуро дни, недели, месяцы, годы сыну своему, ежечасно видит его растущим; игрушки, книжки с картинками покупает ему, и на его детский столик кладет, и ему стихи, сказки сама пишет, рассказывает.
И больше — пишет с него портреты, одевая сына по степени возраста.
Вот она какая, эта удивительная Елена Гуро.
Когда мы с Хлебниковым восторженно поздравляли Елену Гуро с выходом в свет «Шарманки», она волновалась:
— Вот если бы меня так поздравили критики. Но этого никогда не будет, как не будет ума и вкуса у наших критиков, как не хватит уменья отличить меня от Вербицкой. Впрочем, что я болтаю — ведь им Вербицкая в тысячу раз ближе по глупости и пошлости.
Так, конечно, и было.
О Вербицкой писали, а о Елене Гуро тупо молчали, бойкотировали.
Наше содружество жило, росло, крепло в умах-сердцах восторженной молодежи. На молодежь ставили карту.
Зеленый мыс, возле Батума.
Там, среди бананов, пальм, камелий, магнолий, бамбука, апельсиновых деревьев, мандариновых кустов; там, купаясь в море, валяясь на пляже под “турецким” бывалым солнцем; там, обветренный солеными ветрами, напряженный, наполненный, несущийся, как парус, работал, писал роман «Землянка», вспоминая новоселовскую жизнь в шалаше, где вел записки, наблюдения.
И эти записки мне помогали, как вокруг поющие птицы и близость моря.
Я любил писать и думать на севере о юге, а на юге о севере.
На круче гор трапезундских любил ощущать горячее дыхание самой жизни.
Что стихи, литература?
Это прекрасно, это дает многое, но это не больше парохода в море возможностей, а жизнь не знает пределов; жизнь широка, многообразна, изобретательна и ух как зовет для свершения невероятных дел...
Да, да, это — молодость!
Ветры, вихри, штормы, борьба, буйные затеи, даль, ширь, размах, воля, новизна — вот это будоражит, наполняет, пьянит и раскачивает так, что еле держишься на ногах.
Так бы, откинув гриву, бежать и бежать необузданным конем по степи цветущих дней.
В такие хмельные дни нелегко работать, нанизывать бисер букв на канву замысла.
Одно успокаивает: совершенно новая форма романа, со сдвигами, с переходом прозы в стихи и обратно — в прозу.
Друзья поддерживали письмами.
Давид Бурлюк, между прочим, писал:
Хлебников откликался из Святошина посланием:
К посланию прилагались стихи поэта и нарисованные морды с выпученными глазами, как у Брешко-Брешковского.
Дружеские письма отрезвляли, втягивали в работу, для окончания которой уехал в Пермь.
Там жил на камском берегу в лесной глуши, рыбачил, палил костры, бродил с ружьем по озерам, вдыхал тайгу, купался в Каме, катался на лодке, продолжал «Землянку».
В сентябре с законченным романом явился в Петербург.
И скоро книга была готова: напечатало издательство «Общественная польза», которым ведал С. Елпатьевский.
Отделом хозяйственным управлял Влад. Бонч-Бруевич.
Вообще это издательство отличалось красной идейностью.
Обложку и рисунки для «Землянки» делал Борис Григорьев.
Надо сказать, что перед появлением на свет книги в разных кружках я читал отрывки из нее.
На одном из чтений присутствовал известный критик А.А. Измайлов, который заявил мне:
— Поздравляю. Книга прекрасная, оригинальная, о ней будут говорить. Я лично напишу большую статью в «Русское слово», в «Биржевые ведомости». Прошу вас в первый же час выхода «Землянки» прийти ко мне в «Биржевку» с романом.
Неожиданное внимание критика тронуло.
Даже думал: вот повезло.
Ибо «Русское слово» расходилось по России колоссально: там были собраны все лучшие “имена” журналистов и писателей.
Появление статьи в «Русском слове» о новом писателе означало получить известность.
Меня, как выражаются, ждала известность.
Мне завидовали друзья, поздравляли. Но рановато.
В счастливый час рождения «Землянки» я схватил несколько книжек, горячих экземпляров и погнал на извозчике к Измайлову согласно уговору.
В приемной солидного предприятия долго ждал.
Наконец вышел ко мне худой, с лицом святого, в черном сюртуке Измайлов, холодно поздоровался и удрученно сказал:
— Ах, это вы. Но, милый мой, граф Лев Николаевич Толстой вчера ночью скрылся из дому и неизвестно где находится. Графа всюду разыскивают, и один бог знает, найдут ли. Вы сами понимаете, какое это великое событие, и мне, откровенно говоря, не до вашей книги. Но вы оставьте экземпляр мне. Если обойдется благополучно, напишу, как обещал.
Я вышел на улицу эгоистически опечаленным: ведь надо же было Льву Толстому скрыться из дому в ночь выхода моей «Землянки».
Это роковое сцепление обстоятельств огорчило меня окончательно: хотя Толстой нашелся, но заболел, а потом пришла смерть.
И действительно, весь мир был занят великой кончиной Толстого, и ясно, что было не до моего романа.
Но жизнь есть жизнь.
Еще в прошлом году дал клятву друзьям, что буду авиатором. И вот теперь, когда все человечество радовалось “завоеванию воздуха”, когда в Петербурге прожужжали над изумленными головами первые аэропланы, я решил осуществить свою честную клятву.
Меня нестерпимо потянуло к крыльям аэроплана, да так потянуло, что лишился покоя и места на земле.
Захотелось приобщиться к величайшему открытию не на словах, а на деле.
Что стихи, романы?
Аэроплан — вот истинное достижение современности. Авиатор — вот человек, достойный высоты.
Уж если мы действительно футуристы (теперь назывались футуристами), если мы — люди моторной современности, поэты всемирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего, мастера дела и действия, энтузиасты-строители новых форм жизни, — мы должны, мы обязаны быть авиаторами.
Пусть отныне запах бензина и отработанного масла, пусть гладкая ширь аэродромов и готовые к отлету аппараты — эта жизнь да будет отныне.
Отныне петербургский аэродром стал местом моего “вдохновения”.
И новые друзья — первые авиаторы Ефимов, Васильев, Российский, Уточкин, Лебедев.
После первых полетов на “фармане” с В.А. Лебедевым я так окрылился, что земным больше не считал себя — весь ушел на воздух, всем существом слился с аэропланом.
И песней моей была жужжащая работа авиационных моторов.
Знаменитый спортсмен, велосипедный гонщик, авиатор, прославленный остряк, С.И. Уточкин, этот рыжий веселый заика в котелке, говорил мне:
— Ппп-оезжай, ббрат, в Париж, ттам тебя всему научат, и, кстати, ллетать. А если рразобьешься вдребезги, то оппять же в Пп-ариже, а не где-нибудь в Жжжме-ринке.
Через двадцать четыре часа после слов Уточкина я получил заграничный паспорт.
И дальше началось, завертелось все, как в кино.
Экспресс сломя голову катит меня в Европу,
Вот и Берлин.
Встречают огромные предберлинские рекламные плакаты.
Смотрю: прямо по крышам домов несется городская железная дорога.
Автомобиль увозит в отель.
Прежде всего — предместье Иоганнисталь, здесь аэродром, ангары, аэропланы.
В первый раз вижу “воздушный корабль” — дирижабль Цеппелина.
Здесь же идет проба нового моноплана немецкого изобретателя.
Около аппарата — сам конструктор, в авиаторском костюме (штаны и куртка соединены в одно платье), без шлема. Он — молодой, кудрявый, русый, с голубыми глазами — очень волнуется, ибо до этого никогда не летал, а тут сразу решается на полет.
Про него говорят:
— Герой. Он не желает подвергать опасности авиаторов, не зная сам, что выйдет.
Но он ничего — улыбается, проверяет фюзеляж, шасси, крылья и тихонько бросает:
— Уведите подальше жену.
Садится. Заводят пропеллер.
— Контакт есть?
— Есть.
Мотор гудит.
Изобретателю дают шлем, но он отмахивается.
Дает знак — держащие за крылья отпускают аппарат.
Моноплан долго бежит, потом круто взмывает, летит и в конце аэродрома, на вираже, стремглав падает.
Раздается треск.
Все несутся туда.
На велосипеде пронесся санитар с аптечкой.
С места катастрофы кричат:
— Жив! Жив!
Бегут фотографы с аппаратами.
Это „жив!” радостно раздается кругом.
Героя ведут под руки навстречу рыдающей жене. Он ее успокаивает, целует, садится в автомобиль, и они едут к разбитому аэроплану.
А через четверть часа другой авиатор пробует другой моноплан, тоже немецкой конструкции.
Этот удачнее: сделал круг и опустился, но чуть не налетел на снимающего фотографа, выбежавшего вперед.
Несчастный фотограф со страху перевернулся с аппаратом несколько раз.
В толпе у дирижабля я услышал:
— Кнут Гамсун.
Говорили, что здесь был Кнут Гамсуы.
Вечером в артистическом кафе, на Фридрихштрассе, я пил баварское пиво и сквозь сигарный дым и шум снова услышал:
— Кнут Гамсун.
Стал осматривать столики и сразу узнал по фотографиям: у окна в сером костюме — в крупную нитку — сидел мой любимый писатель, склонившись над тарелкой с сосисками.
Заметил, как нервно шевелились его усы с проседью и волосы не были всклокочены, как на портретах.
Он деловито съел сосиски и пошел, но у самого выхода ему зааплодировали — он снял шляпу и прибавил ходу.
А я думал о «Пане» и «Виктории»: несомненно Гамсун сам был Томасом Гланом и Иоганнесом.
Нет, нет, Глан не умер в Индии от нечаянного выстрела на охоте.
Я его видел — он жив.
Из кафе я отправился в цирк — смотреть «Эдипа» в постановке Макса Рейнгардта.
Эдип-Моисси — отличный мастер голоса и игры. Постановка массовая, с прожекторами — этого нигде не видел и потому возношу Рейнгардта, как Колумба театра.
Весь следующий день провел в изумительном берлинском зоологическом саду, где одна обезьяна, когда ей давали шоколад, посылала воздушный поцелуй и говорила: „Гут. Данке”.
Бродил по зоологическому и вспоминал прекрасную хлебниковскую вещь «Зверинец» из «Садка Судей»:
Но никто не заметил «Зверинца» Хлебникова.
Нет, легче не думать об этом.
Летать, летать! Лишь бы не знать обид и тяжестей на литературном базаре, где гениальность Хлебникова — самый ненужный товар.
Вперед. К цели.
Экспресс несет в Париж.
И вот столица первого провозглашения коммуны, столица Европы, столица искусства, столица авиации.
Париж сразу кажется близким, своим городом, где, несмотря на его грандиозность, в три дня почувствуешь себя по-домашнему: кругом веселые, стрекочущие, быстрые французы.
В сравнении с полицейским, военным, чиновничьим будничным Петербургом Париж выигрывает: здесь бурлит, клокочет вечный праздник свободной и легкой, как пух, жизни.
Париж для русского — это воля для арестанта: здесь не видишь тюремных надзирателей николаевской рабской России.
Я поселился в «Гранд-отеле» на площади Гранд-Опера, в 826-м номере.
И сразу поразился: у меня не спросили паспорта, а только записали, что № 826 занят месье Базиль Каменским.
При каждом номере — балкончик.
С балкона, как с аэроплана, виден Париж: ажурно-железная башня Эйфеля, гигантское колесо карусели, Луксорский обелиск, Триумфальная арка, Июльская колонна на площади Бастилии, бесконечные бульвары, собор богоматери, мосты через Сену, Пантеон — место погребения великих людей Франции.
И еще очень много всяких знаменитых, исторических возвышений и просто великолепнейших зданий высокой культуры.
Словом, Париж есть Париж, и для описанья его требуются книги и уйма времени.
Меня же в столице авиации, в этот воздушный период, интересовал только аэродром в Исси-ле-Мулино, что под боком Парижа.
И тут я, действительно, был потрясен. Масса ангаров, масса аэропланов различных систем, которые теперь ушли в область интересных воспоминаний о “детстве авиации”: “блерио”, “фарманы”, “антуанетт”, “райты”, “вуазены”, “заммеры”, “ньюпоры”, “савари”, “бреге”, “демуазель”, “сольние”, “кодроны”, “куртиссы”, “теллье”, “анрио”.
И почти все изобретатели французских конструкций были здесь, в Исси-Мулино, на пробных полетах с каждым днем совершенствовавшихся аэропланов и авиаторов.
Шла страшная, не на жизнь, а на смерть, конкуренция авиационных фирм.
Самыми популярными в то время были монопланы Блерио и бипланы Фарманов, Анри и Мориса.
Здесь же были школы пилотов-авиаторов и мастерские авиационных моторов.
Я решил летать на монопланах Блерио, переговорил со знаменитым изобретателем, и он послал меня прежде всего в мастерские, чтобы научиться разбирать и собирать моторы Анзани и ротативные Гнома.
Предварительная теоретическая подготовка у меня была еще в Петербурге: готовился у В.А. Лебедева, большого знатока-инструктора.
В парижских мастерских, под руководством старшего механика, я работал много, усердно, успешно и скоро самостоятельно регулировал моторы.
Явился с письмом механика к изобретателю Блерио; он тут же, на аэродроме, усадил на двухместный моноплан, и я, в качестве пассажира-ученика, полетел, остро наблюдая за каждым движеньем молодого, веселого авиатора-инструктора, который под гул мотора звонко кричал:
— Смотрите. Клеш свободно, на себя — в высоту, от себя — вниз. Равняйте прямую линию. Главное, ногами регулируйте руль хвоста. Слушайте мотор. Следите за смазкой. Контакт выключаем. Планируем.
А в глазах панорама: весь Париж будто встал на дыбы и качается, как исполинский корабль.
Но тут было не до впечатлений: каждая секунда на учете.
На земле авиатор улыбается:
— Все очень просто — надо только уметь.
А в это время — трах! — кто-то грохнулся аэропланом об землю, только столбик пыли повис над разбитым аппаратом.
Суматоха. Беготня.
Мой инструктор курит спокойно:
— Это “антуанетт”. Красивые, но плохие аппараты. Разбили тридцать тысяч франков.
После шести учебных полетов — раз в сутки, так как учеников было много, — мне дали, наконец, сесть на “блерио” с мотором Анзани, но не для полета.
Сначала надо было научиться регулировать, то есть, пустив мотор на полный газ, бегать по аэродрому с поднятым хвостом аппарата.
Это называлось “почувствовать хвост”.
О, какое это было неповторимое счастье — остаться одному на аэроплане и в первый раз в жизни помчаться по аэродрому.
От быстроты выкатывались слезы, а лицо обрызгивалось распыленным касторовым маслом, которым смазывался мотор.
Я чутко “почувствовал хвост”, сделал круг и вернулся.
Тут бы только и нажимать дальше, но большое количество учеников разных национальностей создало очереди да притом еще за отдельную плату стали давать учиться вне очереди и справедливости.
Меня вызвали в контору дирекции и попросили внести очень крупный аванс на случай поломки аэроплана.
Я сообразил, что порчу аппарата могут подготовить по неопытности другие ученики, да и денег у меня не было.
Постановка авиационного дела являлась явно коммерческим предприятием.
Все эти затруднения заставили меня с грустью временно отказаться от ученья под предлогом скорой получки денег “из доходов испанского короля”.
Решил продолжать авиационную работу в России и там сдать экзамен на пилота-авиатора.
Меж тем я насмотрелся в Париже всяческих чудес. На аэродроме в Исси-ле-Мулино видел Анатоля Франса, Метерлинка, Пьера Лоти, Эмиля Верхарна, Анри Бергсона, Гергарта Гауптмана.
Некоторые из них летали с Анри Фарманом на его биплане пассажирами.
Тогда же с Фарманом летал наш знаменитый борец, чемпион мира, волжский богатырь Иван Заикин, который приехал покупать аэроплан.
Из писателей больше других понравился Метерлинк своим внушительным, боксерским видом и открытой жизнерадостностью убежденного спортсмена в шоферских рукавицах.
Видел незабываемое зрелище — весенний карнавал «Микарем»: из провинции Франции прибыли в Париж “королевы”, выборные красавицы, девушки из работниц.
С утра сотни тысяч праздничных парижан — во всяческих маскарадностях, с оркестрами и просто с музыкальными инструментами, с громадными искусственными цветами, плакатами, игрушками, песнями — потоками бурного веселья разливались по бульварам.
«Королевы» в белых платьях сидели на возвышениях движущихся грузовиков, вдрызг разубранных цветами.
С аэропланов бросали в толпу цветы и кучи конфетти.
Вообще круговое сплошное бросание конфетти превратилось в метель, и к вечеру улицы на четверть покрылись разноцветным снегом.
Карнавальный поезд пестрел всевозможными выдумками, в том числе громадными толстопузыми резиновыми надутыми воздухом буржуями во фраках и цилиндрах, изображавшими хозяев-фабрикантов этих “королев” на день.
Побывал, конечно, и в кабачках Монмартра, пробовал абсент — любимое орошение Верлена, Артюра Рембо и многих поэтов, и побывал в знаменитых мюзик-холлах «Мулен-руж», «Альгамбре», где в роскошнейших ресторанах “при театре” бешено кутили с “этуалями” капиталисты всех стран.
Шампанское лилось водопадами сверхприбылей, и сверхприбыли пенились шампанским, радужно отражаясь в густоте дамских бриллиантов.
При одной мысли о существовании рабочего или нашего брата-поэта эти головокружительные оргии капиталистов приводили в ужас, вызывали проклятия, скрежет на всю мировую несуразность двух крайних полюсов человеческого общества, двух непримиримых классов.
И это здесь, в городе парижских коммунаров.
Вообще ночной Париж, весь залитый электричеством, бесшабашным пьяным разгулом и рекламным, открытым развратом, устрашил меня, и этот Париж — ненавистен, противен.
В Лондоне открывалась первая всемирная выставка воздухоплавания.
В Париж прибыл из Петербурга авиатор Лебедев, чтобы поехать в Лондон, на выставку.
Лебедев, как со мной, был хорошо знаком с Фарманом (у него учился летать); и мы, втроем, отправились в Англию.
На океанском пароходе “последнего слова техники” нечаянно попали в сильнейший шторм, в дьявольскую качку; и надо было видеть, как всемирно прославленного бесстрашного авиатора-изобретателя Фармана укачало до сплошной рвоты.
Укачало и меня, но что я в сравнении с Фарманом, этим гением новой эры мира.
Ради одного сочувствия стоило укачаться.
После прибытия в Лондон вся Англия, вместе с выставкой и старинным отелем «Сесиль», где остановились, качались в моих глазах три дня, и при этом весь Лондон действительно был густо окутан туманом — значит насчет туманов говорили верно.
Столица Великобритании после бурлящего Парижа показалась тихой, спокойной, величаво расплывчатой и значительно большей.
Много широких улиц с садами возле домов, вроде русских палисадников.
Главная улица — Пикадилли — апофеоз английского капитала: колоссальные дома, магазины, множество банкирских контор, богатейших фирм и черт их знает каких предприятий по части эксплуатации и загребания деньжищ.
А Сити, лондонский центр торговли? А Вестэнд, центр аристократии? А королевские и всяческие дворцы? Вот где — золото.
Достаточно взглянуть на гавань Темзы и на гигантские ребра мостов, чтобы понять всю неисчислимую грандиозность средоточия мирового рынка.
Так и кажется, что Лондон — это улей, а британцы — пчелы. И вот со всех концов своих далеких колоний эти пчелы несут чужой мед в ненасытный, бездонный улей.
Лондон высится к небу растущими этажами, уходит туннелями под Темзу и глубже в землю, но все ему мало, ибо мед несут и несут.
Недаром англичане даже табак курят варенный на меду.
Всемирная выставка воздухоплавания — в обширном, роскошном полустеклянном пассаже «Олимпия». Под потолком — дирижабль.
Здесь весь цвет Лондона: лорды, герцоги, графы, бароны, маркизы, сэры, мистеры, миссис, мисс, леди, дэнди.
Много приезжих иностранцев из высших сфер.
Картина исключительной чопорности, важности, напыщенности, чванства, самообольщения и глупости.
И почему, собственно, все эти джентльмены и леди заняты “воздухоплаваньем”, никому не известно.
И разглядывают они аэропланы, как коровы пианино.
К их национальной гордости следует добавить, что английских-то аэропланов на всемирной выставке у них полторы штуки, да и те сконструированы под Райта; их представительствует английское общество авиации «Валкирия».
Разумеется, это шокирует гордых британцев, но они я виду не показывают — не узнаешь.
Зато веселые французы, и особенно Фарман, торжествуют: три четверти аппаратов принадлежат им.
На аэродроме в Гендоне, около Лондона, пустота первоначалия: несколько ангаров и столько же аэропланов французских систем — вот и все.
Аппараты — райты «Валкирии» находятся в стадии пробных полетов.
Пока что на аэродроме больше играют в футбол, и играют, скромно говоря, гениально. Фарман смеется:
— Вот если бы англичане так летали.
А по-моему, джентльменам летать не идет: уж очень они какие-то бескрылые, холодные, сжатые, будто в корсетах.
Председателем выставки был лорд Чемберлен.
В честь иностранных авиаторов Чемберлен (англичане его называли Шамберлен) устроил почетный обед, на который, благодаря Лебедеву, получил приглашение и я как русский авиатор, хотя еще не авиатор.
Но лорду все равно, а мне интересно, как обедают лорды: никогда не видал.
Ровно в три часа, из минуты в минуту, к парадным дверям коричневого старого особняка сбежалась куча автомобилей.
В темном прохладном вестибюле все снимали пальто молча, торопливо, при помощи лакея.
Налево, в дверях, гостей встречали хозяева — рыжеватый худой высокий лорд и (на него похожая) его супруга.
Мы прошли в гостиную, обширную комнату, где стоял рояль, черные кожаные кресла, резные стулья, на стенах — портреты королей, королев и, очевидно, государственных деятелей.
За стеклянной перегородкой виднелась столовая — длинный накрытый к обеду стол и высокие ожидающие стулья.
В гостиной все мы стояли кучками и тихо, важно говорили.
Лебедев шепнул, что тут есть и министры. Наконец хозяйка распахнула стеклянную дверь в столовую:
— Плиз ю, джентльмены.
Мы вошли, сели за стол. Лакей и горничная подавали пищу. Тут я заметил сквозь цветные стекла другой стены, что рядом с вестибюлем — еще небольшая комната, и там за столом сидела маленькая группа бритых людей и с ними — две дамы.
Мы начали пить виски, ром, коньяк под тосты Чемберлена за процветание международной авиации, открывающей горизонты.
От щедрого, богатого обеда и обильной выпивки все почувствовали себя авиаторами и стали летать на словах фантазии о воздушном будущем.
Обед кончился пудингом, облитым ликером и зажженным.
Мы перешли снова в гостиную; здесь было предложено шампанское, сигары и кофе.
А в это время один за другим из отдельной комнаты стали появляться бритые люди и исполнять номера пения. Кончив, они исчезали под ленивые аплодисменты курящих джентльменов.
Последними пели две артистки, которые тоже исчезли, к сожалению...
Среди нас была только одна дама, да и та — леди Чемберлен.
Я посматривал на всех и думал о Диккенсе: несомненно, мы были одной из глав «Пиквикского клуба» или, по крайней мере, сидели, как на сцене, разыгрывая какую-то странную пьесу.
И “под занавес”, после сигар и кофе, все разом поднялись и с удовольствием вышли.
Спектакль «Обед у Чемберлена» кончился. На улицах зажглись первые огни. Стало легче, проще, веселее.
Тянуло в Италию.
Проспав на широчайших деревянных кроватях старинного отеля «Сесиль» последнюю лондонскую ночь, мы покинули Англию.
На пути через Ламанш начался отлив — и наш пароход, чуть накренившись, очутился на песках у берегов Франции.
Я, Лебедев и еще несколько спортсменов-американцев спустились по веревочной лестнице и бросились по сырому дну бежать сквозь густой туман к Булоню, ориентируясь на паровозные свистки.
Добравшись, укатили в Париж, где я расстался с Лебедевым, чтобы взглянуть на Италию.
На день остановился в Милане, этом древнем, музейном, застывшем митинге густой массы античных статуй под председательством миланского собора. Даже тихие молящиеся итальянки в Санта-Мария деле Грацие кажутся статуями.
Несмотря на огромность, пышность и претензию казаться современным (над городом летал аэроплан), Милан — паноптикум, музей, наглядное пособие для любителей старины.
Наутро — Рим.
Но столица Италии еще стариннее, хотя убедительнее по части исторических воспоминаний о Ромуле, о берегах Тибра, о семи холмах, о пожаре при Нероне, о попах в Ватикане, о римском праве, о катакомбах.
Словом, Рим кажется давно знакомым и приятельским городом с явным провинциальным уклоном, как его ловко изображают на русских провинциальных сценах в опере и драме.
Право же, Рим такой и есть.
И торгующие всюду произведеньями “искусства” и бесконечными остатками древностей итальянцы дополняют театральное впечатление, азартно предлагая:
— Бона сера, купите настоящий Рим.
Но Рим все-таки Рим, и никакое игривое состояние путешественника не умалит его исторического достоинства.
Меня музейные города не восхищают более одного дня, и тут ничего не сделаешь, когда дальнейшее пребывание обращается в „суку-скуку”.
А вот — Неаполь! Или „посмотри и умри!”
Ну, это совсем иное дело: раз — море, да еще — Неаполитанский залив (одно названье звучит серенадой!), тысячи судов, вдали — дымящийся Везувий, синеющий остров Капри, изумительные окрестности Сорренто, цветистая, как бухарский голубой халат, трепетная гавань и воздух, “дыхание вселенной”, — все это сплошное торжество самоцветной, единственной в мире неаполитанской легенды.
Поэты недаром щедро воспели Неаполь, и неаполитанские песни пахнут лазурью и солнцем.
Капри — памятник Максиму Горькому.
Везувий — неостывающая поэма о гибели Помпеи, Геркуланума и Стабии.
Гавань — чудесная быль о том, как моряки, уставшие скитаться по свету, черпают здесь восторженные силы для дальних плаваний.
Неаполь — это и есть распростертые объятия Италии, куда всех так непреодолимо влечет и где всем хватает места для удивлений.
Между прочим, неаполитанские студенты мне рассказывали, что недавно здесь выступали миланские футуристы, которые ратовали за освобождение Италии от бесчисленных музеев и антиквариев, превративших “страну жизни” в археологические клабища.
Справедливо!
Но что тут общего с нами, русскими футуристами, не понимаю; а расейские “критики” продолжают навязывать нам Маринетти и К°, и вообще наворачивают вздор.
До свиданья, Неаполь!
Надеюсь, мы еще встретимся. Не правда ли?
Пробежал глазами Флоренцию — опять музейный город. Свернул в Венецию.
Ну разумеется, знакомый город: даже улыбаешься, когда смотришь на водяные улицы — каналы с гондолами, на сплошные мосты, на дворцы дожей с “лестницей исполинов”, на соборную площадь Марка с обязательными голубями, где обязательно фотографируют путешественников с голубями на плечах.
Голуби знают свою профессию: едва станешь перед фотографом, как дрессированные птицы, приятно обдувая счастливое выражение лица, садятся на плечи.
Для меня это было особенно приятно: запах голубей напоминал детство и дядю Ваню, когда он, как памятник на пьедестале, целые дни стоял на крыше и смотрел в небо.
Венеция — город небольшой, но удивительный по вечерам, при огнях; он кажется вдруг громадным, таинственным, фантастическим; и круговое пенье баркарол под гитары, в гондолах с фонариками, делает жизнь общим карнавалом густой романтики.
Но пора двигаться к цели.
Дальше — Вена.
Столица легкой, сверкающей, брызжущей, как в Париже, жизни, если, конечно, смотреть внешне, поверху, по-кинозрительному, как приходится мне, пролетающей птице, — без раздумья, без углубленья в сущность видимого, ибо для этого нет времени и не этим занят я, рвущийся скорей стать авиатором.
Тем более — над праздничной, нарядной, кружевной, жизнетрепетной красавицей Веной носятся, блестя на солнце, аэропланы. И уличные толпы приветствуют авиаторов платками, зонтиками, шляпами.
Даже великолепные зданья потеряли серьезность и смотрят в небо радостными окнами.
И радуется Дунай, с упоеньем отражая полеты гигантских птиц.
В дивных кофейнях иллюстрированные журналы полны аэропланами.
Головы всего человечества подняты к небу и застыли в удивлении перед завоеванием воздушного пространства.
Каждый день приносит новые рекорды, новые достижения и новые смерти неустрашимых героев.
У меня дух захватывает, когда слышу гуденье летящего аппарата: почему — не я, а другой счастливец.
Скорей же к цели!
Гоню в Берлин.
Гоню в Петербург.
Повезло!
Благодаря дружбе с авиатором В.А. Лебедевым, который теперь был директором большого Петербургского товарищества авиации, мне удалось приобрести аэроплан “блерио”.
Я перевез аппарат на гатчинский аэродром для тренировки, арендовал ангар.
В Петербурге поселился на совместной квартире с Аркадием Аверченко, на улице Гоголя, около ресторана «Вена», любимого местопребывания всех писателей, художников, артистов, композиторов, адвокатов.
Было начало лета, и все мои друзья футуристы разъехались по домам.
Целые дни я проводил в Гатчине.
У меня для “блерио” инструктора не было (обещал приехать Лебедев, но он на “блерио” не летал, да так и не приехал), и пришлось мне на собственный риск взяться за ученье совершенно самостоятельно.
Сначала я рулировал, бегая по аэродрому с поднятым хвостом аэроплана.
Потом, наконец, решил взять руль на себя и вот, разогнавшись, взял: аэроплан незаметно поднялся и пошел неровно, то и дело норовя качнуться в роковую сторону.
Тут я мигом понял, что нужна величайшая выдержанность и моментальная находчивость: ведь чуть потерялся — и аппарат грохнется.
Не жизни жаль, а — разобьется прекрасная машина.
Я выровнял руль, дал к земле, выключил контакт и чисто спланировал.
Слышу легкий звенящий толчок шасси. Колеса бегут по поляне.
Стоп!
Замираю от счастья...
О, пусть авиаторы ставят рекорды высоты, пусть летают черт знает как головокружительно, пусть получают тысячные призы — я им не завидую, нет!
Этот маленький мой первый полет, моя воздушная дерзость, мой чистокровный риск и удачный спуск — это такой величайший праздник моей жизни, такая личная победа, что, право, не забыть этого никогда во веки веков.
Правда, отсюда еще далеко, высоко до настоящего авиатора, но то, что произошло, легендарно, неповторимо.
И по тому времени первых лет авиации — чудо, если вспомнить о том, какие тогда были несовершенные аэропланы, неустойчивые, жидкие “блерио”.
А мой “блерио” — даже истрепанный.
И еще: я совершил полет без инструктора, полагаясь на небольшой запас технических знаний.
Словом, я соскочил с аппарата баснословным счастливцем.
Несколько сторожей и рабочих при ангарах (они же и аппарат перед полетом держали, ожидая знака поднятой руки — „отпускай!”), эти единственные свидетели моего начала, поздравили с успехом.
Я вернулся домой, в Петербург, именинником, сразу влетел в комнату работавшего Аркадия Аверченко и ему первому поведал восторги.
Аверченко прокричал “ура”, схватил с полки свою новую книгу рассказов, подписал: „От земного Аркадия — небесному Василию”, подарил с объятиями, и мы отправились в «Вену» справить торжество.
Едва чокнулись перед устрицами, подвалили сатириконцы: развеселый Алексей Радаков с бакенбардами Пушкина, долговязый черный Ре-ми, европеец Яковлев, всегда всклокоченный, “точно с постели сброшенный” поэт В. Воинов, тихий, но острый, как шило, В. Князев и совсем тихий, флегматичный Саша Черный.
Перед сном Аверченко прошептал:
— В этот час все желают друг другу спокойной ночи. Ничего подобного, я прошу, в случае смертельного паденья с аэроплана, черкнуть мне открытку с того света: не пожелают ли там подписаться на «Сатирикон».
Я обещал.
А утром, чуть свет, был в Гатчине. В эту тихую, безветренную погоду хорошо тренироваться — так делают все авиаторы.
С трепетом влюбленного я смотрел на свою красавицу птицу, осторожно выводил из ангара на аэродром, пробовал мотор, несколько раз снова бегал на “блерио” по широким полянам и теперь, более уверенный, взлетал, делал виражи и садился благополучно.
Торжествовал.
Вскоре после восхода солнца начинался обычный ветер, полеты прекращались до вечера, когда опять стихало.
В один из вечеров случилась авария: я поднялся, полетел и начал опускаться, как вдруг впереди на поляне появилась лошадь с телегой.
Я сделал крутой поворот и треснулся об землю, сломав хвост “блерио” и поцарапав себе ноги до обильной крови.
Ко мне бросились другие ученики-авиаторы, рабочие, сторожа и помогли выбраться из машины.
Но скоро я отремонтировал аппарат и ноги и уехал с “блерио” в Пермь, на берег Камы, к Нижним Курьям.
Пермь впервые от сотворения мира увидела аэроплан.
Собиралось много народу смотреть на диковину, иные просили разрешения пощупать, потрогать, понюхать.
Обмелевшая Кама обнажила полотна песков, и я использовал этот прибрежный аэродром для дальнейшей тренировки: летал возле берега.
И обязательно старался пролететь мимо идущего парохода — тогда все пассажиры бросались со страху в каюты, палуба пустела, а меня это очень забавляло.
Однако пора было подумать о серьезных полетах на настоящем аэродроме, чтобы сдать экзамен на пилота-авиатора.
Я списался с Варшавой и, захватив “блерио”, уехал туда.
В Варшаве при аэродроме был большой авиационный завод «Авиата» и там же — группа известных авиаторов.
Это меня отлично устраивало.
Да и Варшава — великолепный город.
Здесь сразу все пошло по-серьезному, по-деловому, как требуется.
Авиационный завод Любомирского с большими ангарами внутри двора, а откроешь ворота — громадный аэродром, Мокотовское поле.
Превосходные авиаторы: X.Н. Славоросов, Янковский, Кампо-Сципио, Сегно, Супневский, Лерхе.
Аппараты: “фарман”, “блерио” и новые — австрийской системы — монопланы Таубе.
Среди авиаторов Славоросов — самый замечательный (позже он приобрел за границей имя мирового летчика), самый талантливый рекордист.
Интересно, что этот Славоросов поступил сначала простым рабочим на «Авиату», а потом сразу выдвинулся под облака.
Славоросова я и избрал своим учителем-инструктором для подготовки к сдаче трудного экзамена на получение диплома пилота-авиатора.
Вследствие частых воздушных катастроф теперь были выработаны новые, строгие международные правила для авиаторов, и, значит, надо было действовать энергично, решительно.
Кроме меня, было еще семь начинающих.
Здесь, на Мокотовском аэродроме, текла совсем особенная, своя воздушная жизнь.
Целые дни — среди аэропланов.
В глазах — взлетающие аппараты. В ушах — музыка моторов. В носу — запах бензина и отработанного масла. В карманах — изолировочные ленты.
В мечтах — будущие полеты.
О возможных катастрофах никто не говорил.
Впрочем, каждый думал, что это не его касается.
Шутили:
— Если ты сегодня собираешься разбиться вдребезги, дай мне 50 рублей взаймы.
При заводской конторе была у нас авиаторская комната, где стояло пианино: в ожидании очередных полетов почти все играли и насвистывали самые легкомысленные мотивы модных оперетт.
Славоросов и я были особенными музыкантами циркового стиля: он прекрасно играл на одной струне, натянутой на палку через сигарную коробку, а я — на гармошке, с которой не разлучался.
Вообще авиаторы на земле веселились, как школьники, но едва прикасались к аэроплану — наступало перерожденье: лица отражали сосредоточенную волю, короткие движенья — решительность, скупые, спокойные слова — хладнокровие, выдержку.
Первое время я тренировался на своем “блерио”, но потом, по предложению и по техническим указаниям Славоросова, перешел на австрийский моноплан Таубе, с мотором Даймлера.
После большого пробного самостоятельного полета, после моего жидкого “блерио” крупный моноплан Таубе показался солидным и ровным в устойчивости настолько, что с этих пор я стал летать — и очень удачно — на “таубе”.
Наконец к нам прибыла экзаменационная комиссия во главе со специально приехавшим из Петербурга известным теоретиком авиации Евг. Вейгелиным, представителем Всероссийского аэроклуба. (Он жив-здоров и сейчас и еще недавно много писал в «Красной газете» о ходе красинской экспедиции.)
И вот настало тяжелое утро, когда взволновалось сердце мое: надо было показать себя настоящим, профессиональным мастером авиации.
Строгая, научная пунктуальность знатока-теоретика Вейгелина известна.
Профессор-экзаменатор, под контролем и наблюденьем комиссии, должен был, сидя на извозчике, сигнальными флажками давать мне с земли знаки выполнения требований международных правил.
Я поднялся на “таубе” и, глядя с аэроплана на крошечную лошадь с экипажем, начал одну за другой проделывать восьмерки, все время продолжая следить за сигналами красных флажков.
Летал долго и думал: лишь бы не сдрейфил изношенный мотор.
Но мотор вынес, работал, как и я, исправно, честно, и, наконец, я увидел: сигнализируют дать высоту и планированье с выключенным мотором.
Я исполнил все по совести и хорошо спланировал — прямо к извозчику Вейгелина.
Вейгелин пожал мою руку:
— Поздравляю со званием международного пилота-авиатора.
Поздравили авиаторы, комиссия и рабочие с нашего завода.
Я расцеловал своего учителя Славоросова, как готов был расцеловать весь мир.
За это и любил жизнь, что она не стояла на месте, а шла с солнцем в руках, отмеривая полные, точные шаги, которые мы называем днями.
Ну и отлично!
Я сидел за кофе в варшавской цукерне на Иерусалимской и, перелистывая журналы, спокойно улыбался. Там, в пестроте иллюстраций, видел себя и подпись: «Пилот-авиатор Василий Каменский перед полетом».
О жизнь-панорама!
Думал: почему же не сняли меня, когда я спал в дубовом гробу?
Или — когда сидел в николаевской одиночке?
Или...
Впрочем, не надо пятиться.
Время идет торопливо.
Теперь было такое: почти все авиаторы разъехались по заграницам.
На Мокотовском аэродроме осталось двое: Славоросов и я.
Славоросов собирался тоже на заграничные авиационные состязания и поэтому летал — тренировался, как дьявол, забираясь под облака.
Много летал над Варшавой и я, разглядывая с высоты убегающую ленту Вислы и карточные домики.
Весной на прощанье мы устроили “открытие весеннего авиационного сезона”, собрав массу зрителей.
На другой день телеграммы всех газет России извещали о „замечательных по красоте и смелости” наших полетах.
Да, это были действительно исключительного мастерства полеты Славоросова, ну, а я слегка тянулся за учителем, как мальчик за папой.
Ни к каким рекордам я и не мог стремиться, так как мой аэроплан для этого не годился.
И вообще не в моих правилах жизни было гоняться за славой, которую не ценил никогда, предпочитая иные ценности.
В данном случае я был упорно горд, что достиг своей цели — сумел стать пилотом-авиатором, в чем дал клятву Бурлюкам и Хлебникову, верующим в силы мои.
После весенних полетов (немало перекатали воздушных пассажиров) мы оставили Варшаву.
Славоросов уехал состязаться за границу.
А я взял свой “блерио” и поехал совершать полеты в польских городах, где еще не видали аэропланов.
Сначала все шло хорошо: летал в Калише, Сосновицах, собирая уйму публики.
В Петрокове ломились беговые трибуны от напора народа, и там, во время моего полета, ахнул проливной дождь.
Аппарат стало давить обильной водой — я едва справился с ним, с трудом сел на беговую дорожку.
29 апреля 1912 года был объявлен мой полет в Ченстохове: здесь также еще не видали “летающих людей”.
Громадный город, в 150 тысяч населения, проявил необычайный интерес к воздушному событию.
Поэтому пришлось выбрать большое место при перегрузочной станции Герб-Келецкой железной дороги, за городской скотобойней.
К началу полета, к 5 часам вечера, повалила густая лава народу.
Место “аэродрома” было обтянуто канатами, которые охраняли конные войска.
Как обычно, прибыл губернатор со свитой.
Полицеймейстер верхом на вороном коне наводил порядок.
Играли два оркестра музыки.
Надо сказать, что 40 процентов со сбора я “жертвовал” пожарным дружинам и детским приютам — пополам.
Поэтому пожарные явились в парадных формах и медных блестящих касках.
Крыши окраинных домов были усеяны публикой.
Кругом — стена народа.
Словом, картина широкого массового торжества.
Я — посредине “аэродрома” с “блерио”.
Тут же механик и четверо рабочих, чтобы держать аппарат во время предварительной работы мотора.
И вдруг... ветер, сильный ветер. Небо — в тучах.
Рабочие с механиком схватились за крылья.
Я, скрежеща зубами от злости, решил переждать, но подъехал полицеймейстер, заявил:
— В городе несчастья: люди падают с крыш или проваливаются. Губернатор приказал лететь вам сейчас или отменить полет...
Что делать?
Отменить нельзя: в следующее воскресенье назначен полет в Вильно, заарендованы бега, внесена тысяча рублей, выпущены афиши.
На беду блеснула молния, грянул гром.
Ветер усилился.
Я решил лететь, вскочил на аэроплан.
Механик — к пропеллеру. Рабочие — за корпус,
— Контакт есть?
— Есть.
Дал знак отпустить и полетел против ветра.
В публике раздался рев восторга и полетели шапки, платки.
“Блерио” легко взмыл под ветер, но выше стало так болтать, трепать, швырять мой жидкий аэроплан, что спасенья не предвиделось.
Я стиснул зубы, сжался в комок, удесятерил волю, всячески регулировал, выравнивал.
Но все напрасно: на вираже под крыло ударил порыв вихря — я перевернулся с аппаратом на большой высоте.
Мотор перестал работать.
Ждала смерть.
Объял холод беспомощности, а в голове мгновеньями, как искры, вспыхивали картины детства: Кама, пароходы, лодки, собаки, лес...
И тут же сознанье, что я — один, чужой и ровно никому не нужен здесь...
Все это путалось, металось, и в первый и единственный раз я пожалел себя...
Дальше сковал леденящий холод, я закрыл глаза и грохнулся...
В бессознательном состоянии, разбитого, меня увезли в больницу.
Только через одиннадцать часов кончился мой обморок.
Я открыл глаза и не понял сразу, что происходит: лежу в большой белой комнате, а у окна стоят два человека в сюртуках и смотрят в окно на большую грозу.
Зачем все это, откуда? Кто?
И когда почувствовал страшную боль во всем организме и ощутил сплошные, тугие бинты, понял, вспомнил, крикнул:
— Доктор!
Доктора бросились к кровати, сели возле и стали успокаивать, что все скоро пройдет, что я сильный, крепкий и вообще хороший человек.
Из докторских рассказов узнал, что меня спасла болотная вонючая грязь, куда я упал.
Что у меня, кроме правой руки, левой ноги, проломленного затылка, рассеченной губы и треснутой ключицы, все благополучно.
Что какой-то присяжный поверенный держал пари на сто рублей и дюжину пива за мое “воскресенье из мертвых”.
Что у больницы всю ночь, несмотря на грозу, дежурила большая толпа простого народа.
Что из Варшавы прибыли корреспонденты для описания катастрофы.
Что весь Ченстохов обрадуется, узнав о моем возвращении к дальнейшей жизни.
Через несколько дней мне стало совсем хорошо и даже интересно: от Всероссийского аэроклуба, от «Авиаты», от авиаторов, от приятелей и неизвестных лиц я получил нежные телеграммы.
Всюду в газетах России сообщали о моем страшном паденье.
Доктора на минуту открыли дверь в соседнюю комнату: там виднелись корзины цветов с лентами.
Мой механик пришел в больницу сообщить, что щепки от разбитого аэроплана публика растащила на память, что мотор цел и, главное, сбор был колоссальный.
Этот же механик дал прочитать мне некрологи из двух местных газет (газеты печатались в ночь катастрофы, когда я лежал в обмороке безнадежности), где крупно было написано: „Погиб знаменитый летчик и талантливый поэт Василий Каменский”.
В статьях меня возносили до гениальности, явно рассчитывая, что я не воскресну.
В конце ослепительных некрологов курсивом печаталось, что во время падения в публике случилось двадцать три дамских обморока.
Словом, вся эта история принесла мне такую массу приятного, что я быстро стал поправляться, удивляя врачей.
Однако доктора советовали уехать куда-нибудь в тихую лесную глушь, чтобы там освободиться от потрясенья.
Так и сделал.
Но прежде я отремонтировал свой “блерио” и, захватив его, уехал в Пермь.
Где жить и как?
Я любил свой уральский край и давно мечтал обосноваться где-нибудь в лесной деревне, где мог бы жить каждое лето, где мог бы рыбачить, охотиться, работать по литературе и сельскому хозяйству: ведь у меня были знания агронома.
Вообще меня, действительно потрясенного, нестерпимо, магически потянуло к земле, к здоровью, к солнцу, к зверью, к птицам, к деревне.
На земской тройке с колокольчиками погнал по Сибирскому тракту, свернул на Насадский и здесь, в сорока верстах от Перми, приобрел землю с полями, лугами, речкой Каменкой, горным лесом.
Так родился хутор Каменка.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 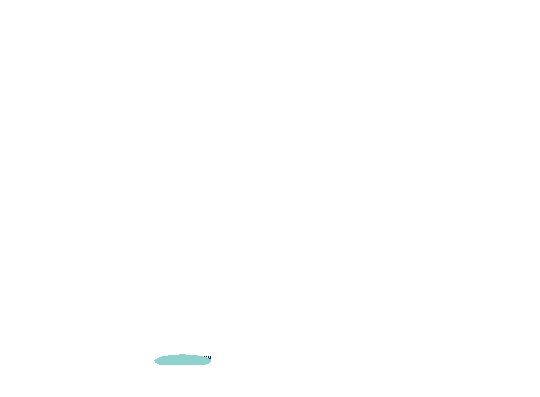 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||