




Ххо-хо! Отныне я стал чувствовать себя самым настоящим, заправским Робинзоном Крузо и Степаном Разиным в Жигулевских горах.
Земля — изумительная вещь, но на земле надо строиться, надо с толком организовать сельское хозяйство.
А на Каменке только земля, лесная горная глушь и никаких построек.
Пока что я поселился в ближайшей, в двух верстах от Каменки, деревне Шадрино и с упорным усердием взялся за строительство “жизни на земле”: купил срубы для дома, бани, конюшен; купил лошадь, телегу и комплект земледельческих орудий.
Нанял плотников и в качестве “архитектора” сам руководил стройкой по собственным чертежам, и для первого опыта сделал баню так, как здешние крестьяне не делают; у них бани черные, без печи, без предбанника, без трубы даже, а просто под камнями разжигают дрова, накаляя камни, чтобы после, поддавая воды, нагнать пару-жару.
И конюшни строил не по-крестьянски — с окнами, с вытяжными трубами, теплые.
Разумеется, и дом по-культурному, — с удобными светлыми комнатами, крутой крышей, но дом простой, бревенчатый, и поставил его прямо в сосновом лесу, в полгоре, перед речкой, без всякой ограды.
Сам взялся за плуг — и это было новостью для крестьян, так как они пахали сохами.
Работы было неисчерпаемо.
Сам расчищал лес, планировал поля на многополье, возился с бревнами, обдумывал.
Топор не выходил из рук.
Отдыхал на охоте: глухари, рябчики, зайцы, тетерки, вальдшнепы, утки — вся эта роскошь жила под самым боком.
И тут же: куницы, лисицы, хорьки, белки. Иногда появлялись медведи.
Пахал, боронил; посеял пшеницу, ячмень, овес с клевером.
Поселился в новом доме.
Занялся литературой: начал писать роман «Стенька Разин» и снова взялся за стихи.
Работал над картинами.
Рыбачил, читал, горел солнцем вокруг.
Лето катилось кумачовым шаром молодости.
По праздникам разгуливал с деревенскими ребятами, играл на гармонике с колокольцами.
Крестьяне шутили:
— Ты, Василий, распрекрасно играешь на гармошке, так что мы решили тебя выбрать в Государственную думу.
К сенокосу приехал ко мне гостить брат детства Алеша.
Когда вместе косили, я убедил Алешу бросить аптеку, где он работал помощником провизора, и сообща заняться Каменкой, но так, чтобы мы целиком вели хозяйство сами, без батраков, как обыкновенные крестьяне.
На этом и остановились, ибо оба любили деревню, природу, рыбатство, охоту.
И любили энергично трудиться.
На первых порах не очень-то легко было нам, интеллигентам, возиться с землей, налаживать хозяйство, вникать в каждую мелочь, ну а все-таки скоро ориентировались, привыкли, приземлились плотно, с удовольствием.
Строили новую долю.
Пахло Робинзоном, детством, “землянкой”, сосновым весельем, разинскими стихами, сотворением мира.
Мы бегали, прыгали не меньше своих любимых собак, и даже лаяли от приливающих восторгов.
Жить в новом доме, дышать смоляной свежестью обструганного дерева, слышать в распахнутые окна сочное пенье птиц, видеть кирпичные стволы стройных сосен, ощущать в гостях сплошное солнце (день длился двадцать два часа), радоваться каждой минуте жизни, пребывать в неисчерпаемом энтузиазме — это ли не великолепие бытия!
Что еще надо?
Ровно ничего, ни капли.
И так чаша изобилия дней, насыщенных пройденными и пролетанными дорогами, переполнена.
На косяке моей библиотечной комнаты висит просаленная, бывалая авиаторская каска — она одна может немало рассказать, как приехала из Парижа и что повидала, чтобы успокоиться на Каменке, в лесной глуши.
Только покой от меня далек: кажется, я вчера лишь родился по-настоящему и вот начинаю жить и познавать мудрость новорожденья.
И весь мир представляется таким же юным, новым, начинающим.
И такими же младенцами современности — мои друзья футуристы, с которыми связь стальной дружбы крепила на вечность будущие встречи и дела.
С чугунолитейным Давидом Бурлюком мы не переставали переписываться: он держал меня в полном курсе футуристического возрастающего движения, ожидал меня к осени в Москву, где теперь учился в школе живописи и ваяния, на Мясницкой.
Давид Бурлюк, как корабль на рейде, стоял на посту футуризма и ждал нашего приплытия для активного выхода в бой.
Он писал мне:
Пригнал в Москву и прямо — к Давиду.
Бурлюк жил в переулке, около Мясницкой.
Ветром влетел в комнату: всюду картины в беспорядке, пахло свежими красками, на столе — горячий самовар, закуска на бумажках и каравай ситного.
Весело. Аппетитно.
За столом двое: Бурлюк в малиновом жилете и худой, черноватый, с выразительными глазами юноша, в блестящем цилиндре набекрень, но одет неважнецки.
Встретились шумно, отчаянно и нервно до слез: давно не видались.
Бурлюк басил дьяконски:
— Это и есть Владим Владимыч Маяковский, поэт-футурист, художник и вообще замечательный молодой человек. Мы пьем чай и читаем стихи.
Маяковский мне сначала показался скромным, даже застенчивым, когда Бурлюк перечислял его футуристические способности поэта; но едва он кончил акафист, как юноша вскочил, выпрямился в телеграфный столб и, шагая по комнате, начал бархатным басом читать свои стихи и дальше декламировал тенором, размахивая неуклюже длинными руками:
Я, конечно, оценил и любезность, и несомненную одаренность восемнадцатилетнего поэта.
И тут же подметил влияние учителя — Бурлюка.
Давид смотрел на Маяковского в лорнет с любовной гордостью, перекидывая глаз на меня, и гоготал, дрыгая малиновым животом.
Вообще в Бурлюке жило великое качество: находить талантливейших учеников, поэтов и художников, и заряжать их своими глубокими знаниями подлинного, превосходного новатора-педагога, мастера искусства.
Только Давид Бурлюк умел, сидя за веселым чаем, как бы между прочим, давать незабываемо важные теоретические, технические, формальные указания, направляя таким незаметным, но верным способом работу.
Легко, остро, парадоксально, убедительно лилась речь Бурлюка, отца российского футуризма, об идеях и задачах нашего движения.
Мы отлично сознавали, что футуризм — понятие большой широты, как океан. И мы не должны замыкаться лишь в берегах искусства, отделяя себя от жизни.
— Мы есть люди нового, современного человечества, — говорил Бурлюк, — мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего; и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюхо буржуазии-мещан-обывателей. Мы, революционеры искусства, обязаны втесаться в жизнь улиц и площадей, мы всюду должны нести протест и клич „Сарынь на кичку!” Нашим наслаждением должно быть отныне эпатированье буржуазии. Пусть цилиндр Маяковского и наши пестрые одежды будут противны обывателям. Больше издевательства над мещанской сволочью! Мы должны разрисовать свои лица, а в петлицы, вместо роз, вдеть крестьянские деревянные ложки. В таком виде мы пойдем гулять по Кузнецкому и станем читать стихи в толпе. Нам нечего бояться насмешек идиотов и свирепых морд отцов тихих семейств; за нами стена молодежи, чующей, понимающей искусство молодости, наш героический пафос носителей нового мироощущения, наш вызов. Со времени первых выступлений в 1909-м, 10-м годах, вооруженные первой книгой «Садок Судей», выставками и столкновениями с околоточными старой дребедени, мы теперь выросли, умножились и будем действовать активно, по-футуристски. От нас ждут дела. Пора, друзья, за копья!
Дальнейший чай продолжался в большой аудитории Политехнического музея, где было наше лекционное выступление: Бурлюка, Маяковского, Каменского.
Едва вышли афиши по Москве, возвестившие о нашем вечере, билеты взяли нарасхват.
На улицах стояли толпы перед афишами и читали!
Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осаждала штурмом входы.
Усиленный наряд конной полиции “водворял порядок”.
Шум. Крики. Давка.
Подобного зрелища до нас писатели никогда не видали и видеть не могли, так как с толпой, с массой связаны не были, пребывая в одиночестве кабинетов.
В совершенно переполненном зале аудитории гудело праздничное, разгульное состояние молодых умов. Чувствовался сухой порох дружественной части и злые усмешки враждебного лагеря.
Перед выходом нашим на эстраду сторож принес поднос с двадцатью стаканами чая.
Даже горячий чай аудитория встретила горячими аплодисментами.
А когда вышли мы (Маяковский — в желтом распашоне, в цилиндре на затылке, Бурлюк — в сюртуке и желтом жилете, с расписным лицом, я — с желтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу), когда прежде всего сели пить чай, аудитория гремела, шумела, орала, свистала, вставала, садилась, хлопала в ладоши, веселилась.
Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбудораженный ад, не знала, что делать.
Какая-то девица крикнула:
— Тоже хочу чаю!
Я любезно поднес при общем одобрении.
Наконец я начал:
— Мы, гениальные дети современности, пришли к вам в гости, чтобы на чашу весов действительности положить свое слово футуризма...
Дальше, согласно программе и не согласно, говорил, что требовалось от футуриста, раскрывающего основные идеи нашего движения, поднятого в 1909 году в Петербурге и позже утвержденного нашей «Пощечиной общественному вкусу».
Мне кричали:
— А почему у вас на лбу аэроплан?
Отвечал:
— Это знак всемирной динамики.
Я развивал мысль о том, что мы — первые поэты в мире, которые не ограничиваются печатанием стихов для книжных магазинов, а несут свое новое искусство в массы, на улицу, на площади, на эстрады, желая широко демократизировать свое мастерство и тем украсить, орадостить, окрылить самую жизнь, замызганную, изгаженную буржуазно-мещанской пошлостью, мерзостью запустения, глупостью, отсталостью, невежеством и мертвецким смрадом старого “искусства богадельни”. И это в наше динамическое время, когда мы пережили революцию, когда над головами дрожит воздух, провинченный аэропланами, когда мы все полны ощущения мирового динамизма, когда современность всем нам диктует быть новыми людьми и по-новому понимать жизнь и искусство.
Мне кричали:
— Вы поете песни Маринетти!
Отвечал:
— Вздор! Провокация! Маринетти главный удар направляет против музеев Италии, а мы свой Политехнический музей приветствуем! (Гром аплодисментов.) Я был в Италии и понимаю бунт итальянских футуристов: там лучшие города превращены в сплошные кладбища музеев, паноптикумов, антикварных лавок; там торгуют античной тысячелетней историей, там могилами прошлого задавлена современность. Вот откуда — из катакомб Рима — несутся песни Маринетти, желающего разрушить музеи и библиотеки, прославляющего войну как единственную гигиену мира. А мы никакой войны между народами не желаем! (Крики: „Правильно!”) Мы поем свои собственные песни о торжестве современности над рухлядью обывательского безотрадного бытия. Мы с удовольствием отпеваем покойников дохлого искусства уездной России. Мы — поэты-футуристы, живые, трепетные, сегодняшние, работающие, как моторы, во имя энтузиазма молодости и во славу футуризма; мы будем очень счастливы вооружить вас, друзья современности, своими великолепными идеями. (Грохот ладош. Крики: „Да здравствует футуризм!” Из первых рядов — шипенье, цоканье. Снова крики: „Долой футуризм! Довольно!” Свистки, заглушаемые бурей аплодисментов. Сумбурное сражение меж молодежью с боков и галерки и публикой партера.)
Дальше выступил Маяковский, проглотив разом стакан чаю перед началом:
— Вы знаете, что такое красота? Вы думаете — это розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк? Так изображают красоту на картинах старики передвижники.
Крики:
— Не учите! Довольно!
— Браво! Продолжайте!
— И почему вы одеты в желтую кофту?
Маяковский спокойно:
— Чтобы не походить на вас. (Аплодисменты.) Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, как берем за глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. Что такое красота? По-нашему, это — живая жизнь городской массы, это — улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками, а это — современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещан и кретинов.
Крик:
— А вы кого изображаете в микроскопах?
Маяковский:
— Мы ни в какие микроскопы не влазим. (Смех. Хлопки. Шум.)
Поэт говорит дальше о взаимоотношении сил современной жизни, о разделе классовых интересов и в связи с этим о группировках “художественных” обособленных сект, которые давят друг на друга своей жуткой бездарностью, вульгарностью, “половым бессилием”.
Крик:
— А вы не страдаете?
Маяковский:
— Не судите, милый, по себе. (Смех.) Только футуризм вас вылечит. (Смех. Хлопки.)
Оратор утверждает, что возрастающее движение футуризма сдвинуло жизнь, что в борьбе с буржуазно-мещанскими взглядами на жизнь и искусство футуристы остались и останутся победителями, что отныне влияние футуризма вошло в сознание каждого современного человека, что до сих пор никакого влияния на общество прежние писатели не оказывали, что декадентские стихи разных бальмонтов со строками:
Крик:
— А вы лучше?
— Докажу:
Дальше Маяковский дал меткую характеристику каждого из поэтов-футуристов, блеснув великолепной памятью: прочитал с мастерством ряд стихотворных наших работ.
Третьим выступил Давид Бурлюк, иллюстрируя свой доклад диапозитивными снимками на экране.
В зале потушили электричество.
На экране появилась серая фотография каких-то сугубо провинциальных супругов, типа мелких торговцев.
Раздался хохот:
— Кто это?
Бурлюк, не поворачиваясь к экрану, умышленно сладеньким голосом начал:
— Перед вами — картина кисти Рафаэля.
Снова хохот:
— Неужели?
Тогда Бурлюк, кокетливо повернувшись к экрану, посмотрел в лорнет:
— Ах, виноват. Это карточка одного уездного фотографа из Соликамска. Ну, право же, эта милая супружеская чета вам понятнее и ближе икон Рафаэля.
Голос из темноты:
— Рафаэль лучше. (Смех.)
Бурлюк:
— В самом деле? (Смех.) Но ведь Рафаэль занимался искусством, а искусство — вещь спорная, условная и жестокая. Рафаэль был одержим религиозными чувствами и делал картины для Ватикана. Четыреста лет тому назад разрешалось быть Рафаэлем и Леонардо да Винчи: ведь тогда, кроме римского папы да нескольких мадонн, вообще ничего хорошего не было, но теперь?.. Позвольте опомниться! Где мы, кто мы? Позвольте представиться.
Голос:
— Позволяем.
Бурлюк:
— Мерси за любезность. (Смех.) Теперь, ныне, сегодня, сейчас перед вами, современниками, выступают ваши апостолы, ваши поэты, ваши футуристы, воспевающие культуру городов, мировую динамику, массовое движение, изобретения, открытия, радио, кино, аэропланы, машины, электричество, экспрессы — словом, все, что дает нового современность. И мы полагаем, что вы должны требовать от искусства смелого отражения действительности. А когда мы даем вам не Рафаэля, а динамическое построение картины, невиданную композицию красочных линий, сдвиги и разложение плоскостей, опыты конструктивизма, введение новых матерьялов в работу, когда даем вам напоказ всю лабораторию наших исканий, вы заявляете, что футуристические картины малопонятны. Еще бы! После Айвазовского и Репина увидеть на полотне бегущего человека с двенадцатью ногами — это ли не абсурд!
Голоса:
— Абсурд! Правильно!
— У меня только две ноги.
Бурлюк:
— У вас две ноги, если вы сидите и считаете свои ноги. (Смех.) Но если бежите, то любой зритель увидит, что мелькающие комбинации ног составляют впечатление двенадцати. И никакого тут абсурда нет. Искусство — не колбасная. Художник — не торговец сосисками! (Аплодисменты.) Право художника — право изобретателя, мыслителя, мастера своего станка. А право зрителя — смотреть на произведение нового искусства новыми глазами современника. (Голоса: „Правильно!”) Довольно пребывать с очами на затылке и любоваться раскрашенными фотографиями господ передвижников и разных “миров искусства” — этих провинциальных эстетов и барских созерцателей хорошеньких женщин, запечатленных на полотнах в церковно-золотых рамах. Довольно пошлого эстетизма! Пора глядеть вперед по-современному и не одними только внешними глазами, но и зрением интеллекта, разума, расчета. Пора видеть в картинах геометрию и плоскости, матерьял и фактуру, динамику и конструкцию. Пора учиться понимать, как строится искусство футуризма. Пора плюнуть на безграмотных, тупоголовых газетных критиков — этих профессиональных ловкачей-провокаторов, выгоняющих строчки наглого невежества, нарочно путающих карты, чтобы засорить, забить ваши мозги всякой дрянью. К черту гонителей и палачей футуризма! (Гром аплодисментов.) Долой паразитов!
Дальше Бурлюк переходит к истории живописи девятнадцатого века, показывая на экране образцы, а затем — кубистические, футуристические работы последних дней.
Аудитория смотрит и слушает блестящего оратора с раскаленным вниманием до конца.
После докладов мы читали свои стихи под прибойный гул сплошных аплодисментов.
Многие записывали отдельные строки.
Наэлектризованный зал долго не отпускал нас с эстрады, требуя новых стихов.
Даже при выходе на улицу нас ожидала громадная толпа, которая пошла провожать нас по Мясницкой.
Даже по дороге мы читали стихи и говорили всякие веселые вещи.
Без конца, как своих друзей, нас приглашали в гости: в кружки, в студенческие столовки, на сходки, просто на вечеринки.
И мы, разумеется, ходили со стихами.
Наши книги лежали на столах, бегали по рукам, стихи заучивались, горячо читались.
Жизнь бурлила, как кипяток в печке, и каждый новый день приносил новые достижения: мы энергично работали, ширились в размахе, углублялись в мастерстве, выпускали сборники, выступали с возрастающей частотой.
Словом, “шли на высоту”, по-авиаторски.
Футуризм перекинулся радугой на сером небе расейского бытия.
Напрасно старались газеты — эти кладбищенские ведомости — назвать наше движение, нашу революцию в искусстве, наше новаторство открывателей просто „сезонной модой” или „общественным сумасшествием”; напрасно травили нас, называя „воображающими себя гениями” или „калифами на час”, которые вот-вот обанкротятся и не „выдержат марки”; напрасно откровенно доносили полиции, что мы развращаем, революционизируем шальную молодежь, что мы „разжигаем страсти”, устраивая публичные „скандалы”.
Напрасно Яблоновский в «Русском слове» писал о нас фельетоны под заглавием «Берегите карманы».
Вся эта гнусная газетная пачкотня только прибавляла, укрепляла наших бесчисленных сторонников, и наконец отовсюду, изо всех городов России мы стали получать телеграммы с приглашением выступить с лекциями о футуризме.
Слава о нас, как говорится, ушла далеко за пределы отечества.
После ряда густых выступлений в Москве и Петербурге мы решили двинуться по городам России, куда нас призывали.
Первым посетили Харьков.
Газеты встретили:
Но, разумеется, никакого “скандала” не было, если не считать шума, криков, обычной возбужденности молодежи, переполнившей концертный зал.
Выступление повторили.
И опять полно.
Наши номера в гостинице с утра осаждались группами харьковской горячей молодежи.
Многие приносили наши книги, чтобы мы дали автографы.
Я почти всем подписывал „Сарынь на кичку!”, как просили.
Разинские стихи, как вселяющие дух бунта, нравились больше всего.
На афишах я печатался: “Пилот-авиатор Императорского Всероссийского аэроклуба” — это делалось для того, чтобы благополучно получить губернаторское разрешение афиши, ибо обычно полиция, взглянув на афишу, разрешения не давала, а посылала за визой к губернатору, к которому я ходил лично.
Показывал “его превосходительству” диплом авиатора, где было сказано, чтобы власти оказывали мне всяческое содействие.
Потом показывал афишу с выделенным заглавием «Аэропланы и поэзия».
Губернатор недоумевал:
— Но причем же тут футуризм? Что это такое? Зачем?
Я объяснял, что футуризм главным образом воспевает достижения авиации.
Губернатор спрашивал:
— А Бурлюк и Маяковский тоже авиаторы?
Отвечал:
— Почти...
— Но почему же, — интересовался губернатор, — вокруг ваших имен создается атмосфера скандала?
Отвечал:
— Как всякое новое открытие, газеты именуют наши выступления “сенсацией” или “скандалом” — это способ создать “бучу”, чтобы больше продавалась газета.
— Пожалуй, это правда, — соглашался губернатор и неуверенной рукой писал: „Разрешаю”.
А газеты действительно густо наворачивали всяких фельетонов, статей, интервью, пускаясь в самое развеселое плаванье по лужам остроумия.
Например, в том же Харькове после первого ления писали:
В этом последнем случае мы в самом деле не стеснялись, ибо этой тактикой разрушали ореол величия далекого прошлого, перед которым все были в “священном преклонении”, кроме нас, устремленных в будущее.
В Полтаве, где выступали после Харькова, нам свистали даже за Надсона, попавшего на зуб мудрости.
Однако и “полтавская битва” не оставила желать лучшего.
В Полтаве, между прочим, со мной познакомились (пришли в театр, где мы читали) две старушки, которые назвали себя родственницами Гоголя; они предлагали купить шкатулку Гоголя, наполненную его же большими письмами, присланными из Москвы близким родным.
Из разговоров я узнал, что письма хранятся неопубликованными и в этой же шкатулке имеются записки — нечто вроде дневника.
Я бы и купил, но за всем этим надо было поехать куда-то под Полтаву, где проживали старушки.
Мы же спешили в Одессу, где были объявлены выступления.
И теперь я очень сожалею, что не приобрел эту шкатулку с письмами Гоголя, которого любил с детства.
Мне скажут: но ведь вы, футуристы, не признавали старых гениев.
Повторяю: это была дипломатическая тактика. И сейчас я убежден, что и Гоголь, и Пушкин ничего общего с современностью не имеют, но это им не мешает оставаться на своих пьедесталах.
Когда мы на лекциях сталкивали всех кумиров литературы с „парохода современности”, это следовало понимать аллегорически.
Ибо мы не меньше других знали ценность и Рафаэля, и Пушкина, и Гоголя, и Толстого.
По этому случаю в Одессе мы выдержали особо свирепый натиск газетной критики, да и слушателей из партера одесского общества.
Сделав обычный “авиаторский” визит к губернатору, получив разрешенье, мы выступили в городском театре, до потолка переполненном пестрой публикой.
Знакомый по Петербургу критик Петр Пильский сказал крепкую вступительную речь, как блестящий адвокат, защищающий тяжких преступников.
За ним выступил я с докладом «Смехачам наш ответ», в котором дал достойную отповедь нашим врагам.
Но едва коснулся литературной богадельни седых “творцов, кумиров и жрецов”, как в партере зашикали, загалдели, а на галерке захлопали.
Замечательно, что каждый город защищает какого-нибудь одного писателя, которого никак трогать нельзя.
В Одессе таким оказался Леонид Андреев.
Можно всех святых свалить с „парохода современности”, но Леонида Андреева не тронь.
Я было тронул Андреева за убийственный пессимизм, но меня затюкали.
С таким же “успехом” выступил Маяковский, остроумно наподдававший малокровным символистам-поэтам.
Коньком Маяковского являлся Бальмонт, как Рафаэль у Бурлюка.
Но когда Бурлюк дошел до «Я смотрю на беременный памятник Пушкину» и, особенно, до своих „писсуаров”, тут поднялся скандальный гвалт.
Поклонники “изящной поэзии” оскорбились.
Между прочим, когда я читал авиаторские стихи, из первого ряда партера встал генерал (какое небывалое нарушение “общественного спокойствия”: даже генерал говорит с места, как на собрании; по тем временам это было невероятно до строгой ответственности) и заявил:
— Весь мир преклоняется перед героями воздуха. А тут какой-то футурист Каменский декламирует возмутительные стихи об авиаторах. Да если бы этого футуриста хоть раз посадить на аэроплан, он не смел бы писать подобные неприличные стихи и связывать авиацию с футуристами. Это непозволительно!
Партер горячо аплодировал генералу, вспотевшему от возмущения и несдержанности.
Но тут-то я и выиграл “куш”, когда спокойно объяснил свое авиаторское право и пригласил генерала проверить мой диплом с фотографическим портретом.
Генерал пришел на сцену, проверил, извинился.
А театр устроил мне овацию.
Бурлюк крикнул в зал:
— Вот когда вы так же проверите идеи футуризма, вы станете не меньше восторгаться.
Теперь аплодировали Бурлюку.
Вообще наши выступления носили характер митингов, где на первом плане горела возбужденность собравшихся.
В Одессе прошло несколько рядовых выступлений, и все — с неостывающим успехом.
В гостинице, на улицах была обычная картина: нас окружала неисчерпаемая смена молодежи, начиненная нашими стихами и лозунгами искусства молодости — футуризма.
Эта передовая молодежь превосходно нас понимала, ценила наше движенье, и никакие провокаторские гнусные газетные статьи не могли помешать нашему торжественному шествию.
Нас понимали и в том отношении, что, будучи убежденными революционерами, мы не имели возможности сказать об этом открыто, но так или иначе мы революционизировали молодые умы, в свою очередь травили буржуазию, бунтовали против “устоев” тюремного бытия, издевались над “внутренним” мещанством духа, толкали к новому мироощущению, будоражили жизнь.
Полагаю, что в эти трудные дни реакции, когда в тех же «Южных мыслях» и «Одесских новостях», в тех же номерах газет (они у меня хранятся), где травили нас, жирным шрифтом печатали названия телеграмм и самые телеграммы «К освящению храма в память 300-летия дома Романовых» , — в эти дни читать публично
Сарынь на кичку!
было достаточно крепким доказательством наших убеждений.
Ведь почти каждый раз (и в Москве, и в Петербурге) после выступлений меня водили в участок для составления протокола.
Диплом пилота-авиатора выручал и тут.
Я давал подписку, что не буду читать подобных вещей и, конечно, читал всюду.
Здесь, разумеется, нет и капли геройства (сейчас все расценивается по-другому — это ясно), но тогда это было проблеском во тьме.
Только живые свидетели, которых еще много, могут вспомнить и наши заслуги, заслуги русских футуристов, сыгравших свою историческую роль.
После одесской бучи мы поехали в Кишинев, потом в тот самый Николаев, где я спал в гробу, где работал у Мейерхольда.
Былое бюро похоронных процессий скончалось, старики Грицаевы умерли, семья разлетелась.
Мы выступали в театре, в котором я когда-то играл под наблюдением закулисных глаз Всеволода Эмильевича Мейерхольда.
К подъезду нашей гостиницы привалила большая толпа молодежи и потребовала нашего выхода на улицу для прогулки.
И мы гуляли по Соборной в тесном кольце юношей и девиц, читавших наши стихи.
Наряд полиции следовал за нами по мостовой.
Зачем? Неизвестно.
Много непонятного происходило вокруг нашего появления.
Рекорд непонятности остался за Киевом.
К началу нашего выступления в Киеве к подъезду театра пригнал отряд конной полиции.
Около театра собрались кучки студентов и пели «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой».
Полиция разгоняла студентов.
Когда мы подходили к театру, к нам кинулось из толпы несколько студентов с пламенными вопросами:
— Вы за революцию?
Мы успокоили.
Студенты убежали.
Когда подняли занавес в театре, мы ахнули: на каждые десять человек переполненного зала торчал полицейский.
Такого зрелища я не видал никогда.
Что случилось? Никому не понятно.
Мы подвесили на канатах рояль вверх ногами и под ним выступали.
Общая картина та же, что и в Одессе, и всюду.
Только на следующий день газета «Киевская мысль» напечатала:
По-моему, это была самая замечательная статья о наших выступлениях.
После нескольких лекций в Киеве поехали в Саратов и потом в Самару.
В Самаре нас почему-то чествовала городская управа (в одном частном доме).
Секретарь управы, по поручению городского головы, спросил наши имена-отчества.
Я сказал:
— Этот — Давид Давидович, этот — Владимир Владимирович, а я — Василий Васильевич.
— Нет, это не может быть! — воскликнул секретарь управы. — Нет, это неудобно. Я спрашиваю серьезно. Сейчас голова будет говорить речь, и если он так вас назовет, все, право, засмеются. Пожалуйста, скажите.
— Но нас так зовут в самом деле.
— Нет, это неудобно. Смешно. Ей-богу, вы это придумали. Уж лучше разрешите по имени и фамилии, как указано на ваших афишах.
— Разрешаем.
Из речи головы мы поняли, что самарский голова — большой либерал. Он прямо произнес:
— На фоне печальной русской действительности вы, футуристические поэты, самые яркие и свободные люди. Ура!
Это нас ободрило — мы двинулись взять Казань.
В огромном зале Дворянского собрания казанские студенты, запрудившие проходы и окна, так нас горячо приветствовали, что полицеймейстер шесть раз прерывал наше выступление, кричал:
— Пока не прекратится скандал, я не позволю продолжать.
Страсти бушевали бурей на Волге.
Едва доплыли до берега.
Скандал, как всюду, заключался в том, что молодая аудитория неистовствовала, кричала, свистала, топала, хлопала, веселилась.
Полицеймейстеры нервничали.
А мы привыкли и продолжали.
Посетили Пензу.
В Пензе уже существовал “футуристический дом” — семья Константина Карловича Цеге, где часто гостили известные художники-футуристы: Владимир Бурлюк, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов.
Сам Цеге учился в пензенской гимназии вместе с Мейерхольдом.
В доме Цеге жили наши книги, картины, музыка, стихи.
Дальше побывали в Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе.
Тифлисская молодежь, прокопченная солнцем, встретила с исключительным грузинским темпераментом.
Пламенная публика жарилась в театре, как шашлык на вертеле.
Отдельные фразы, лозунги, вроде „нажимай на левую”, стихи, ответы на реплики принимались взрывами горячности.
Наши прогулки по Головинскому были окольцованы грудами сияющей юности.
«Тифлисский листок» злился:
После ряда тифлисских выступлений в оперном театре и в гостях мы побывали еще в разных городах и наконец вернулись в Москву в самом воинственном состоянии закаленных бойцов.
Стремительное путешествие в “экспрессе футуризма” по многим городам России, победные следы битв и там, на местах сражений, оставшаяся армия молодых последователей — весь этот рейд убедил нас продолжать завоеванья дальше с возрастающей энергией опытных мастеров.
От нас ждали новых книг, свежих работ.
Маяковский призывал:
Читайте железные книги!
Весна 1914 года была жаркой, как лето.
По приезде в Москву каждый из нас и наших соратников в эти дни буйного расцвета футуризма кипел желаньем напечатать свою книгу, дать свой сигнал.
И вместе с тем необходимостью стало перейти от отдельных книг и сборников на рельсы литературного объединения.
Мы организовали и быстро выпустили толстый «Первый журнал русских футуристов», где принимали участие Аксенов, Д. Болконский, Константин Большаков, В. Бурлюк, Давид Бурлюк, Н. Бурлюк, Д. Баян, Вагус, Васильева, Георгий Гаер, Рюрик Ивнев, Вероника Иннова, Василий Каменский, А. Крученых, Н. Кульбин, Б. Лавренев, Ф. Леже, Б. Лившиц, К. Малевич, М. Матюшин, Владимир Маяковский, С. Платонов, Игорь Северянин, С. Третьяков, О. Трубчевский, В. Хлебников, Вадим Шершеневич, В. и Л. Шехтель, Г. Якулов, Эгерт, А. Экстер и другие.
Редакционный комитет: К. Большаков (библиография, критика), Д. Бурлюк (живопись, литература), В. Каменский (проза), В. Маяковский (поэзия), В. Шершеневич (библиография, критика). Редактор Василий Каменский. Издатель Давид Бурлюк.
Этот журнал явился объединением нескольких группировок. В него входили «Мезонин поэзии» (Вадим Шершеневич, К. Большаков, Сергей Третьяков, Борис Лавренев, Рюрик Ивнев и др.) и “эго-футуристы” воглаве с Игорем Северяниным, Василиском Гнедовым, К. Олимповым (сын поэта Фофанова).
Отдельными авторами в наши сборники вошли Николай Асеев и Борис Пастернак.
Вообще “штаб футуризма” разросся до громадных размеров.
Даже трудно было учесть наших многочисленных новых, прибывающих сообщников.
Наряду с журналом я выпустил цветную пятиугольную книжку „железобетонных поэм” «Танго с коровами» — это были стихи конструктивизма, где я впервые (также и в журнале) применил разрывы, сдвиги и лестницу ударных строк стихотворчества.
Например (из «Первого журнала русских футуристов») :
Вся эта “графическая” типографская техника разорванных строк стихов и конструктивизм „железобетонных поэм” (в «Журнале» и книжке «Танго с коровами», 1914 год), весь этот словострой открыт мною для того, чтобы подчеркнуть ритмическую ударность стихотворного матерьяла.
Если я писал прежде («Садок Судей»):
Здесь наглядная ритмическая ударность походит на ступени лестницы — слово живет полноценно и произносится разрывно, с расстановкой.
Я нарочно взял для примера “обыкновенные” слова, чтобы показать, как отдельные, оторванные строки придают этим “где-то”, “далеко” оправу особой значимости.
В этом ритмическом методе нет обычной “толчеи слов” и “перезвона”, а есть учет четкости, удара молота по наковальне словостроя, буквостроя, цифростроя.
Подчеркнутость выделенных слов, введенье в стихи (жирным шрифтом) цифр и разных математических знаков и линий делают вещь динамической для восприятия, легче запоминаемой (читаешь, как по нотам, с экспрессией обозначенного удара).
Я уже не говорю о том, что можно одними буквами дать графическую картину слова.
Например, в том же стихотворении «Телефон» я изображаю похоронную процессию буквами так:

Каждая буква разного шрифта, причем узкое ‘о’ положено горизонтально, что означает — гроб. Самое слово ‘процессия’ растянуто, как вид процессии, в одну длинную строку.
Таким образом, слово, предназначенное для выявления наиболее точного понятия, в данном и всех иных случаях дает высшую точность.
Особенно это касается стихов, где словесная концепция возведена в культ, где конкретная форма возвеличивает содержание.
Не спорю, быть может, в увлеченье “формой” некоторые футуристы (и я — в первую голову) слишком увлеклись, пусть даже “пересолили”, но эта “лаборатория” необходима для мастерства, чтобы заставить СЛОВО служить истинной цели — возвеличивать содержание.
Поспешное обнародование освобожденья слова как такового, открытие дверей нашей лаборатории, откровенные изыскания словотворчества, первые образцы футуристической поэзии — все это языковое изобретательство породило массу глупейших разговоров наших безграмотных критиков в бульварных газетах.
Тупоголовые пристава — эти охранители прав старого “священного языка” и “изящной поэзии” — кричали до бешенства, что мы „сошли с ума на форме”, что будто мы не признаем ни содержанья, ни здравого смысла, что мы „пакостим прекрасный русский язык” своими „фокусами”.
О человеческая глупость, конкурирующая с Атлантическим океаном!
Нет, тебе, сверхокеанская глупость, берегов и преград не положено!
Невзирая на тебя, свирепая глупость мещанского бытия, мы над твоей кисельной головой, как истинные энтузиасты-инженеры, строили стальные мосты футуристического изобретательства, чтобы по этим стальным мостам двинуть шествие культуры будущего нового искусства.
Мы строили футуризм вполне сознательно и достаточно организованно.
Но мы строили как изобретатели и открыватели — в этом наше неоспоримое достоинство, — и, следовательно, наш сырой матерьял нельзя было назвать отсутствием здравого смысла.
Ведь мы-то, будучи мастерами-предводителями революции искусства в полном объеме, превосходно понимали, что делали великое дело не только в смысле установления новых форм, новой техники, новой культуры языка, словотворчества, книгостроения, но и в смысле постановки проблемы социальной одновременно.
Все наше движенье говорит за то, что мы были организованными новаторами как в борьбе за новое искусство, так и в борьбе с буржуазно-мещанскими устоями.
Достаточно вспомнить предшествовавшее царство символистов, эту мистико-идеалистическую школу, которую мы сменили, чтобы судить о разнице меж “небом символистов” и “землей футуристов”.
Земляной Маяковский гремел:
Но первая “земля футуристов” была мало понятна для читателей наших книг, для посетителей наших выставок картин, как для зрителей нашего театра трагедия «Владимир Маяковский» и опера «Победа над солнцем» (музыка Матюшина, слова Крученых, декорации Малевича) — эти спектакли шли в начале декабря 1913 года в помещении театра Комиссаржевской, в Петербурге.
Выявление крайне анархических форм в поэзии, живописи, музыке, театре несло двойную функцию: разрушенье старого искусства и созиданье нового.
Нас устраивал не постепенный, эволюционный переход к новым формам, а революционный взрыв новаторского, футуристического переворота.
При этом каждый из нас, будучи безудержно молодым, горячим, ретивым в битвах, старался показать себя самым левым, отчаянным изобретателем, невзирая на последствия.
Тут рекорд остался, конечно, за Крученых с его заумным языком, с его бесконечными брошюрами кустарного производства.
Этот — крайний анархист Крученых — наводил страх на населенье своими всяческими вариациями „вселенского языка”.
Но лаборатория “островитянина” Крученых имела свое основанье в общей системе культуры языка, поскольку заумный поэт проделывал опыты над функциями звуков человеческой речи, над взаимными отношеньями и измененьями этих звуков.
Вообще мы не зря увлекались фонетическими изысканьями, и в этом отношении каждый ученый лингвист подтвердит (и подтверждали) наши языковые достиженья.
Ну вполне естественно, что публика во главе с “критиками”, не владеющая специальными знаньями языка, не понимала вообще наших формальных достижений, не признавала новых слов, не желала, удерживая тухлые позиции старины, нам верить.
И в то же время эта же публика горячо аплодировала мне всюду, где я произносил:
Сарынь на кичку!
Никто не знал значенья этих слов, и никто не спрашивал о смысле, но здоровый инстинкт приветствовал заумные слова, созданные понизовой вольницей Разина.
Словом, публика есть публика: она, начиненная барахлом прошлого, не хотела учиться, не хотела знать мудрой красоты своего языка, на котором говорила, над которым мы работали.
А башибузуки-критики окончательно опутывали эту публику тенетами невежества.
Подобно хунхузам, эти критики налетали на отдельные временные крайности футуризма и потрошили со сладострастием вампиров надерганные, перетасованные образцы достижений.
В этом отношении больше других доставалось Хлебникову, этому Колумбу новой культуры языка.
Как раз этой весной 1914 года вышел первый том творений Хлебникова, изданный Бурлюком.
Давид Бурлюк в своем предисловии к этой книге писал:
Мое предисловие было такое:
В это время вышла трагедия «Владимир Маяковский», где среди действующих лиц „поэт Маяковский” говорит:
Новая душа Маяковского действительно потрясающе гудела на все сонные окрестности буржуазно-мещанского благополучия, когда он читал с эстрады новые стихи:
Вежливость Маяковского в отношении к фабрикантам известна — казалось бы, спорить тут не о чем, но по-другому судили поэта те самые критики, о которых он писал:
В эти же дни вышло второе изданье «Дохлой луны», где Давид Бурлюк звонил в колокола молодости:
И он же трагически проклинал рабство времени:
В эти же часы появилась книга стихов Бенедикта Лившица «Волчье солнце». Поэт ассоциирует мрак бытия с «Ночным вокзалом»:
В эти часы весеннего разбега, когда зимний холод прошлого безнадежно спорил с песнями прилетевших плодиться птиц, наши резвые книги взлетали одна за другой над ожидающими рощами читателей. В числе стаи взлетел и сборник «Молоко кобылиц». Николай Бурлюк спрашивал:
Хлебников отвечал:
Николай Асеев откликался первой книжкой стихов «Ночная флейта», так же мастерски играя, как новорожденный „пастух стихов” Борис Пастернак, тоже в эти утроликие дни появившийся с первой книжкой «Близнец в тучах».
Сергей Третьяков, Игорь Северянин, Вадим Шершеневич, Константин Большаков — все звучали убедительными мастерами в коллективе книжных стай.
Воистину это была густая, как мед, весна, если даже (навеки ушедшая от нас) Елена Гуро в предвесеннем сборнике «Трое» — Гуро, Хлебников, Крученых — звучала радостью с высоты «Небесных верблюжат» завещаньем:
Да, вот такая безудержная весна жила на “земле футуристов”.
В Петербурге энергично работало объединенное общество поэтов и художников «Союз молодежи», выпуская под этим заглавием сборники-журналы с руководящими статьями, где Ольга Розанова писала:
Знаменитое хлебниковское сопряженье корней:
Каждый из нас был языковым изобретателем, каждый работал над оформленьем словесного матерьяла, каждый мастерил свои части для общего механизма культуры искусства.
И каждый отдельно нес ответственность за идеологическую сторону работы.
В этом отношении мы были абсолютно независимы и по линии политических убеждений, действовали самостоятельно.
Никто из нас не мешал Маяковскому, мастеру рифмы, зло издеваться над капиталистами.
Никто не мешал мне читать «Сарынь на кичку», и работать над романом «Стенька Разин», и вообще “бунтовать”.
Никто не мешал Бурлюку громить мещанство и сокрушать “авторитеты”.
Ведь даже Игорь Северянин в нашем сборнике «Молоко кобылиц» знал, что печатал:
Насчет „каждой строчки-пощечины” началось еще с «Садка Судей» и «Пощечины общественному вкусу», где все было пропитано революцией искусства, где все дышало разрушеньем традиции “устоев великой русской литературы”, где только по соображеньям объективных условий цензуры нельзя было сказать нашего настоящего слова, иначе нас бы прекратили и баста.
Но теперь, в 1914 году, когда общее состояние России открывало полегоньку тюремные двери “на волю” — с одной стороны, а с другой — усиливалась полицейская реакция, мы, левое крыло футуризма, действовали более открыто и убеждающе, даже в ущерб нашим формальным изысканиям.
Мы готовились к 1915 году.
В этой подготовке и была наша весна, обвеянная ветрами бунтующей молодости.
Армия молодежи, следовавшая в ногу с нами, росла и еще крепче верила в наше движение.
И тем ожесточеннее ругала, поносила и клеветала на нас газетно-мещанская критика, клеймя нас, обзывая вандалами, гуннами, поджигателями, подстрекателями, сумасшедшими.
Газетная травля сознательно строила провокацию по линии самосохранения: критики страшились наших разрушительных творений, критики боялись нашего громадного влияния на молодежь, критики трусили циклона наших книг, критики дрожали за свое прихлебательское существование и изо всех сил цепной своры старались угодить своим господам — капиталистам, содержателям газет.
И, главное, этот разнузданный дикий цинизм лакеев-критиков („Сумасшедшие! Шарлатаны!”) очень нравился всему черносотенному разгулу лихого безвременья, когда героем политической арены Государственной думы был Пуришкевич.
А я, о “сумасшедший”, в эти кошмарные дни задумал написать роман «Стенька Разин», чтобы раз навсегда показать, открыть свое идеологическое лицо, обвеянное возрастающими предчувствиями приближения революции.
О, непромокаемый энтузиаст, я глубоко верил, что черные дни самодержавной России сочтены, несмотря на торжество реакции, что именно теперь в этой рабской тьме чудесно будет зажечь свой разинский костер в Жигулевских горах надежд и ожиданий.
Верил, что своим костром согрею многих, кому холодно и бесприютно от леденящих будней тюремного жития.
Весна поила хмельной брагой.

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 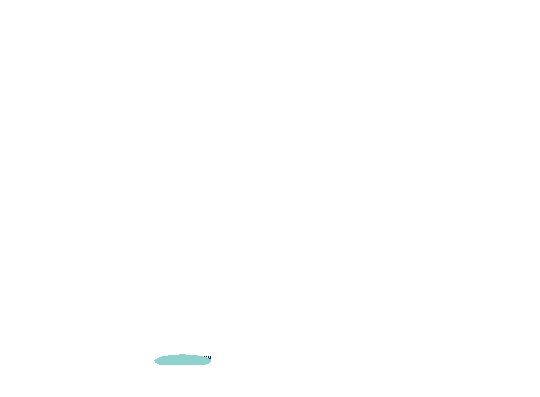 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||