

С Хлебниковым меня познакомил Давид Бурлюк в начале 1912 года в Москве на каком-то диспуте или на выставке. Хлебников быстро сунул мне руку. Бурлюка в это время отозвали, мы остались вдвоём. Я мельком оглядел Хлебникова.
Тогда ему было 27 лет. Поражали: высокий рост, манера сутулиться, большой лоб, взъерошенные волосы. Одет был просто — в тёмно-серый пиджак.
Я ещё не знал, как начать разговор, а Хлебников уже забросал меня мудрёными фразами, пришиб широкой учёностью, говоря о влиянии монгольской, китайской, индийской и японской поэзии на русскую.
— Проходит японская линия, — распространялся он. — Поэзия её не имеет созвучий, но певуча... Арабский корень имеет созвучия...
Я не перебивал. Что тут отвечать? Так и не нашёлся. А он беспощадно швырялся народами.
— Вот академик, — думал я, подавленный его эрудицией. Не помню уж, что я бормотал, как поддерживал разговор.
В одну из следующих встреч в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка — наброски, строк 40–50, своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг — собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещрённые его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, ещё поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами.
Первое издание этой поэмы вышло летом 1912 г. уже по отъезде Хлебникова из Москвы (литография с 16 рисунками Н. Гончаровой).
Об этой нашей книжке вскорости появилась большая статья именитого тогда С. Городецкого в солидно-либеральной «Речи». Вот выдержки:
Уснащено обширными цитатами. Я был поражён: первая поэма — первый успех.
Эта ироническая, сделанная под лубок, издёвка над архаическим чёртом быстро разошлась.
Перерабатывали и дополняли её для второго издания — 1914 г. — мы опять с Хлебниковым. Малевали чёрта на этот раз К. Малевич и О. Розанова.
Какого труда стоили первые печатные выступления! Нечего и говорить, что они делались на свой счёт, а он был вовсе не жирен. Проще — денег не было ни гроша. И «Игру в аду» и другую свою, — тоже измывательскую, — книжку «Старинная любовь» я переписывал для печати сам литографским карандашом. Он ломок, вырисовывать им буквы неудобно. Возился несколько дней. Рисунки Н. Гончаровой и М. Ларионова были, конечно, дружеской бесплатной услугой. Три рубля на задаток типографии пришлось собирать по всей Москве... Хорошо, что типограф посчитал меня старым заказчиком (вспомнил мои шаржи и открытки, печатанные у него же), и расщедрился на кредит и бумагу. Но выкуп издания прошёл не без трений. В конце концов, видя, что с меня взятки гладки, и напуганный моим отчаянным поведением, дикой внешностью и содержанием книжек, неосторожный хозяин объявил:
— Дайте расписку, что претензий к нам не имеете. Выплатите ещё три рубля и скорее забирайте свои изделия.
Пришлось в поисках трёшницы снова обегать полгорода. Торопился. Как бы типограф не передумал, как бы дело не провалилось...
Примерно с такой же натугой печатал я и следующие издания ЕУЫ (1913–1914 гг.). Книги «Гилей» выходили на скромные средства Д. Бурлюка. «Садок судей» I и II вывезли на своем горбу Е. Гуро и М. Матюшин.
Кстати, «Садок судей» I — квадратная пачка серенькой обойной бумаги, односторонняя печать, небывалая орфография, без “ятей” и без знаков препинания (было на что взглянуть!), — мне попался впервые у В. Хлебникова. В этом растерзанном и зачитанном экземпляре я впервые увидел хлебниковский «Зверинец» — непревзойдённую, насквозь музыкальную прозу. Откровением показался мне и свежий разговорный стих его же пьесы «Маркиза Дезес», оснащённый редкостными рифмами и словообразованиями.
Чтобы представить себе впечатление, какое тогда производил сборник, надо вспомнить его основную задачу — уничтожающий вызов мракобесному эстетизму «Аполлонов». И эта стрела попала в цель. Недаром после реформы правописания аполлонцы, цепляясь за уничтоженные “яти” и “еры”, дико верещали (см. № 4–5 их журнала за 1917 г.):
— И вместо языка, на коем говорил Пушкин, раздастся дикий говор футуристов.
Так озлило их, такие пробоины сделало в их бутафорских “рыцарских щитах”, так запомнилось им даже отсутствие этого достолюбезного “ятя” в «Садке»...
Моя совместная с Хлебниковым творческая работа продолжалась... Я настойчиво тянул его от сельских тем и “древлего словаря” к современности и городу.
— Что же это у вас? — укорял я. — “Мамоньки, уже коровоньки ревмя ревут”. Где же тут футуризм?
— Я не так написал! — сердито прислушиваясь, наивно возражал Хлебников. — У меня иначе: Мамонька, уж коровушки ревмя ревут, водиченьки просят, сердечные... («Девий бог»).
Признаться, разницы я не улавливал и прямо преследовал его “мамонькой” и “коровонькой”.
Хлебников обижался, хмуро горбился, отмалчивался, но понемногу сдавался. Впрочем, туго.
— Ну, вот, про город! — объявил, он как-то, взъерошив волосы и протягивая мне свеженаписанное. Это были стихи о хвосте мавки-ведьмы, превратившемся в улицу:
Я напечатал эти стихи в «Изборнике» Хлебникова. Такой же спор возник у нас из-за названия его пьесы «Оля и Поля».
— Это «Задушевное слово», а не футуризм, — возмущался я и предложил ему более меткое и соответствующее пьеске — «Мирсконца», которым был озаглавлен также наш сборник 1912 г.
Хлебников согласился, заулыбался и тут же начал склонять:
— Мирскóнца, мирсконцой, мирсконцом.
Кстати, вспоминаю, как в те годы Маяковский острил:
— Хорошая фамилия для испанского графа — Мирскóнца (ударение на о).
Если бы не было у меня подобных стычек с Хлебниковым, если бы я чаще подчинялся анахроничной певучести его поэзии, мы написали бы вместе гораздо больше. Но моя ерошливость заставила ограничиться только двумя поэмами. Уже названной «Игрой» и «Бунтом жаб», написанным‹и› в 1913 г. (напечатано во II томе собрания сочинений Хлебникова).
Правда, сделали совместно также несколько небольших стихов и заметок о слове.
Резвые стычки с Виктором Хлебниковым (имя Велимир — позднейшего происхождения) бывали тогда и у Маяковского. Помню, при создании «Пощёчины общественному вкусу» Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: мы будем тащить Пушкина за обледенелые усы. Маяковский боролся за краткость и ударность.
Но часто перепалки возникали между поэтами просто благодаря задорной и неисчерпаемой говорливости Владимира Владимировича. Хлебников забавно огрызался.
Помню, Маяковский как-то съязвил в его сторону:
— Каждый Виктор мечтает быть Гюго.
— А каждый Вальтер — Скоттом! — моментально нашёлся Хлебников, парализуя атаку.
Такие столкновения не мешали их поэтической дружбе. Хлебникова, впрочем, любили и высоко ценили все будетляне.
В. Маяковский, В. Каменский и Д. Бурлюк в 1912–1914 гг. не раз печатно и устно заявляли, что Хлебников — „гений, наш учитель, славождь” (см., например, листок «Пощёчины», предисловие к 1 тому творений Хлебникова изд. 1914 г. и др.). Будетляне своим “ведущим” считали Хлебникова. Впрочем, надо подчеркнуть: в раннюю эпоху футуристы шли таким тесным, сомкнутым строем, что все командирские титулы не приложимы здесь. Ни о каких “наполеонах” и единоначальниках среди нас тогда не могло быть и речи...
Гораздо теснее мне удалось сработаться с В. Хлебниковым в области декларативно-программной. Мы вместе долго бились над манифестом о слове и букве “как таковых”. Плоды этих наших трудов увидели свет лишь недавно в «Неизданном Хлебникове».
Помимо этого, Велимир живо отзывался на ряд других моих исследовательских опытов. Мою брошюру «Чёрт и речетворцы» обсуждали вместе. Просматривали с ним уже написанное, исправляли, дополняли. Интересно, что здесь Хлебников часто оказывался отчаяннее меня. Например, я рисовал испуг мещанина перед творческой одержимостью. Как ему быть, скажем, с экстатическим Достоевским? И вот Хлебников предложил здесь оглушительную фразу:
— Расстрелять, как Пушкина, как взбесившуюся собаку!
Многие вставленные им строки блещут остротой издёвки, словесным изобретательством.
Так, мое нефтевание болот сологубовщины Хлебников подкрепил четверостишием о недотыкомке:
Здесь замечательна Неть — имя смерти.
Не меньше участие Хлебникова и в моей работе «Тайные пороки академиков». Эта вещь также обсуждалась мною с Велимиром, и там есть несколько его острых фраз.
Однако сотрудничество Хлебникова, как оно ни было ценно, таило свои опасности. Приходилось быть всё время начеку. Его глубокий интерес к национальному фольклору часто затуманивал его восприятие современности. И порой его языковые открытия и находки, будь они неосмотрительно опубликованы, могли бы быть использованы нашими злейшими врагами в целях далеко даже не литературных.
Способность Хлебникова полностью растворяться в поэтическом образе сделала некоторые его произведения объективно неприемлемыми даже для нас, его друзей. Конкретно назвать эти вещи трудно, так как они затерялись и, вероятно, погибли. Другие — мы подвергали серьёзному идейному выпрямлению.
Ещё резче приходилось восставать против опусов некоторых из протеже слишком увлекавшегося красотами “русской души” Хлебникова. Так, вспоминаю, были категорически отвергнуты редакцией «Садка судей» некоторые в сильно сусанинском духе стихи 13-летней Милицы. Сопроводительное хвалебное письмо Велимира об этих стихах, полное предчувствия социальных катастроф, но весьма непродуманное, напечатано мною лишь недавно в «Неизданном Хлебникове» как документ большого эпистолярного мастерства поэта.
Случалось также решительно браковать и редакторские поправки Хлебникова, продиктованные его остро выраженным в то время национализмом. В моих строчках (из «Пощёчины»):
Хлебников усмотрел оскорбление армии и безуспешно настаивал на замене ‘офицера’ — ‘хроникёром’ (!)
Наша будетлянская определённая общественно-политическая ориентация, органически связанная с революционными установками в искусстве, никогда не подавалась нами оголённой. Но она обуславливала содержание наших художественных вещей. Только подслеповатость иных критиков объясняет созданную ими легенду о нашей дореволюционной аполитичности. Вся история нашей работы с В. Хлебниковым говорит о твёрдости социально-политической линии будетлян. И если Хлебников впоследствии, в суровые годы войны и революции, далеко ушёл от специфического историзма, национализма и славянофильства, — то немалую роль сыграло здесь его товарищеское окружение. В дружеской атмосфере нашей группы постепенно рассеивались сусальные призраки святой Руси и ископаемых “братьев-славян”. Хлебников был труден, но всё же податлив. После сдачи нами в печать «Пощёчины» неусидчивый Велимир неожиданно исчез. В начале 1913 г. я получил от него большое послание, насколько помню, из Астрахани.
Оно хорошо характеризует простоту проникнутых откровенностью и доверием взаимоотношений внутри нашей молодой ещё группы.
Отчётливо отразился в письме весь широкий круг интересов и занятий Хлебникова, и тут ясно видны его панславистские симпатии и поиски идеализированной самовитой России. Правда, здесь же он говорит уже об изучении Индии, монгольского мира, японского стихосложения, — симптом будущего перехода на позиции международника, как выражался впоследствии сам Велимир.
Любопытно, что даже наше отрицательное отношение к ярлыкам и кличкам, которые механически навязывались нам извне, находит у Хлебникова очень своеобразное истолкование (пренебрежительное упоминание об “истах”, “выстуживании русской обители” и т.д.).
Это письмо было опубликовано в «Неизд‹анном› Хлебн‹икове›» вып. 10-й (1928 г.) и затем перепечатано в V т. Собр‹ания› произв‹едений› Хлебникова.
Я работал с Хлебниковым довольно много. Но помню только один случай, когда к нашей рабочей паре присоединились В. Маяковский и Д. Бурлюк. Это было, когда мы писали манифест к «Пощёчине общественному вкусу».
Москва, декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.
Помню, я предложил: „Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”. Маяковский добавил: „С парохода современности”. Кто-то: „Сбросить с парохода”.
Маяковский: „Сбросить — это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода...”
Помню мою фразу: „Парфюмерный блуд Бальмонта”. Исправление В. Хлебникова: Душистый блуд Бальмонта не прошло. Ещё моё: „Кто не забудет своей первой любви — не узнает последней”. Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: „Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет”.
Строчки Хлебникова: Стоим на глыбе слова Мы.
„С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.)”
Хлебников, по выработке манифеста, заявил:
— Я не подпишу это... Надо вычеркнуть Кузмина — он нежный. Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел.
Закончив манифест, мы разошлись. Я побежал обедать и съел два бифштекса сразу, — так обессилел от совместной работы с великанами!..
Не давая опомниться публике, мы одновременно с книгой выпустили листовку под тем же названием.
Хлебников особенно её любил и, помню, расклеивал в вегетарианской столовой (в Газетном переулке) среди всяческих толстовских объявлений. Хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню. Вот текст этой листовки:
На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения “в нашу пользу” произведения: против текста Пушкина — текст Хлебникова, против Лермонтова — Маяковского, против Надсона — Бурлюка, против Гоголя — мой.
Меньше всего мы думали об озорстве. Но всякое новое слово рождается в корчах и под визги всеобщей травли. Нам, участникам борьбы, книги и декларации не казались дикими ни по содержанию, ни по оформлению. Думаю, что они не поразили бы и теперешнего читателя, не очень-то благоговеющего перед Леонидами Андреевыми, Сологубами и Куприными. Но тогдашние охранители “культурных устоев” из «Нового Времени», «Русского Слова», «Биржевки» и пр‹очих› устами Буренина, А. Измайлова, Д. Философова и др‹угих› пытались просто нас удушить.
Теперь эта травля воспринимается как забавный бытовой факт. Но каково было нам в свое время проглатывать подобные булыжные глупости?! А все они были в таком роде:
— Вымученный бред претенциозно-бездарных людей...
Это улюлюканье застрельщика строкогонов А. Измайлова. От него не отставали Анастасия Чеботаревская, Н. Лаврский, Д. Философов и т.д. и т.д. Писали они по одному рецепту:
— Хулиганы — сумасшедшие — наглецы.
— Такой дикой бессмыслицей, бредом больных горячкой людей или сумасшедших наполнен весь сборник...
Таково было наше первое боевое “крещение”...
Будетляне начали свое наступление в 1911–12 — в годы нового подъёма освободительной борьбы пролетариата. Слышали шаги эпохи, чувствовали время, ждали социальных потрясений. Ещё в 1912 г., в «Пощёчине общественному вкусу», В. Хлебников, давая сводку годов разрушения великих империй, доходит и до 1917. Оставшиеся одному ему известными вычисления и, главное, чувство конца помогли ему точно обозначить время катастрофы.
В следующем, 1913 году, на страницах сборника «Союз молод‹ёжи›» Хлебников ещё более конкретно говорит: Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?
Империалистическая война, личное тяжелое знакомство Хлебникова с царской казармой (пребывание в чесоточной команде) — непреодолимая логика истории столкнула Хлебникова лицом к лицу с современной действительностью, которую он раньше, как неисправимый мечтатель-романтик, рассматривал голубыми глазами.
Более реальное понимание окружающего привело Хлебникова на революционные улицы столиц.
Отношение его к событиям ясно из рассказа «Октябрь на Неве» (1917–18гг.).
— В эти дни, — писал он, — странной гордостью звучало слово большевичка...
Любопытно предоктябрьское поведение Хлебникова. Здесь сказались всё своеобразие поэта и его пристрастие к народному балагану.
— Есть ли человек, которому Керенский не был бы смешон и жалок? — говорил Хлебников при Временном правительстве. Он воспринимал Керенского, как личное оскорбление, и со всей своей фантазёрской непрактичностью строил “уничтожающие” проекты:
— Заказывать игрушечным мастерам пищащих чёртиков с головой главнонасекомствующей (Хлебников упорно звал Керенского Александрой Фёдоровной — именем отставной царицы).
— Это будет очень ходовой товар, — говорил Велимир, — Керенская дуется и в писке умирает.
— Сделать чучело Керенской и с торжественной демонстрацией нести её на руках до Марсова поля, где, положив недалеко от братской могилы, высечь так, чтобы стоны секомой слышали павшие в феврале с её именем на устах. (Хлебников называл это высекновением, на манер “усекновения”, чтобы передать “торжественность” обстоятельств).
Наконец, третий, самый радикальный проект “свержения”, заключался в том, что по жребию кто-нибудь из неразлучной тогда тройки — Хлебникова, Дм. Петровского и Петникова — отправится во дворец и, вызвав Керенского в кулуары, даст ему пощёчину от всей России.
Накануне Октября Хлебниковым и его друзьями было послано такое письмо:
Не менее озорной была и другая демонстрация ненависти Велимира к незадачливому правительству. Как-то он и его приятели позвонили из Академии художеств:
— Будьте добры, соедините с Зимним дворцом.
— Зимний дворец? Говорит артель ломовых извозчиков.
— Что угодно? — холодный, вежливый, но невесёлый голос.
— Союз ломовых извозчиков просит сообщить, как скоро собираются выехать жильцы из Зимнего дворца.
— Что, что?
— Выедут ли насельники Зимнего дворца?.. Мы к их услугам...
— А больше ничего? — слышится кислая улыбка.
— Ничего!
Там слышат, как здесь, у другого конца проволоки, хохочут Хлебников и его друзья. Из соседней комнаты выглядывает чьё-то растерянное лицо.
Через два дня заговорили пушки.
Конечно, Хлебников не ограничивался одними издевательскими выпадами против Временного правительства. Он мечтал выйти вместе с рабочими на баррикады. Однако его, слишком рассеянного и неприспособленного к бою, друзья не могли пустить в схватку. Он был не то что храбр, а как-то не сознавал, не ощущал опасностей. В октябрьские дни в Москве, куда он переехал из Петербурга, он совершенно спокойно появлялся в самых опасных местах, среди уличных боев и выстрелов, проявляя к происходящему огромный интерес. Такое поведение было тем безрассуднее, что в этой обстановке он часто забывался, целиком уходя в свои творческие замыслы.
Они реализовались позже в нескольких больших поэмах Хлебникова — «Настоящее», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск» и во многих стихах, сделанных для РОСТы.
Художница М.С. рассказывает:
— Было это примерно в 1918–1919 гг. у нас на даче под Харьковом. Хлебников, бездельничая, валялся на кровати и хитро улыбался.
— Я самый ленивый человек на свете, — заметил он и свернулся калачиком. Было тихо, уютно.
— Витюша, вы лежите, как маленький ребёнок. Хотите — я вас спеленаю?
— Да, это будет хорошо, — пропищал Хлебников. М.С. спеленала его простыней, одеялами и связала несколькими полотенцами.
Хлебников лежал и наслаждался. М.С. всунула ему в рот конфекту.
— Витя, вам хорошо?
— Да, очень хорошо. (Все это тихим, пискливым голосом). И в полном блаженстве Хлебников пролежал так несколько часов...
Пусть это выдумано, но выдумано хорошо.
Шаржировано положение, в котором мог очутиться Хлебников и в котором трудно представить, например, Маяковского.
Если в жизни и в поэзии Маяковский спец по грубости, громыханию, громким “булыжным” словам, то Хлебников — мастер нежности, шепота и влажных звуков. Маяковский — мужественность — город — завод. Хлебников — женственность — деревня — степь.
Конечно, футуризм вытравлял из Хлебникова излишнюю деревенщину, но природные черты его проглядывали во многом.
Когда Маяковский разнеживался или исходил любовной томностью, он впадал в стихию Хлебникова. И не из словообразований ли последнего эти пришепетывания и слёзные токи влюблённого Голиафа:
И не слышатся ли “увлажненные” слова Хлебникова в таких строчках Маяковского:
Сравнить у Хлебникова (из ранних стихов):
И из позднейших:
Несмотря на значительную разницу в характерах, Хлебникова и Маяковского объединяло то, что в них было много дикарского и жизнь обоих сложилась трагично.
Оба были силачами и работягами до изнеможения. Надеясь на свои силы, не считались с действительностью эти, наконец, надорвавшиеся великаны.
Хлебников так рассчитывал на свою всевыносливость, что ночевал на снегу в лесу. Звериный инстинкт его часто выручал — Велимир в него верил и не любил докторов, не любил лечиться. Вообще сторонился культурного и городского: всю жизнь относился враждебно к телефону, спать предпочитал на соломе или на голом тюфяке, а простыни сбрасывал на пол.
Во время гражданской войны Хлебникову пришлось особенно плохо. Как беспаспортного, его часто арестовывали (у него не было даже карманов, и вообще — зачем настоящему страннику паспорт?!). Он много голодал и болел (сыпной тиф). Друзья уговаривали его лечиться.
— Лечение успеется! — говорил Хлебников. Он рвался в столицу, чтоб напечатать свои произведения, главным образом вычисления о будущих войнах.
В 1921 г. уже в Москве он таинственно сообщил мне о своих открытиях, доверяясь:
— Англичане дорого бы дали, чтобы эти вычисления не были напечатаны!
Я смеялся и заверял Хлебникова, что англичане гроша не дадут, несмотря на то, что доски судьбы грозили им погибелью, неудачными войнами, потерей флота и пр‹очим›.
Хлебников обижался, но всё же, видимо убеждённый, дал мне свои вычисления для обнародования. У меня сохранилась его записка:
Алексею Кручёных
«Часы человечества».
Разрешается печатать.
В. Хлебников.
10.01.22.
Эта вещь вошла в «Доски судьбы» (изд. 1922 г.). В Москве Велимир снова заболел, жаловался, что у него пухнут ноги. Некоторым, не в меру горячим поклонникам, удалось уговорить его уехать в деревню и оттуда грозить англичанам, а заодно и всем неверующим в грозные вычисления.
К сожалению, материальная часть похода была в печальном состоянии: Хлебников в дороге простудился (весною уснул на сырой земле). Медпомощь в деревне была недостаточна, к тому же Велимир гнал от себя лекарей.
Незадолго до смерти он написал письмо д‹окто›ру А.П. Давыдову (Москва):
Это последняя весть от Велимира Хлебникова — предземшара. Болезнь быстро развивалась и привела к преждевременному концу. Хлебников умер 37 лет — в возрасте Байрона, Пушкина и Маяковского.
В декабре 1921 года в Москве я пошёл вечером в кафе поэтов, на Тверскую улицу, напротив Центрального Телеграфа, — там каждый вечер выступали поэты. Маяковский тоже числился в этом литературном объединении, называвшемся СОПО (Союз поэтов). В 1924 г. он написал заявление, что недоволен СОПО, и ушёл оттуда.
В этом кафе я поймал Хлебникова. Было уже поздно — часов десять-одиннадцать вечера. Хлебников имел утомлённый вид, приехал поездом — кажется, с юга. Был он с вещами или без вещей, я не помню, но он подходил к представителям администрации, просился остаться в кафе ночевать, потому что он нигде не устроился, но ему возражали, что выступать он здесь может — пожалуйста, а для ночлега кафе поэтов не приспособлено, ночевать здесь запрещено, поэтому его оставить здесь нельзя.
Хлебников очень огорчился, и я предложил ему идти вместе со мной. Пошли на Мясницкую улицу. Он мне рассказывал, что приехал днём, долго ходил по Москве, искал цех поэтов, но нигде не мог найти, наконец, отыскал его на Тверской улице, но его там ночевать не оставили. Потом говорил о том, что он привёз много записей чисел.
Мы пришли во двор дома, где помещается Вхутемас (бывшая школа живописи и ваяния). Я повёл его к моему знакомому студенту, в то время коменданту студенческого общежития. Я называю его только инициалами М.П., потому что он не поэт и его имя в литературе неизвестно. Он согласился оставить Хлебникова переночевать (из-за тесноты Велимир спал на столе). Тогда я сказал, что время прибытия Велимира надо отметить стихами, достал свою запись:
и к ней приписал:
(Варианты см. в «Записной книжке Хлебникова», М., 1925, стр. [1] 4). Потом я предложил записать день прибытия Хлебникова в Москву. Он сказал:
— Если записывать, то надо записать точно, — и мы отметили: 28 XII — 21 г., 1 ч. ночи, 27 м., 37 сек. (это уже прибытие его на ночлег).
Подписались все трое — В. Хлебников, А. Кручёных и М.П. На следующее утро я пришёл к Хлебникову и предложил ему пойти к Маяковскому. Пошли звонить к Брикам — они жили ‹в› Водопьяном переулке, пригласили придти. По дороге я купил твердокопчёной колбасы, чтобы Хлебников позавтракал. Когда мы пришли, у Бриков оказался Маяковский. Хлебникова посадили за стол поесть, и он с большим удовольствием ел колбасу, а Брики и Маяковский, которые уже позавтракали, разговаривали с ним и между собой. Потом Маяковский принёс свой костюм и тёплое пальто, говоря, что Велимир почти одного с ним роста — он должен это всё взять и надеть на себя.
Хлебников поел, переоделся и пришёл в хорошее настроение. Брики и Маяковский унесли его старую одёжу, и Маяковский сказал, что в ближайшие дни Хлебников должен выступать — не помню, числа 29 или 30, а может быть, под Новый год. Тут пришёл В. Каменский, и ему тоже предложили выступать с нами. Каменский говорил:
— Вот хорошо было бы нам выйти всем четверым, обнявшись!
Маяковский добавил:
— Выйти... — и добавил пикантное выражение. Все расхохотались.
После этого было вновь обращено внимание на Хлебникова, и ему предложили идти в парикмахерскую, утверждая, что хоть его борода и похожа на бороду Зевса, но надо сделать её короче. Мне поручили этим заняться, и я повёл Виктора в ближайшую парикмахерскую. Его начали стричь, но “бороду Зевса” обкарнали с боков и сделали бородку лопатой — слишком коротко остригли на щеках.
В конце декабря мы вчетвером действительно выступали в аудитории бывшего Строгановского училища. Директорами училища были Давид Петрович Штеренберг и Вл. Татлин. Там уже слышали, что Хлебников — это гений, поэтому, когда он читал, в аудитории царили абсолютная тишина и спокойствие.
Хлебников читал великолепно, как мудрец и человек, которому веришь. В тот вечер все четверо — Хлебников, Маяковский, Каменский и я — имели большой успех.
1932–1934, 1964
Публикация А.Е. Парниса
| Персональная страница А.Е. Кручёных | ||
| карта сайта | 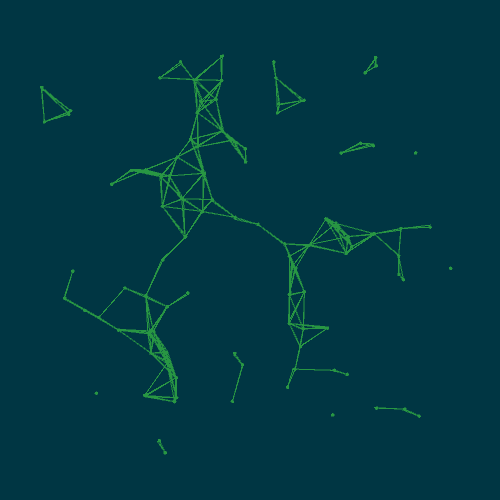 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||