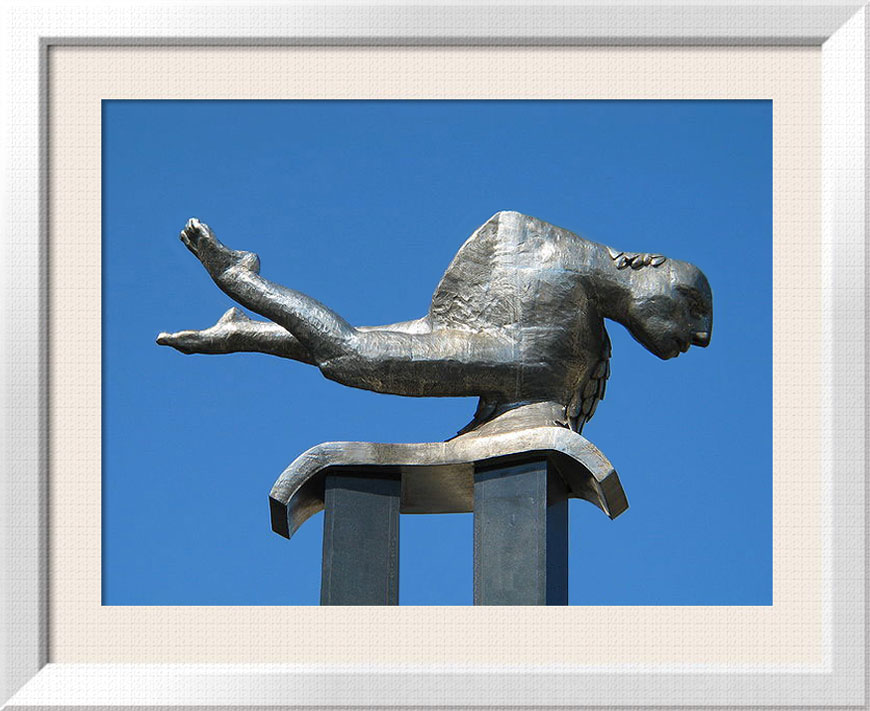
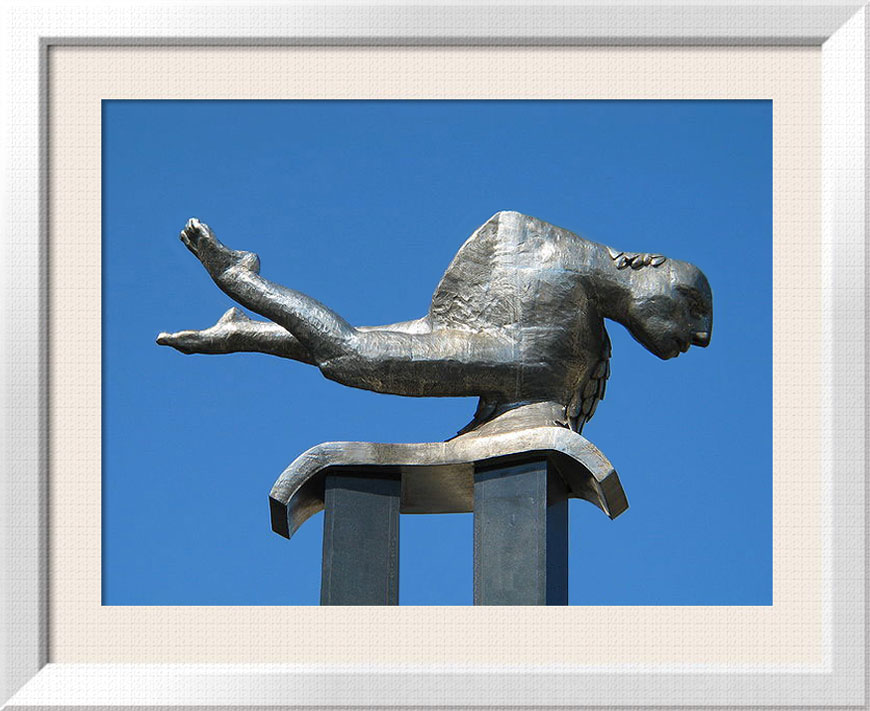
Потому что делиться пережитым всегда и тревожно, и очень грустно. Радость несёт одно лишь будущее. Так и хочется громко крикнуть: даёшь только светлое и радостное будущее! Неспроста первые футуристы назвали себя будетлянами — современниками грядущей победы над мраком и горем.
Но и забывать прошлое нельзя. Надо изучать его бережно, с любовью. Прошлое не трухлявый пень, а родина побегов новой жизни. Передвинем же стрелку времени на полсотни лет назад.
Первая встреча и личное знакомство с будетлянами произошли у меня весной 1914 года в Тифлисе. Я был тогда гимназистом и учеником Школы живописи, ваяния и зодчества, полным задора и исканий. Словно губка, впитывал всё, что встретится на пути.
И вдруг, как бомба, влетевшая в окно, — величавая поступь Давида Бурлюка, Василия Каменского и Владимира Маяковского по Головинскому проспекту. Повадки и вызывающая внешность молодых людей поразили юношеское воображение: вот она, свежая струя в искусстве и в жизни! С их посещением Тифлиса у меня появились диковинные книги с дерзкими иллюстрациями, новые слова и новые мысли. В общем, прикосновение к будетлянству всего меня перепахало.
И вот Москва, зима 17-го года. Эта зима была из ряда вон по насыщенности впечатлениями. Лавина незабываемых встреч и знакомств.
Весь день, с итальянским карандашом в руке, я проводил в студии Леблана, Бакланова и Северова на Тверской — изучал греков. Впитывал вечно живые, почти музыкальные формы, полные мудрой пластики и гармонии. Устроил меня в студию Давид Бурлюк, который был дружен с Лебланом. Вечерами же до часу ночи я просиживал в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. От этого домика сейчас не осталось и следа. На его месте высится огромное здание.
Здесь, в «Кафе поэтов», я близко сошёлся со множеством художников, поэтов и артистов. Все были ярыми приверженцами новых форм и врагами всяческой мертвечины. Все были молоды и полны надежд. Все любили искусство, любили жизнь.
Вот в эту-то зиму, невероятную зиму 17-го года, я и познакомился с Велимиром Хлебниковым. Трудно сказать, где произошла первая встреча — в Настасьинском ли переулке, или на Страстной площади, в доме Лидии Владимировны, жены доктора Давыдова, где я часто бывал. Загляни туда в любое время от полудня до полуночи — обязательно встретишь кого-нибудь из поэтов или художников. Уютно, ласково и просто, как дома. То увлекательный разговор о живописи, книжных новинках или театральных премьерах, то читаются новые, ещё не напечатанные стихи. А можно было поздороваться и молча расположиться на диване, оставаясь как бы незамеченным. Никто не пристанет с вопросами и не затянет в общий разговор. Этот дом был оазис, где усталого путника ждал покой и отдых.
Таким, погружённым в свои думы, я часто заставал здесь Велимира Хлебникова, который одно время и жил у Лидии Владимировны.
Вспоминаю, как не раз вместе с ней ходил и в «Музыкальную табакерку» на углу Кузнецкого моста и Петровки, и в «Стойло Пегаса» на Тверской улице, и, реже, в кафе «Питтореск», расписанное художником Лентуловым.
Днём в этих кафе было сонно и тихо, но вечерами закипала жизнь: выступали поэты, актёры, танцоры и певцы. В «Стойле Пегаса» царствовал Мариенгоф, собирая весь свет люстры и бра, как в фокусе, на своем чёрном лакированном цилиндре. Всегда подтянутый, напудренный, со стеком в руке, Шершеневич, как шершень жужжащий, полный порыва, незаконченного движения и не знающий покоя. Стройная, изящная, худенькая, черноволосая, красивая и знающая себе цену — поэтесса Сусанна Мар. И, наконец, с осиной талией напоказ — потому и в черкеске — Кусиков.
С ним довелось встретиться уже в 28-м году в Париже, в Гранд Опера на гастрольном спектакле театра имени Вахтангова, но поговорить так и не удалось: промелькнул за кулисами во время антракта и исчез.
В «Музыкальной табакерке» царил иной дух: всегда полумрак, тесно сдвинутые столики, поскольку помещение было небольшим; довольно уютно, но душно и особенно подтянуто и накрахмалено в воздухе. Не было той простоты, что царила в Настасьинском переулке.
Как-то раз, помню, там выступал Маяковский. Прочитал со сжатыми зубами, не вынимая изо рта папироски, свой «Марш футуристов», который я впоследствии постоянно читал на поэзоконцертах, о которых расскажу ниже, затем подошел ко мне (было около одиннадцати вечера) и спросил: „Вы не идёте ли в Настасьинский, если да, то идёмте вместе”. И мы пошли в «Кафе поэтов». Он тащил подмышкой кипу книг и, видимо, был чем-то очень озабочен и огорчён. Нервно жевал всю дорогу папиросу, закинув за спину конец своего длинного кашне. Я тоже в эти дни был погружён в раздумья и нёс большие переживания. Всё пересматривал и переоценивал. Так и шли мы молча, изредка перекидываясь случайными и незначительными фразами.
В «Кафе поэтов» нас встретил шум, крик и оживление. Как обычно, балагурит Давид Бурлюк, без устали расточая свои остроты. С ним, как с художником, собратом по профессии, я сдружился больше других. Здесь, в Кафе, и созрел к весне наш план совместной работы летом и турне по восточной России осенью: напишем картины, а потом едем с выставкой, докладами о новом искусстве и поэзоконцертами.
Давид Давыдович — или, как он впоследствии просил называть его, Додя — пригласил меня к себе на всё лето в татарскую глухую деревню Буздняк близ Бугульмы, где постоянно жила его семья: жена Мария Никифоровна и два сына четырёх и пяти лет, Додик и Никиша. Летом здесь же отдыхала его сестра Марианна — певица, студентка Московской консерватории, и сестра жены Елена. Познакомился, а потом и подружился я с мамашей Давида Бурлюка. Маленького роста, очень живая, подвижная и жизнерадостная женщина, тоже художница. С ней я встречался на выставках в Москве и Самаре, где среди холстов Доди были и её работы — пейзажи маслом, в основном виды Урала. Горы написаны были очень сочно, причём в краски она любила добавлять бронзовый порошок, что давало блеск и ощущение тяжести минерала. Она часто сопровождала Додю в поездках, а на выставке заменяла кассира.
Итак, я с Бурлюком на всё лето поехал писать пейзажи. После почти трёхдневного путешествия мы, наконец, прибыли в Буздняк. Страшно усталые: всю последнюю ночь не сомкнули глаз. Расписание было составлено так, что нужный поезд прибывал на этот полустанок рано утром. Зал ожидания крохотный, а присесть — две короткие скамейки. Полно отъезжающих, преимущественно татар. Кроме счастливчиков на скамейках, все стоят. Стемнело. Зажгли тусклую керосиновую лампу, которая уныло боролась с темнотой. И вдруг всё пришло в движение — народ укладывается прямо на пол. Не прошло и часа, как зал погрузился в глубокий сон. Поднялся страшный переливчатый храп, с каждой минутой он крепчал. Пройти невозможно: повсюду тела, руки, ноги. Спёртый воздух выгоняет нас на перрон. Холодно, и Додя, наконец, предлагает зайти погреться. Открыв дверь, он, по своему обыкновению, острит: „Вот это надо написать! Ночь после Куликовской битвы”. Но хотя зрелище чрезвычайно живописно, больше десяти минут выдержать невозможно, и мы выскакиваем на воздух. Так и вышагивали, сначала любуясь луной, а потом рассветом.
Буздняк — большое село с высившейся посередине мечетью и огромной базарной площадью. Очень пыльное летом и непроходимое от невероятной грязи, вязкой и скользкой, осенью.
Додя снимал отдельный большой деревянный дом крестьянского типа. Дом был добротный, с застеклённой галереей и крылечком во двор. На улицу выходили два оконца большой комнаты-кухни, где стоял наш обеденный стол. Громадная русская печь, в которой на всю семью пекла хлеб Марианна — атлетического телосложения и страшной силы, как большинство рода Бурлюков. Каждую неделю, засучив рукава, она с поразительной лёгкостью вымешивала целую кадку ржаного заварного теста и, приготовив печь, длинной лопатой забрасывала туда поднявшиеся лепешки. Хлеб получался удивительно вкусный. Помогала ей по хозяйству худенькая Елена, которая впоследствии вышла замуж за художника Пальмова.
Под одним из окошек на улицу стоял сундук, на котором спал я. Ложились рано, ибо жизнь все вели самую трудовую, но я долго не мог уснуть, слушая песни — незнакомые мне татарские мелодии, своеобразные и довольно грустные. Их на улице исполняла молодёжь под гармонь. Когда же стихали песни, начинался лай собак. Они словно перекликались с одного конца деревни в другой. Это было как-то особенно сиротливо и жутко, немного тревожно, словно ты слышишь, как погружается в сон земля. В шесть часов утра Додя всех поднимал на ноги громким пением: „Чом, чом не пришов, як я говорила, цилу ночку свичка прогорила” и т.д. Все вставали, пили чай, и мы уходили на этюды. Пока было светло, увлечённо работали, а за вечерним чаем читали стихи или новые, полученные из Москвы книги.
Сам Додя спал с семьёй в большой светлой комнате окнами во двор. Там, кроме изрядного количества кроватей, стояло пианино, на котором в свободное время играла и пела Марианна. Много места занимала печь с лежанкой, стены которой время от времени выбеливались, потому что на них ребятам разрешали рисовать углём. Поэтому печь то и дело покрывалась деревьями, домами, людьми и разными животными ледникового периода.
У Доди в сенях был завал подрамников, холстов и, кроме того, стоял книжный шкаф, специально отведённый под краски. Перед отъездом в здании Школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице он вместе со мной закупал их ящиками. Додя писал преимущественно мастихином, накладывая друг на друга толстые слои красок. В них он был ненасытен, и после каждого этюда на месте работы оставались десятки пустых тюбиков. Додя их не выбрасывал, а собирал и переплавлял в печке — для продажи. Олово охотно покупали у него местные жители для лужения медной посуды. Работал он, кроме пейзажей, над портретами и даже осуществил свою мечту: написал большую картину «Куликовская битва». В краски для неё Додя зачем-то примешивал мёд. Написал и повесил на кухне около печки. Там было невероятное количество мух. Вскоре они покрыли всё полотно, наподобие липкой бумаги, а Додя ходил счастливый около него и приговаривал: „Вот это будет фактурка”. Затем, взяв кисть, ещё раз прописал — прямо по высохшим мухам. Фактура действительно получилась ого-го.
Так за это лето была подготовлена выставка. Упаковав все картины и необходимый материал в ящики, мы тронулись в путь. По дороге мне надо было завернуть домой, чтобы взять костюм и прочее для концертов. Я отлучился и догнал Додю уже в Омске. Мы пробыли там недели две, дав несколько поэзоконцертов в помещении Политехнического института, где была открыта и наша выставка.
Додя был чрезвычайно деловой и предприимчивый человек. Ещё в Москве он отпечатал афиши и для выставок, и для концертов. В предусмотренные для этой цели пробелы нужно было вписать число и адрес помещения — вот и вся недолга. Имел при себе готовые программки выставки и книжечки «Лысеющий хвост», с кратким манифестом футуристов и стихами. Первые страницы были чисты, и вот для чего: на глазах посетителей он покрывал их набросками тушью или акварелью, и меня пристроил к этому делу. «Хвост» с расписной лысиной продавался по двойной цене.
В той же в татарской деревне за месяц до отъезда было куплено полотенце с красивой и яркой орнаментальной вышивкой на концах. Из этих ковровых концов Марианна сшила нам два пёстрых жилета. Мы надевали их в день концерта; сама же Марианна, под именем Пуантеллины Норанжской, выступала в тонкой кисейной шали с чтением стихов нараспев.
Бурлюк отличался невероятной энергией. Через час после приезда в город он уже находил помещение для выставки и концертов. В тот же день давал в местную газету статью о футуризме. Вечером мы развешивали картины, а в 10 часов утра торжественно открывали выставку. После чего, надев свои пёстрые жилеты, прогуливались до полудня по городу, привлекая тем самым большую толпу народа. Около часу дня мы возвращались на выставку с шумной толпой.
Вход всегда был бесплатный, зато шла бойкая продажа программок и книг. Поднимался страшный шум от недоумения перед футуро-картинами, и обычно нас просили — кто с интересом, а кто и с возмущением — дать пояснение. Тогда Додя обращался ко мне с просьбой сказать пару слов о новом течении в искусстве и растолковать непонятное в картинах. Как только я заканчивал свою лекцию, он тотчас брал шляпу в руку и отправлялся обходить слушателей, приговаривая: „Всякий труд должен быть оплачен”, — и шутя собирал порядочную сумму.
Концерты и выставки проходили очень шумно. Вечером я на щеке Бурлюка рисовал рыбу, а он мне собаку, и, вставив в петлицы деревянные ложки, мы шли на концерт.
После короткого и сочного доклада Доди — а говорить он умел и образно, и остроумно — мы читали нараспев стихи. Он — свои, В. Каменского (из «Стеньки Разина»), Маяковского, а я начинал с Северянина, потом — Маяковского «Наш марш», из поэмы «Человек» и «Облако в штанах», Хлебникова «Крылышкуя золотописьмом...» и т.д.
Слушали нас очень внимательно, но реагировали всегда настолько шумно, что, казалось, зрительный зал начал колебаться и вот-вот развалится от крика, аплодисментов и свиста. Публика чётко делилась на два лагеря — принимающих и возмущённых. Нас почти выносили на руках из зала на улицу. Кругом появлялось много друзей, много сочувствующих новому искусству и новому в жизни.
По складу своей души Додя был человек практичный, с коммерческой жилкой. Он из всего старался извлечь пользу.
На выставках, кроме программок и книг, продавались и картины, но работы Бурлюка шли не очень хорошо, несмотря на то, что он старался их делать на разные вкусы. Единственное, что ему удавалось сбывать едва ли не в каждом городе, это «Портрет моего дяди». Он делал его быстро в гостинице, вклеивая куски газеты в разорванное углами лицо, имеющее три глаза, два носа и так далее. Сам я относился к исканиям новых форм очень серьёзно, и подобное легкомысленное отношение Доди меня слегка шокировало и расхолаживало.
Додя был превосходный администратор и опытный оратор с большим юмором. С ним всегда было легко и просто. Это был человек удивительной душевной мягкости и большого вселюбящего сердца. Я никогда не видел его сердитым или раздражённым. Додя всё умел перевести на юмор, на улыбку, что весьма помогало и в общественной, и в семейной жизни. Чрезвычайно своеобразная философия жизни у Бурлюка объясняется именно его добродушием и юмором.
Однажды, собирая и укладывая картины в ящики после очередной выставки, Додя мне сказал, что собирается ехать дальше — в Японию и Америку, и предложил мне всё обдумать в трёхдневный срок и дать ему ответ, поеду я с ним или нет. Я решительно отказался, простился и уехал в Москву.
Чтобы не оголять выставку, Додя попросил картины и рисунки мои оставить ему, и обещал после продажи выслать мне причитающиеся за них деньги. Я знаю, что он все их продал, так как получил от него из Нью-Йорка письмо, которым он извещал: „Картины Ваши продал, я Ваш должник”. Но, к сожалению, он так и остался моим должником и больше уже об этом не вспоминал.
После расставания с Бурлюком у меня опять начались искания — полная волнений, разочарований и радостей жизнь. Отказ от цвета и погружение в форму, только в форму, внезапно сменился тягой к цвету. Так на смену футуризму пришёл супрематизм, который заставил вернуться к цвету, полюбить цвет и вникать в его свойства.
Супрематизм учил беречь поверхность холста и чистоту краски. И опять я ушёл в работу, запершись в своей комнате, превращенной в мастерскую, где с потолка и со стен свешивались занавески и зеркала для изучения законов освещения. Всю зиму проработал, питаясь одной картошкой.
В 1922 году, в декабре месяце, после долгой разлуки я снова встречаю Велимира Хлебникова, которого потерял из виду с моими разъездами. Да и сам он эти годы был в отлучке. Велимир любил путешествовать, и только что вернулся из Персии. Привёз с собою — вернее, на себе — пёстрые, коврового рисунка штаны, сшитые из шерстяной ткани, которые ему кто-то подарил. Здесь его быстро одели друзья в светлый серовато-голубого цвета костюм, который по размеру был на два номера больше и поэтому висел на нём как на вешалке, но он, как мне казалось, чувствовал себя в этом костюме хорошо.
И вот передо мной стоял похожий на Достоевского, с громадной бородой, но с теми же кроткими и небесно-ясными глазами Велимир. Кто близко знал Хлебникова, не мог не запомнить на всю жизнь его глаз, всегда глядящих в бесконечную даль, живущих не здесь, не этим миром, а где-то там, в необозримых космических пространствах. Иногда он словно пробуждался и смотрел на тебя — всегда мягким, ласковым и полным любви взглядом. Глядя в эти чистые лазурные глаза, и тебе становилось светло, легко и весело, по-детски всё просто и ясно, все трудности и неприятности житейские покидали тебя. Да, забыть эти глаза невозможно, они всегда стоят перед тобой.
Итак, встретились мы на каком-то вечере во Вхутемасе. Он очень обрадовался, лицо засветилось ласковой улыбкой. Коротко рассказал о себе, о своих путешествиях, о жизни и событиях за эти годы. Прощаясь, сказал, что очень хочет повидаться со мной и поговорить, но не здесь, в шумно расходящейся толпе. Неловко и смущённо сунул мне на прощание руку и пошёл — чуть сутулый, большой, осторожный — своей мягкой походкой, словно боясь кого-нибудь толкнуть или обидеть. Он не ходил, а скорее скользил по земле, слегка её касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир. И тут же на вечере, я не помню кто, но кто-то из молодых поэтов, видя, что я разговаривал с Хлебниковым, подошёл ко мне и сказал, что трудно сейчас бедному Велимиру: живёт неустроенный, ночует в коридоре студенческого общежития Вхутемаса на Мясницкой улице, в доме, где жил и я. У меня тотчас появилась мысль предложить ему переехать ко мне, тем более что я жил один, и он — насколько я знал его, деликатнейший человек — мне не мог бы помешать работать. Сам же я, как всегда, много работал в поисках новых форм выражения, одновременно совершенствуя технику. Материально жил я, работая в Союзе поэтов, оформляя новые книги, поэзовечера в кафе, плакаты; и зарплата моя была — обед в кафе «Домино», где и помещался Союз поэтов, на Тверской улице.
Встретившись с Хлебниковым через несколько дней, я и предложил ему переехать ко мне. Он очень охотно и с большой радостью принял моё предложение и с поспешностью в тот же вечер перебрался в мою квартиру. У меня была комната с большим итальянским окном. Мебель не очень изысканная, но было всё, что необходимо, и ничего лишнего: столик, две табуретки, мольберт и соседское кресло, удобное для размышлений и отдыха, старенький диван, на котором спал я, и напротив поставили железную кровать с матрацем для Велимира. Единственное богатство моё составлял небольшой кавказский ковёр, полученный мною в наследство, которым я закрывал матрац на кровати, так как одеяла лишнего у меня не было, не было его и у Велимира. Так началась совместная наша трудовая жизнь. Главное, что обоим было и хорошо, и спокойно. Всё имущество Велимира составлял белый узелок, с которым подмышкой он и пришёл. С большой любовью и осторожностью он его развязал, вынул оттуда чернильницу, ручку и большую пачку неаккуратно, довольно беспорядочно сложенных листков бумаги, как чистых, так и испещренных мелким бисерным почерком в разных направлениях. Чернильницу и ручку он пристроил на табуретке, пододвинул её к своей кровати, а все листки бумаги с поспешностью были брошены под кровать, откуда они извлекались по мере надобности. Причём, как он в этом хаотичном хозяйстве разбирался и находил то, что ему было нужно, непонятно. Работал он быстро, стихийно и нервно, всегда как бы прислушиваясь к витающим вокруг него мыслям и словам. Каждое утро, напившись чаю, устраивались мы по своим углам, я пододвигал мольберт, а Велимир свой столик с бумагой и чернилами. Наступала тишина, та активная, наэлектризованная тишина — лучшая почва для творческой работы. Велимир, как всегда, работал порывами: то быстро и мелко исписывал листик бумаги, то с такой же быстротой и уверенностью всё перечёркивал. Иногда сминал написанное и бросал под кровать. После этого молниеносно ложился, подтягивал к себе колени, натягивал шубу, которая лежала тут же, закрывался с головой и затихал, но ненадолго. Минут через 10–15 шуба откидывалась в сторону, он энергично бросался под кровать, и тут начинались поиски. Из-под кровати летели во все стороны исписанные листочки, покрывая, как снег, весь пол. То вдруг он замирал, стоя на коленях или сидя на полу, и внимательно вглядывался в найденную бумажечку. То снова бросал её в сторону и продолжал искать ещё и ещё, пока наконец не находил нужное, мучившее его. Тогда поспешно вставал, и с ожесточением всё остальное запинывал ногой под кровать. А найденный им листочек бережно расправлял и укладывал перед собой на столике, причём на лице появлялась блаженная улыбка, и по улыбке всегда было видно, что он нашёл нужное. И опять наступала тишина и сосредоточенное внимательное вглядывание через окно в безграничное небо, такое же светлое и ясное, как его глаза. Бывало и так: в любой час, среди ночи он так же стремительно соскакивал, словно боясь потерять пойманное слово. Хватался за ручку и замирал над столом с бумагой. Просиживал он, погружённый в свои мысли 15–20 минут, вновь исчезал под шубой с головой и затихал. В одну из таких ночей я успел сделать с него набросок, который находится сейчас в Литературном музее в Москве... Часто к нам прилетали воробьи или синички и садились на оконную раму. Это всегда приводило Велимира в неописуемый восторг. Большие голубые, ликующие от счастья глаза с детской восторженностью и любовью смотрели на птиц, и невольно вырывались у него какие-то неповторимые звуки радости и счастья. Он любил мир, мир растений и мир животных, любил безгранично, всем своим существом. Он понимал язык мира, читал как раскрытую книгу затейливые народные узоры на коврах. Любил и рассказывал смысл каждого завитка, каждого коврового орнамента, рисуя перед собой картину жизни: здесь поле, здесь лес с животными и птицами, а здесь — река и рыбы. Днём мы говорили мало, стараясь не мешать друг другу работать. Вечера часто проводили вместе у кого-нибудь из друзей Велимира — хороших, простых и милых людей, любящих искусство.
В гостях Велимира почти всегда просили читать свои стихи, и он никогда не отказывался. Читал он своеобразно: скороговоркой, негромко, как бы выстреливая фразами, застенчиво улыбаясь, словно конфузился своего собственного голоса. Часто бывали мы в начале Большой Бронной улицы на втором этаже у Куфтиных, где встречали нас радушно муж с женой в небольшой комнатке, единственным украшением которой была висевшая на стене громадная икона, приписываемая школе Рублева. Были как-то в Замоскворечье у знакомой актрисы Велимира, где и ночевали из-за позднего времени. Сама она читала стихи, молодая, грациозная, вдохновенная. Женское общество Велимир очень любил, но и страшно смущался.
Были и у Бриков в Водопьяном переулке, это рядом с нами, где встречались и с Маяковским, но чаще он один уходил туда на час-два после обеда, как сам он говорил: „Пойду к Володичке”, — и не всегда возвращался оттуда весёлым. Он был удивительный бессребреник, и деньги у него долго не задерживались. Как-то, помню, он вернулся часов в восемь вечера, очень весёлый, с полными руками покупок. Выяснилось, что он только что получил какие-то деньги за напечатанные стихи и сейчас же накупил всякого угощения. Очень молчаливый и скрытный, ко мне он привык и делился всеми своими переживаниями, и хорошими и грустными. Вспоминаю, как он однажды таинственно вытащил из внутреннего правого кармана пиджака какую-то бумагу, бережно сложенную, и с сияющим лицом показал мне. Это было удостоверение личности, выданное за подписью наркома просвещения А. Луначарского, с просьбой всем оказывать помощь и содействие поэту В. Хлебникову. Это был единственный документ Велимира, который он бережно хранил. Так жили мы дружно и мирно, а нарушала иногда наш покой его лихорадка, страшная тропическая лихорадка, которую он привёз из Персии. Тогда он наваливал на себя всё, что возможно, но его так трясло, что кровать под ним начинала двигаться. Приступы бывали редко, но сил у него забирали много.
Но, несмотря на все трудности, болезнь и подчас недоедание, мы любили жизнь. Это была интересная пора, когда опрокидывались все прежние представления, переоценивались все ценности, футуристы, супрематисты, имажинисты, экспрессионисты — „все промелькнули перед нами, все побывали тут”. И не было конца различным направлениям, но одно было ясно, что начинается новый век, новая жизнь, и мы стоим на грани. А такие поэты, как Хлебников, чуяли новое будущее, причём не рассудком, а всем своим существом. Он любил мир, природу, человека и космос и через музыку чисел, через логику арифметических знаков выводил законы космических событий. Эти свои исчисления-предсказания он передал при мне художнику Митуричу, который последнее время довольно часто нас посещал. Митурич их отпечатал на больших листах кустарным способом в количестве сто экземпляров. С какой радостью, с какой сияющей улыбкой встретил Велимир первый экземпляр «Вестника» и «Досок судьбы», которые принёс ему Митурич!
С Митуричем я был знаком и встречался раньше в декоративной мастерской ПУОРа на Остоженке, где мы работали, а я, не имея жилплощади, даже жил на верхнем этаже этой мастерской, но, правда, недолго. Вот так неожиданно во второй раз меня судьба свела с Митуричем. Он, как хорошая нянька, со вниманием и лаской относился к Хлебникову.
Так дожили мы до весны, и к концу своей жизни у меня он начал жаловаться на здоровье. Дважды навещала его какая-то незнакомка в чёрном. В один из приездов Митурич сказал мне: „Я его возьму лучше к себе за город, там хороший воздух и покой. Он окрепнет и поправиться”. Но поправиться Хлебникову не удалось. Он умер на даче у Митурича через полтора месяца с большой скромностью и невероятным мужеством, перенося все трудности своей болезни и смерти.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 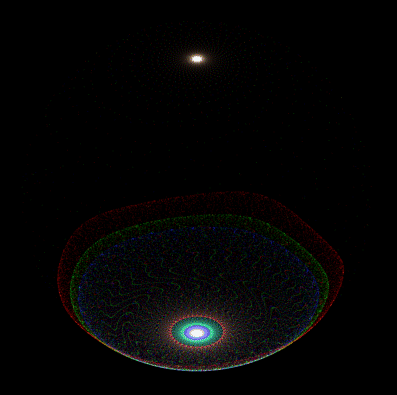 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||