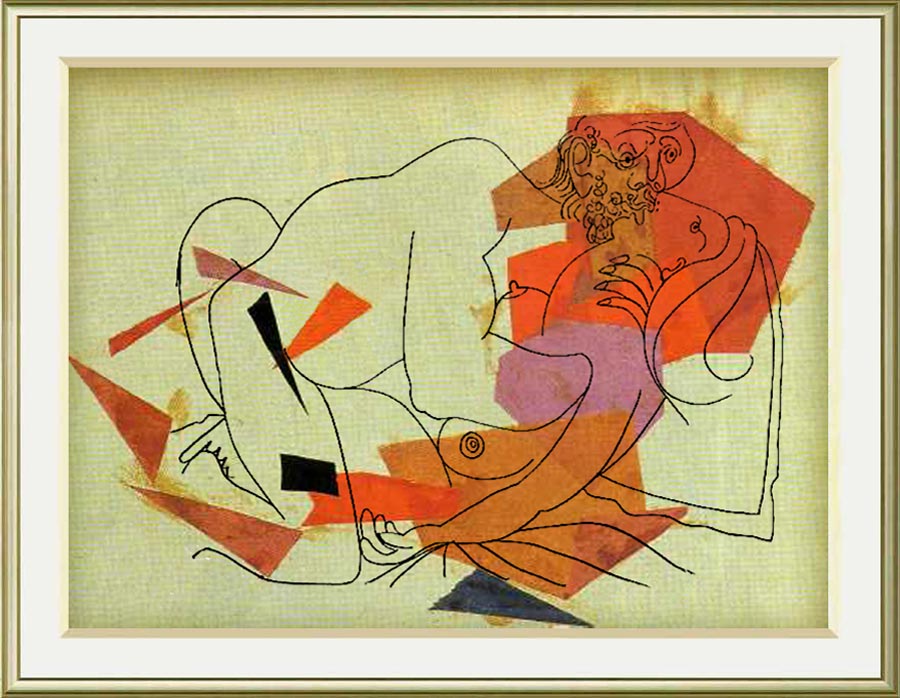
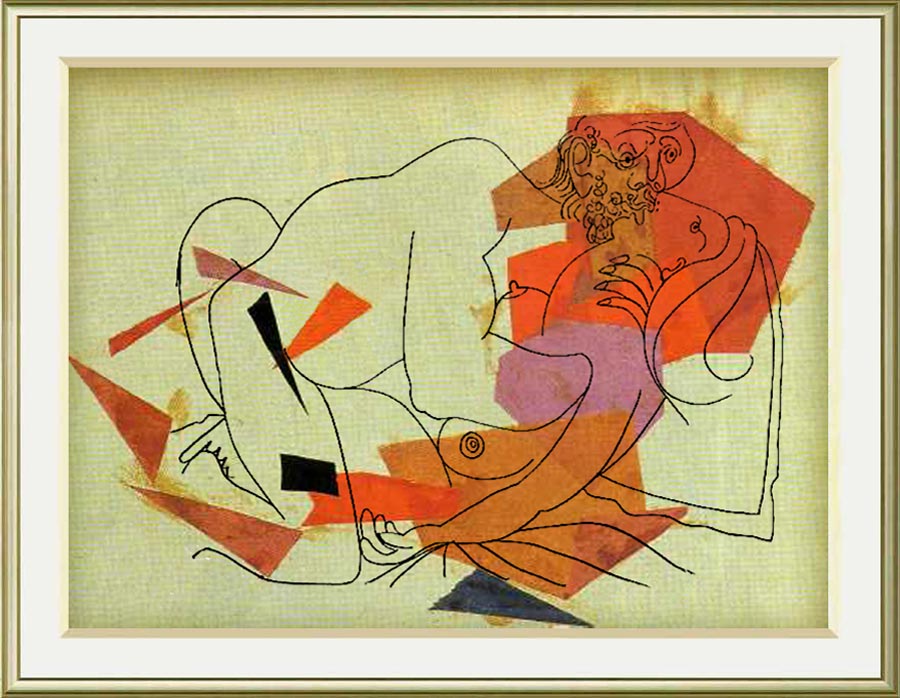
Боже мой, во плоти! Живой, не мумия подлежащего в гробе сказуемого. Вот счастье! вот права.
— А Мелетинский как вам?
— Упрощённый подход к Нартскому эпосу.
— Оказывается, Егор Исаев пишет сам, не белые негры.
— Надо же.
— Палиевского читали?
— Впервые слышу.
Достаёт из воздуха книгу, разворачивает на закладке, протягивает мне:
— Это белые негры?
— Своею собственной рукой.
И далее та самая желчь с камнями, песком, гноем и ятями, которую ты вынес на подошвах из первой главы. Теперь хоть из дому беги, такое благорастворение воздухов. Зато нипочём давка в часы пик, по себе знаю. Главное ввинтиться, на следующей остановке всех как ветром сдует.
Итак, живой Дуганов. Разговор с чёткой временнóй привязкой: излёт 1983 года, месячный постой (подробности здесь) у Мая Митурича. Откровенно прощупывает, гожусь ли. Май ручается: наш. Нетушки. Следует лично вложить персты в подкожные отложения.
И огреть чем-нибудь, ошеломить. Буниным, например. На излёте 1983 года в опале оба, Хлебников и Бунин. Первый — за сомнительность, второй — за несомненность.
А Палиевский протаскивает крамолу. В ущерб Хлебникову, но ведь протаскивает. Вопрос: хитрец Палиевский или подлец.
— Чужая душа — потёмки, — отвечаю. Или что-то в этом роде, уклончивое.
Ишь ты, надсхваточник. Тогда гонимая наука. Не отвертишься, любезный.
— А как вы относитесь к Марру?
— Великий человек. Судя по метаниям Сталина.
С чувством глубокого удовлетворения достаёт из воздуха Марра.
— Если хотите убедиться — прошу.
— Благодарю, в другой раз.
До сих пор досадно, что поскромничал. Дают — бери. Прихвати на пару деньков, а продержи неделю. Но это вряд ли. Наверняка подразумевалась то же самое, что и с Палиевским: закладка, от сих до сих и моё восклицание. Так и доверили Марра дяде с улицы.
Не с улицы, а из логова Митурича, ловца человеков. На безлюдье и рак на горе свиснет. На горе и шапка горит. Шапка горит, ловцу говорит:
— Карп рак, а кто слушал, тот кукси, кум мук и скук.
Под шумок немых сомнений Дуганова в моей пригодности задаю вопрос: девственник ли Велимир Хлебников. Вдруг окажусь шелухой, и нонешний денёчек последний.
— О нет, известны романы.
И глаза Дуганова глянули теплее. С неподдельной приязнью.
А я был уверен, что девственник. Ньютон полагал отказ от женщины залогом успеха. И доказал на деле. А тут романы. И тоже доказал на деле. Следовательно, Ньютон свалял дурака.
Был уверен — и нате вам. Но скрываю оторопь. Какой смысл ему преувеличивать, думаю под личиной бесстрастия. Прощай, сказка.
| Исполнен неясных овечих огней, | В порыве нежном хорошея, |
| Он зенками синими водит по ней, | Она бросается ему на шею, |
| И просит, грустящий, глазами скользя; | Его ласкает и целует, |
| Вила промолвила тихо: „Нельзя!” | Ниспали волосы, как плащ. |
| Вила и Леший. 1912 | Могол же морщится, тоскует, |
| Она в тот миг была палач. | |
| Шаман и Венера. 1912 |
Как же не сказка: 1912-й для 1885 года рождения — возраст Лермонтова, и вдруг эти навязчивые нестыковки. Расово разные образчики, а итожец один. Чем, скажи на милость, плох Леший (прообраз В.И. Ленина, это доказано): телом стар, но духом пылок / Как самовар блестит затылок. И эдакому крепышу от ворот поворот.
Да разве бывают Лешими юнцы. Ни Баба-яга не живала молодкой, ни Леший молодчиком. Вся нечисть народ пожилой, от мала до велика. Маленький бес под кобылу подлез. Маленький, с маленькой проплешиной. От зубика птерозавра.
Буду краток: русаки Билибин и Васнецов достовернее Врубеля (Wróbel). Духовидец он или верхогляд — не моего ума дело. Мой прилагаю к возрасту нечистой силы: не смейте лгать кистью.
Этот Врубель иной раз так взвидит бесовщину, что Иероним Босх позавидует: у Пана голова ссохлась в кукиш ещё до сотворения мира. Ай да Врубель, ай да psia krew! Одобрили престарелого Пана, переходим к Демону. Печальный Демон, дух изгнанья поляков из Кремля: где бремена мафусаиловы? Да ты на руки-то его посмотри — молотобоец лет двадцати двух или кочегар двадцати трёх. Единовременный здоровяк, вечностью и не пахнет. Подделался, она и поддалась: „Двух уст согласное лобзанье, / Минутный крик и слабый стон”. Это же Лермонтов, мучитель наш.
Стал бы корнет Лермонтов писать о нестыковках. А Велимир Хлебников только этим и занимался. Шаман показателен как никто: не ведётся на блесну, хоть убей. Отвращение или досада? Если досада, то на кого или на что? Вера Владимировна Хлебникова изобразила чум изнутри, Венеру со спины и Шамана с трубкой. Уклонилась наглядно пояснить, почему эти двое наособицу, а не слились воедино. Приходится мне.
Безрукавка Шамана доступна по указанной ссылке, там же наряд Людовика XIV для сравнения: тютя в тютю. Но догадался об этом я уже после погребения Дуганова.
Ну и что погребение, смерти же нет. Пока тебя помнят. Страшно представить последствия моего ухода с поверхности земли: утащу на тот свет множество ныне бессмертных. То есть незабвенных лично мной.
Незабвенный Дуганов не только выказал приязнь, но и выдал тайну. Возможно, проговорился он и Арензону (род. 1938), однако тот помалкивает. Тем самым, потакая смерти. А я препятствую.
— Одна моя знакомая художница различает пространство прошлого и пространство будущего. Пространство прошлого свивается в кокон удава, если не сбрасывать кольца. Идёшь по улице, повернул направо за угол, направо за другой, направо за третий, направо за четвёртый. Полный виток. Остановись, открути в будущее. Налево, налево, налево, налево. Кольцо сброшено, двигайся дальше. Подозреваю, что Хлебников тоже за этим следил.
Каково. И это Дуганов, враг недостоверности. Подозревает, причём вслух. Стало быть, не вполне готов уяснить своё предположение самолично, перепоручает. Называется мозговой штурм. Но я, как видишь, иду на приступ не кокона, а куколки. Художница ли, плясунья — всё едино. Да пусть и торговка, лишь бы согласная утолить Хлебникова. Даже и торговка требухой, наплевать. Таковая сжигает меня одна, но пламенная страсть.
Итак, были романы. То есть не повести. Сейчас поясню разницу.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Судя по заголовку «Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет). Повесть», отчётливее других понял это Максим Горький. Просили переназвать романом — Горький своё: повесть. Присоветовали эпопею — затопорщился в три наката, Горчев позавидует. Почему.
Первое, что приходит на ум — «Повесть временных лет». Так и задумано, именно такое заблуждение простеца в дебри: летопись. И сороковник в скобках сейчас готов повторить подвиг Ивана Сусанина, уже лычком подпоясался и рот перекрестил. Не себе, тому же простецу: боже упаси, ворона обратно вылетит. За недосугом воздержусь от ехидства и напомню любимую считалку Самуила Маршака: икота икота перейди на Федота с Федота на Якова с Якова на всякого мудреца ламца-дрица-ца довольно простоты это наверно будешь ты.
Потому я пристегнул Маршака, что с детства привык ему доверять. В отношении Горького сказано: сей обладал преизрядным лукавством. Хитрюга, одним словом. Злонамеренный ли хитрюга, спрошу я. Вот уж нет: золотой ключик строго по Ларину и Фарыно, даже сверх того — в заглавии.
Но это задним умом золотой ключик. Всосал «Клима Самгина» от корки до корки, во всеоружии вернулся к заголовку — и вот оно, прозрение: романами, включая постель ходуном, горьковский громозд изобилует до преизбытка, но сердцевина и становой хребет его — повесть о целомудрии.
Потаённая, конечно. Сердцевину и становой хребет постигают исключительно умозрением. Или разъятием à la manière de Salieri, от бессилия вообразить.
«Клим Самгин» раскидист и угрожающе свисловат, как яблоня в урожайный год. Взяты меры: что ни сук, то подпорка. Не ходули фабулы, а замшелые костыли Диккенса. Приняв за верное, что плоды воображения Горького бременят иноземный сушняк, осмыслим поверхность упора. Докучаевский чернозём? Не ответ. Кладбищенский перегной? Мимо.
Зачем я буду томить и многозначительно покашливать, как пифия. Брюхо сороконожки. Дохлой, да. Конечностями кверху. Всеми сорока. Опорная сороконожка яблони Горького и есть Клим Самгин, пустая душа.
На Руси так: вельможа невозбранно проповедует ересь, а европейски образованный простолюдин изволь таить начитку Священного писания, нишкни в тряпочку. Горький доскрытничал до того, что умнейшие люди поверили. Ходасевич поверил, Иван Шмелёв, Осоргин, Бердяев.
А я нет.
Сталин тоже сначала не поверил, с тем и подослал сотрудницу ВЧК, позывной Мура. Эта Мура присушила Горького так, что в два пинка согнала с койки его жену.
Чтобы выяснить, не молится ли тот на сон грядущий.
Но Горький завёл привычку предварительно изнурять Муру в каменное бесчувствие, а уж потом выдвигал из памяти заветные псалмы и акафисты. А утром бодрёхонек обихаживал яблоню своей мечты. Ставил рогулины под налив опытов и наблюдений над предварительной Мурой, например.
Это было на Капри, где лазурная пена. Сталину доложили о доскональном безверии Горького, и вождь распахнул перед ним простор вольного дыхания через намордник. А Муру направили в Англию, внедряться к Бернарду Шоу.
Говорят, Сталин был недоверчив как никто. Возражать и не подумаю, а укажу на сходство приёмчиков Яго и Генриха Ягоды (1891–1938). Расстреляли, да. Но успел опозорить на весь тот свет, падла. Гоголь с Хлебниковым как захохочут: кружева холопства на баранах гостеприимства!
И никто ничего не понял, даже Салтыков-Щедрин. Опять мне отдуваться.
Язва не в кружевах, а в баранах. Замени эти вязаные дыры на рыболовную сеть — язва на месте, выряди в кружева козлов — пиши пропало. Язык не обманешь: баран бараном и дурак дураком равноудалены от ума палаты.
Это к тому, что притворяшка Горький воротился отнюдь не седлать божничку сталинской словесности: ему до тошноты надоело служить вывеской Бунина и C°. Посадят — и в тюрьме люди живут, шлёпнут — душа вон за други своя, чего уж лучше. И разговелся на посошок: однова живём!
Аж три непонятки, вовремя ты меня остановил.
Глагол ‘разговеться’ закономерно происходит от ‘говеть’, что в переводе на язык харчевен и трактиров означает не заказывать скоромного, как то: говядины, голубей, голавлей, горбуши, горилки и го-сотерн (haut-Sauterne), а токмо горошницу и голубцы с горчицей, но без говядины. Говеют по-разному, в зависимости от бремени грехов. Иной в три дня управится, а кому-то семь недель кряду подвижничать. Я из последних, если хочешь знать. Самолюбование, и больше ничего. Особенно когда исповедуюсь не батюшке на ухо, а тебе в глаза. Гордыня адская!
Тогда какая же она у Горького. Полувековой — по самым скромным прикидкам — пост головного мозга.
Это дело я так не оставлю. Важнейший вопрос. Ад отвратителен, ужель есть место хуже. Dante Alighieri (1265–1321) затыкает нос подбородком и отрицательно помавает лаврами: certamente no, signore. Никто и не сомневался в творческом бессилии Запада. Особенно после Даниила Андреева (1906–1959). Коим установлена непререкаемая непреложность: ад весьма неплох в сравнении с Пропулком. Верю.
Итак, гордыня Горького родом из Пропулка: извилины головного мозга изогнулись в такие выверты, что скоромное даже вприглядку нельзя. Древние римляне горьковский возглас одновá живём перевели бы так: morituri te salutant.
И вот он разговелся на посошок, то есть переписал «Клима Самгина» в красном углу, под лампадкой. А там хоть и трава не расти.
Короче говоря, прохладный Самгин — с боку припёка у замороженного Макарова.
Два слова о хитросплетениях сокровенной повести. Макаров — приятель Клима по учебному заведению, годом старше. Или двумя. Восемнадцати лет отроду, за это ручаюсь. Устрашающе даровит, но предосудительного поведения. Пуговицы оборваны, нестриженый, употребляет крепкие напитки, курит, играет на бильярде в грязных притонах. Вылитый Маяковский, если бы тот пил не красное вино на чужие, а водку на свои. Однажды этот образцово безнравственный Макаров признаётся Климу:
Казалось бы, дело поправимое. Мать Клима наняла белошвейку Маргариту, чтобы та сделала его мужчиной, и пошло-поехало. А Макаров более чем дружит с Лидией Варавка, и вдруг стреляется.
Надо понимать, кого Максим Горький заставляет стреляться: своих двойников по душевному складу. Потому что Горький тоже самоубийца.
Разумеется, Макаров не попадает в сердце. Но выстрел повлиял на голову: палец, курок и педаль детородного тормоза связаны через мозжечок. И эту педаль у Макарова заклинило, не отработала в исходное. Противоугонка у самого себя, вот именно.
Спустя малограмотную Маргариту Клим познал поклонницу Верлена Серафиму Нехаеву, и с чувством превосходства выслушивает излияния приятеля:
Самгин продолжает набираться опыта, включая Лидию, недовозлюбленную Макарова. Который думает и думает, думает и думает. Попутно становясь врачом. То есть устройство женщины он знает гораздо лучше Клима. Казалось бы.
Ничего подобного, не лучше. Потому что Клим женится на страстно влюблённой в него Варваре Антиповой, а спустя взаимное разочарование изменяет ей сперва с Никоновой, потом с Дуняшей.
Распутная Варвара не желает иметь детей, в то время как обывательски настроенный Клим отнюдь не прочь. Подходящей матерью своего ребёнка ему кажется удобная в постели Никонова (подсадная Мура, это доказано), а затем ещё более удобная Дуняша (сборная солянка с уклоном в маниловщину). Однако Дуняша отказывается зачать, отговариваясь своей мимолётностью.
Опыт, сын ошибок трудных, опроверг домыслы Макарова относительно взаиморасчёта полов, и обманутый в своих видах на Дуняшу Клим вынужден принять точку зрения тяжёлых германских уродов.
Для вящей связности Горький загодя вводит в потаённую повесть (приём хорош, перейму) Алину Телепнёву, а затем искусно переплетает её порхание по жизни с похождениями Самгина. После недоразумения с Дуняшей Клим подыскивается к Алине, но та пресекает его поползновения под надуманным предлогом: у тебя таких нет денег. Она вызывающе красива. То есть вызывает желание отдать за её снисходительность что угодно. Таки отдают. Но Клим счёл за благо не понять намёк на уговор: египетская ночь.
Неоднократно прерывая беременность, Алина утрачивает способность к деторождению. Не очень-то и хотелось, кстати. Родить она не может, но душу сберегла. И ради пущей сохранности оной держит при себе купца Лютова. Ещё разик, ещё да раз: Лютов для души, Макаров для тела.
Гадкий утёнок превратился в лебедя Лоэнгрина: редкой отзывчивости врач и бесстрашный кулачный боец. Он дьявольски красив, не то что Лютов. Который смолоду прилип к Алине, даже помолвку им Алексей Максимыч исхлопотал. Алексей Максимыч исхлопотал, а Лютов прохлопал: беспробудное пьянство и словесный понос. Алина даёт жениху отставку, но позволяет играть свиту и оказывать посильное вспомоществование. Содержать её, попросту говоря. За красивые глаза. Когда-нибудь сжалится, льстит себя надеждой Лютов. Или заболеет чахоткой, как Виолетта Валери. Самообман длится лет двадцать, после чего престарелый толстосум кончает самоубийством, метко стреляя в сердце.
Устранив Лютова, Горький отгрохал такую концовочку, что Достоевский остолбенел крестом. То есть развёл руками навсегда. При этом тяжёлые германские уроды сделали hände hoch, подобающе подогнув коленки. Оказывается, душа русской красавицы Алины (нарочно не Елены, чтобы не догадались про Троянского коня) вдвое больше средней по стране. Или даже по материку, мнения разделились.
А ты возомнил, будто я пересказываю повесть Горького тебе, то есть бренному человечеству. Ничего подобного. Это с Дугановым разделились мнения, с вечно живым. Новейший довод в древнем споре — вот что такое этот замороженный Макаров. То есть Велимир Хлебников Максима Горького. И не я один так думаю.
Барбара Лённквист полагается на истовенность Хлебникова даже/именно под личиной, и это радует: кто как не Озирис обучил египтян врачеванию. Максим Горький поддакивает наперегонки: замороженный врач. Его Макаров с чрезвычайным, каким-то даже запредельным хладнокровием пользует недугующих и спасает раненых.
При этом следует помнить, что Велимир Хлебников открыто заявил: Я — не Чехов.
Самым решительным образом отмежевался.
Огласите, пожалуйста, весь список. Как насчёт Фёдора Михайловича? Молчание — знак согласия. С моим выводом. А именно: потому Чехова долой, что не врач, а лекарь. Простой пример: даму с собачкой пользует Гуров, а не собачка. Сравни:
— Вилами по воде, — отмахнёшься ты. И я не вскинусь в ответ, а предъявлю перевертень Баратынского: болящий дух врачует песнопенье.
Круговая порука духа и звука: душевнобольного пользует певец, вменяемый благодаря душевнобольному. Простой пример: окажись отродье припадков Достоевского князь Мышкин сызмалу себе на уме, исцеление им Антипа Бурдовского немыслимо.
Головоломка из головоломок, причём Достоевский леденит растительность головы (уж не я ли генерал Иволгин), а Хлебников вгоняет в горячку её недра: таким он стоял, сумасшедший и гордый певец. Закруглю, в надежде припрячь тебя, свои потуги: больному на всю голову полезней столбик, нежели строка. И непременно в лечебнице собрания сочинений.
А теперь вспоминай самооценку Хлебникова: одинокий врач в доме сумасшедших.
Именно горьковский Макаров, что и требовалось доказать. Доказали, черёд прениям с незабвенным — то есть вечно живым в пределах отпущенного мне срока — Дугановым.
Всё-таки объяснюсь, почему родовое прозвище нагишом, без имени-отчества. Противно, вот почему. Всюду лгавда. Включая надгробие. Не Рудольф, а Роман (подробности здесь) Валентинович Дуганов.
Всюду лгавда и пошлые намёки. Уже я коснулся грамотного поименования Алина. Троянский конь — раз, Елена и Парис надоели — два. То же самое Рудольф и Мими Giacomo Puccini (1858–1924):
Хорошо, пусть я не генерал Иволгин, а Мими. Что дальше. Дальше неизбежный вывод: наука о Хлебникове — La Bohème, богема. То есть цыганщина. Но тогда Парнис — Алеко, а проф. В.П. Григорьев — Земфира. Ты этого хотел, Жорж Данден?
Кроме того, речь о романах Велимира Хлебникова. Игра в одни ворота, если Роман Валентинович. Поэтому Его светлость князя (да уж) Р.В. Дуганова сокращаю равномерно с Его сиятельством графом Л.Н. Толстым: родовое прозвище без росчерков и завитушек.
Потому ещё без росчерков и завитушек, что Дуганов был горский князь. Голубая кровь и военная косточка. Горский князь никогда не бывает втирушей — раз, брезгует обласканными властью — два. Особенно властью кремлёвской. А уж обласканных властью кремлёвского горца он и вовсе почитает за мусор.
— Надеюсь, этого (незабываемый нажим впридых на ударный звук) мы с вами читать не будем, — обнулял видных-правильных, так называемую обойму. Перевести разговор на Горького я не сообразил, а надо бы.
Стало быть, Горький не числил Хлебникова в безумцах, как уверяет проф. В.П. Григорьев. Напротив, порицал небрежение находками путейца языка и ободрял продвинутых одиночек: не трусьте заимствовать и творчески преображать. Если что — сразу ко мне. Прикрою.
Ещё бы Горький не прикрыл: умопомрачительное буйство в записных книжках, дичайшие выкрутасы. Именно безумство храбрых, припадок за припадком. Отболезновал — записная книжка в топку. И кочергой, кочергой.
Потому что лучше меньше, да лучше.
Карамзин ограничился прилагательным ‘трогательный’, Достоевский стал на якорь глагола ‘стушеваться’, Игорь Северянин вмёрз в глыбу существительного ‘бездарь’.
— А где признаки действия, качества или свойства, господа словознатцы? — хладнокровно вознегодовал я и затрясся в напускном гневе. — Наречие, вот именно! Зыба мёртвая со времён царя Гороха!
— Кто, если не я, и когда, если не теперь! — вдруг захохотал Горький, как Настасья Филипповна. Потому Настасья Филипповна, что выхватил из топки сто тысяч.
Мою цену его новодела ‘озорниковато’.
Хороша подначка, и как вовремя. Но я остерёгся хвастать этим Дуганову в пору его бренности. Да и не с чего было драть нос, говоря по правде. А.С. Шишков (1754–1841) куда раньше меня вспылил, чего уж там. Вспылил, вспыхнул — и нет его. Это пепел адмирала Шишкова стучал в сердце Горького, не мой. Спустя погребение тоже стукну, так и знай. Я тебе почивать на лаврах не позволю, дорогуша.
Ино дело бренный, ино дело джинн. Сухопарый, как палочка-выручалочка. Не из волшебной лампы или бутылки, а из позвонка. По мнению Фауста, череп есть чудовищно разросшийся позвонок. То-то к нему зачастил Мефистофель. Делаю вывод: лоб Фауста есть лампа Аладдина.
Итак, джинны. Располным-полно, и все безымянные. Ислам запрещает изображать человека и поименовывать джиннов. Родовые прозвища тем паче недопустимы. Остаётся подразумевать или перейти в православие. Давно тут сидим.
Досконально выверенные суждения свои в пору земной жизни Дуганов озвучивал с явным удовольствием. От Горького удовольствия не упомню. Или неудовольствия. Молчок. Подражая Фаусту, тру светильник разума, лоб. И делаю резкий выдох. Добро пожаловать. Приказываю высказаться.
Так и есть: молчок. И на излёте 1983-го молчок, и на переломе веков.
— И до сих пор? — ехидничаю.
Ибо мнения о душе Алины Телепнёвой разделились: временно бренный я отстаиваю страну Лебедию, временно бессмертный Дуганов — надгосударство Асцу (ассир. асцу или асу = восход солнца). Камень преткновения. Но тогда Макаров — Монблан преткновения.
— Вылитый Велимир Хлебников.
— Ещё не хватало!
Стало быть, я не поверил в романы, а Дуганов упорствует в своём заблуждении. Глядя из Лондона, всё с точностью до наоборот: он прав, я виноват. Потому что голословничаю, а у Дуганова все козыри на руках.
Ну и что на руках. А у меня в рукаве. Ещё кто кого.
Козырь Дуганова, собственно говоря, единственный: мнение Харджиева. Знал бы ты, с каким придыханием произносит мой вечный спутник имя это духа. Соедини старика Хоттабыча с Летучим Голландцем — это и будет посмертный Харджиев. Делаю вывод: духи делятся на подземных (туда мне и дорога) и надземных.
Сырьё, настоящее сырьё моя проповедь. Сырая колода, сам знаю. Надобно поднатужиться.
Готово: надземные состоят из приземлённых (джинны) и небожителей (не дозовёшься). В состоянии врéменной бренности небожитель Харджиев писал:
Н.В. Николаева (1894–1979) передала Н.И. Харджиеву (1903–1996) четыре письма Хлебникова. Едва ли она утаила пятое и так далее. Сомнительные, я бы сказал, послания. В подписи Любящий В. Хл. прилагательное зачёркнуто. Но дал парусу полную волю волю в дневнике.
Увы, нет. Или к счастью. Роман (муж. р.) и женитьба (жен. р.) далеко не всегда ходят парой. „Да был ли мальчик-то?” — одиннадцать раз вопрошает Клим Самгин на протяжении одноименной повести. А.Е. Кручёных пригорюнивается в ответ:
Нада, Надочка. Марина Цветаева мигнёт понимающе: Надоба.
А ещё он звал её Лейли. Однажды ночью ввалился Маяковский, да не один. Слово предоставляется гостеприимному хозяину.
Влюблённые (её зарисовка события здесь) уходят, и лев кипит, как чайник. Чтобы успокоиться, вспоминает уловку дровосеков: клин клином вышибают.
Очень трогательно, если бы не удав. Ты же помнишь сообщение Дуганова о разновременных пространствах. Стоило избавиться от удава, он же кокон прошлого, — тотчас обвивает будущее. Уже не руку, а шею. Душит мечта, иными словами.
Все знают, как нежно любил Хлебников раннего Гоголя. Особенно его пленял рассказ «Ночь перед Рождеством». Гоголевского чёрта-скакуна он даже приспособил для перелёта внучки Малуши в Петербург. Княжна летит на оборотне (гнед-буй-тур → рысь → медведь), а чёрт увивается обочь: Сквозь зорю шевелился чёрт. / Он ей умильно строил рожи, / Чернявых не скрывая рожек.
Теперь вспоминай, где сидел у Гоголя этот гадёнок, пока безответно влюблённый в Оксану Вакула не оседлал его. В мешке, правильно.
А до мешка. В хате у Солохи, правильно. У ведьмы.
У какой. По убыванию могущества ведьмы образуют ряд волшебница (колдунья) → пророчица (ведунья) → сведущая в этом деле (собственно ведьма).
В каком деле.
В так называемой науке любви, главнейшая отрасль которой есть присуха. Обротание мужеска пола не приворотным зельем, а силой обаяния.
Как известно, Гоголь числил присуху по ведомству южных славян, поэтому благоразумно удалился от ведьм (коих диканьские парубки, дядьки и деды-крепыши прозвали швидка допомога) в край белых ночей и хладных скал. И, как Ньютон, умер девственником.
Велимир Хлебников одно время тоже уповал на хладные скалы и белые ночи. Но не из подражания Гоголю и Ньютону, а вопреки.
Теперь соображай, чем Солодка Дневника отличается от Солохи Гоголя.
Послевкусием, я тоже так подумал. В обоих случаях по усам текло, а в рот не попало. Но дело диканьских ухажёров поправимое, а половую истому Хлебникова отвергали, и будут отвергать.
Итак, Солодка Дневника Хлебникова, она же Ксения (Оксана, Ксана) Богуславская-Пуни — гоголевская Солоха навыворот. Солоха сладка, Солодка солона пришлась. Чёрт попутал. А ты не подбивай клинья к честным жонкам, не подбивай. Располным-полно нечестных — тьмы и тьмы, сонмы и сонмы, орды и орды, пол-чи-ща.
Никому не верь. Особенно мне. И ничему не верь, ни-че-му.
Особенно мне и ничему от меня. Добавить слово ‘никогда’ — располным-полна коробушка, она же ящик Пандоры.
Таки не добавлю.
Иной раз не поверить мне просто глупо. Надоест походя врать — стою как вкопанный. Где.
В очереди. Почему как вкопанный. Потому что Герцен, Толстой и Нагибин — люди запальчивые, грешили с размахом.
Очередь на исповедь, совершенно верно. Донос на себя. Не батюшке под епитрахилью, а читателю в лицо.
Простоишь до морковкина заговенья, коли не живал в стране Советов. А я живал. Стало быть, знаю петушиное слово: молодым везде у нас дорога. И на правах малолетки оттесняю почётное старичьё, то бишь иду по головам.
Не впервой, хе-хе. Так было, так есть и так будет. Но всегда загодя уведомляю, заметь. Брякнуло в подоплёке — ставь ушки на макушке: такого наоткровенничаю Ипполита — князю Мышкину не расхлебать.
Ибо сказано кем-то из древних: не верь грехам, а верь веригам.
Мной же и сказано. Хотел приплести Аввакума, вот как въелась привычка измышлять. Но ведь не приплёл. Истинно мои золотые слова о веригах, справься в Google. И выслушай доподлинную правду: понятия не имею. По-ня-ти-я не и-ме-ю.
Сколько не пытался вызвать на откровенность — молчок. Джинна, да. Добиваюсь толку насчёт Общества Велимира Хлебникова — молчок, с пристрастием пытаю про семитомник Велимира Хлебникова — молчок.
Дуганов при жизни был страшно несговорчив. Однако джинну, кажись, запрещено перечить хозяину в чём бы то ни было. Взялся волшебничать — потворствуй до бесконечности.
Но я же не Аладдин. Затрудняешься ответить — не надо, своим умом дойду.
Ещё разик, ещё да раз: вечно живой Дуганов помалкивает насчёт Общества Велимира Хлебникова и семитомника Велимира Хлебникова.
Отец-основатель того и другого.
И вот я дохожу своим умом, то есть измышляю. Во-первых, Общество. Дуганов зазвал в его ряды преданных сторонников и убыл в Японию. Где погиб при невыясненных обстоятельствах. Якобы сердечный приступ. Возможно. В любом случае приступ — следствие. Чего. Мнения разделились на тоску и раскаяние.
Но про тоску и раскаяние Дуганова шушукается шушера, ибо преданные сторонники давным-давно сделали себе харакири. Шушеру составляют не преданные и не сторонники. То бишь изгои, отщепенцы и обсевки. Я и мне подобные.
На изгоя и отщепенца наплевать, а вот обсевком нарекаться невмоготу. Нет ли зацепки в мою пользу. Как не быть:
Много званных в Общество, но мало избранных Велимиром Хлебниковым. Даже и одного нет, судя по мне.
Это был лёгкий вопрос, пушинка. Не то многопудье семитомника. Дуганов окончил земное поприще в 1998-м, первый том вышел в 2000-м. Все ляпы на совести Арензона. А ты предъяви постатейную роспись того, где руку приложил зиждитель, а не доверенное лицо. А.Е. Парнис в одной упряжке с проф. В.П. Григорьевым отвечали каждый за себя, и это правильно. Молодой Пётр I брил думных бояр не за капусту в бороде, а за устав:
— Чего бороды в пол уставили? У меня будет так: изволь высказаться! Каждый свою дурь яви!
Вот сейчас я говорю правду, одну только правду и ничего кроме правды, как условились. Ну так слушай: «Астраханскую Джиоконду» и вообще всё за подписью Веха Дуганов не просто отказывался приписать Велимиру Хлебникову, но рычал на ослушников его несказанной правоты. Тому есть письменное свидетельство, см. здесь. Заглядываем в шестой том: бесспорный Хлебников.
Называется нарушение последней воли.
Итак, есть доверенное лицо Арензон, а есть душеприказчик я. И что. Приказываю духу Дуганова внести ясность — молчок.
При чём здесь Веха, этого не доставало. О Вехе пря с проф. В.П. Григорьевым, а не с Дугановым. Там самоназвание, здесь целомудрие. В обоих случаях гадательное, мягко говоря.
Или даже так: никакого целомудрия, а Египетские ночи. Без кавычек, да.
Казалось бы, мелочь: всего-навсего три текста. Три текста в семитомнике и три к ним примечания. При этом джинн помалкивает, чьих это рук дело: его, джинна, бренной оболочки 1940–1998 или ныне здравствующего — да продлит Аллах его труды и дни — доверенного лица.
Причём помалкивает с обидой.
Джиннам не положено помалкивать с обидой, когда потрут лампу или откупорят бутылку. Но я же не откупориваю и не тру, а с ожесточением скребу в затылке. То есть бурно недоумеваю. Уж я не тот, и вы не те. Не те, кому я то и дело наносил обиды смело, но под старость захотел бросить эту канитель. На что же он дуется, этот дух?
Дошло-таки. Закавыка не в козырях, а в их количестве. Мнение Харджиева о романах Велимира Хлебникова — единственный козырь Дуганова, сказано выше. Называется чванство незнайки. Отрекаюсь.
Ибо целых три текста Велимира Хлебникова и аж три примечания. Не суть важно, чьи. Слава, слава, слава Е.Р. Арензону: довёл до моего сведения.
Да ведь и Анфиса Абрамовна Ганнибал рассыпается в благодарностях.
Как, ты не знаешь Анфису Абрамовну? Ну так узнаешь.
Но это покамест не её почеркушки.
| И если в «Харьковские птицы», | И если в «Харьковские птицы», | И если в «Харьковские птицы», |
| Кажется, Сушкина, | Кажется, Сушкина, | Кажется, Сушкина, |
| Засох соловьиный дол | Засох соловьиный дол | Засох соловьиный дол |
| И | И | И гром журавлей, |
| А осень висит запятой, | А осень висит запятой, | А осень висит запятой, |
| | | Вот, я иду к той, |
| Чьё | Чьё греческое и странное руно | Чьё греческое и странное руно |
| | Приглашает меня испить | Приглашает меня испить |
| «Египетских ночей» Пушкина | «Египетских ночей» Пушкина | «Египетских ночей» Пушкина |
| Холодное вино. | Холодное вино | Холодное вино |
| | Две пары глаз — ночная и дневная, | |
| | Две половины суток. | |
| День голубой, раб чёрной ночи. | ||
| Вы тонете, то эти, то не те. | ||
| И влага прихоти на дне мгновений сотки. | ||
| Вы думали, прилежно вспоминая, | ||
| Что был хорош Нерон, играя | ||
| Христа как председателя чеки. | ||
| Вы острова любви туземцы, | ||
| В беседах молчаливых немцы. | ||
Кое-что тебе знакомо, не так ли. Справа «Пение второе» — концовка произведения «Азы из Узы», именно так. На сей раз полностью, не отрывок.
А в смежных столбцах наброски, числом аж два. Это я почеркался, для вящей наглядности. Последовательность присестов писателя неоспорима, и даже не в прирастании дело.
В среднем столбце находим знакомые строки. Лично мне до боли знакомые.
| 65 | И тогда, сливаясь головами, — он голубой и чёрная она, — на день и ночь, |
| На обе суток половины оба походили, единое кольцо. | |
| И, лёгкую давая оплеуху, уходя, — | |
| „Сволочь ты моя, сволочь, сволочь ненаглядная”, — | |
| Целуя в белый лоб, словами нежными она его ласкала, | |
| 70 | Ероша белыми руками золотые перья на голове и лбу. |
| Он нежно, грустно улыбался и, голову понуривши, сидел. | |
| Видал растущий ряд пощёчин по обеим щекам | |
| И звонкий поцелуй, как точка, пред уходом, | |
| И его насмешливый и грустный бесконечный взгляд. | |
| 75 | Два месяца назад он из-за неё стрелялся, |
| Чтоб доказать, что не слабо, и пуля чуть задела сердце. | |
| Он нá волос от смерти был, золотокудрый, | |
| Он кротко всё терпел, | |
| И потом на нас бросал взгляд умного презренья, загадочно сухой и мёртвый, | |
| 80 | Но вечно и прекрасно голубой, — |
| Как кубок кем-то осушенный, взгляд начальника на подчинённых. | |
| Она же говорила: „Ну, бей меня, сволочь”, — и щёку подставляла. |
Хлебников истребил (см. средний столбец) и кубок, и чёрную сволочь. Очень даже зря, думается. Зато Египетские ночи в окончательном изводе налицо.
При этом «Председатель чеки» Египтом и не пахнет. Ни Египтом, ни Клеопатрой А.С. Пушкина.
А если принюхаться. О, какой мускус, ладан, смирна и табак. Особенно табак.
Разумеется, Cleopatra e i suoi amanti с точностью до наоборот, перевертень. Убил себя не спустя ночь любви, а до. Чтоб доказать, что не слабо, и пуля чуть задела сердце. Горьковская Лидия Варавка не оценила самострел Макарова, а шкура «Председателя чеки» богатенького мужа бросила. Ибо никто в неё так не влюблялся. И не влюбится.
Разве что Велимир Хлебников.
А ты как думал. Стал бы я размазывать кашу по столу, кабы не пря о целомудрии. Стою насмерть за девственность Хлебникова, а Дуганов неколебимо уверен в бурных романах. То бишь в неоднократном утолении половой истомы.
Ещё разик, ещё да раз: время года «Председателя чеки» — греческая весна, время года «Харьковских птиц» — греческая осень. Царица Клеопатра VII была из чистопородных Птолемеев, ни капли египетской крови. И вот она по зрелом (весна–осень) размышлении подначивает В.В. Хлебникова дописать произведение А.С. Пушкина своей кровью. Или слизью.
При этом избранник (зовёт | приглашает) нимало не обольщается: шкура согреть его и не подумает. Холодное руно | вино, никакой горячки. А платить изволь жизнью. Или здоровьем, если рука дрогнет. Сомнительная сделка, думается.
— Кому это думается. Ишь, мыслитель. А каково до тебя думано, спросил?
Прямая речь, то-то и оно. Зачин прямой речи незваного гостя. Или нежданной гостьи.
Как это нежданной гостьи, с чего ты взял. Давно тут сидит и руку тянет. Слово предоставляется Анфисе Абрамовне Ганнибал.
