

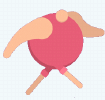
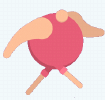
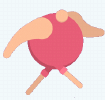
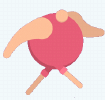
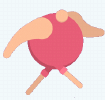
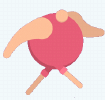
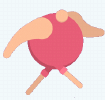
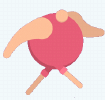
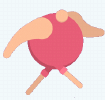
Тем не менее хлебниковский идиостиль характеризуют и тексты, к которым приложим критерий классической гармонии. Одно из таких произведений поэта заслуживает особого внимания как предсмертный призыв ко всем нам еще раз прислушаться к существу самоотверженного творчества, посвященного людям. Это — стихотворение без заглавия, которое далее мы будем условно называть «Памятником». Опубликованное впервые в посмертном сборнике Хлебникова «Стихи» (1923:6), оно набрано там курсивом и фактически служит посвящением-эпиграфом к остальным текстам. В конце 20-х годов «Памятник» был включен в «Собрание произведений» (III, 314), на которое мы и будем ориентироваться в нижеследующих заметках.1![]()
1. Текст.
2. Это — поистине удивительное стихотворение. Написанное в разгар НЭПа, оно обращено к современникам, но вместе с тем как бы включает в себя все значимое в прошлом творчестве поэта, а как предупреждение адресовано будущему, т.е. и нашим дням.
В предельно сжатой форме поэт подводит здесь итоги своему пути, в последний раз предостерегает приобретателей, устремленных к “обществу потребления”, и говорит с читателем на таком языке, который как будто понятен всем и каждому, будучи “прост”, как общедоступная правда и почти как прозрачная проза, но в то же время внятен лишь тем, кто способен взять верный угол по отношению и к этому языку, и к правде хлебниковского творчества, и к этике нового общества. Не ощущается никакой установки на одних только “производителей”. Пророческие, почти библейские интонации передают и сознание трагизма собственного положения, и усталую убежденность в нужности всем людям сделанного им, и надежду быть услышанным, понятым, надежду на читателя, от которого только и зависит теперь возможность разрешающего драматическую коллизию катарсиса. Этим интонациям гармонически отвечает верлибр, классиком которого навсегда останется Хлебников.
Пятнадцать строк не содержат ни одного специфически будетлянского материального или семантического окказионализма. Семантика обнажена, кажется, что образ автора непосредственно, без каких-либо стиховых “инфраструктур” (Мунэн 1975) вырастает перед читателем подобно вполне материальному, но загадочному видению. Идея стихотворения выражена напрямую, средствами, за которыми, как правило, стоит мощная и общепризнанная, отчасти даже архаичная, традиция — от тех же библейских интонаций (ср. вообще нередкое у поэта горе с дат.п.), явственных аллегорических параллелей и общекультурных символов до настойчивых, главным образом лексических, повторов. По внешности в тексте нет ничего общего ни с «Бобэоби», ни со «Смехачами», почти ничего — с соседствующим в «Собрании произведений» текстом «Зангези». Однако внешняя простота стихотворения обманчива: за ней скрываются не только многообразные внетекстовые связи, но и нетривиальные принципы организации самого текста.
И все-таки воспринимается стихотворение действительно как неожиданно простое. Ведь фоном (а не только скрытым содержанием) для него служит множество других хлебниковских текстов, постижение даже элементарного смысла которых часто требует очень значительной и трудной работы по их декодированию. Может быть, очевидная, хотя и относительная простота этого стихотворения и была причиной того, что непосредственно доступный смысл «Памятника» не вызвал особого интереса у хлебниковедов как в каком-то измерении маргинальный текст, не заслуживающий комментариев и толкований, понятный “сам по себе”.
По-видимому, примерно таким ходом рассуждений исследователя можно объяснить отсутствие какого-либо упоминания о «Памятнике» и в книге Степанов 1975. „Незадолго до смерти,— пишет Н.Л. Степанов,— Хлебников создает ряд стихотворений, свидетельствующих о трагическом предчувствиии скорого конца и болезненном переживании своего одиночества. Такие стихотворения, как „Я видел юношу-пророка...”, „Я вышел юношей один...”, „Одинокий лицедей”, „Не чертиком масленичным...”, „Всем”, во многом отличны от всего творчества Хлебникова. В них он пишет о себе. Это человеческий документ, обнаженный в своей искренности и порыве отчаяния” (с. 238–239).2![]()
„Еще раз, еще раз...” не указано среди перечисленных здесь стихотворений, возможно, и потому, что его суровый пафос существенно отличен от цитируемых Н.Л. Степановым далее заключительных строк «Одинокого лицедея» (III, 307):
Однако «Памятник» вполне мог бы занять место в этом ряду, поскольку и здесь внимание поэта сосредоточено на отношении “автор — читатель”. „Самоощущение себя как непризнанного пророка” (Степанов 1975:240), несомненно, сказывается и здесь, правда, ударение поэтом сделано именно на пророчестве, а не на минутном отчаянии, как в «Одиноком лицедее» или — по другому поводу (в связи с прополкой рукописей) — во «Всем».
Существенны поиски Хлебниковым основного образа стихотворения (я — звезда). В стихотворении «Я вышел юношей один...» обнаруживается “данковский” образ Горело Хлебникова поле. / И огненное я пылало в темноте (III, 306), вера в то, что одинокое авторское Я уже превратилось в Мы, и любопытная оценка своего исторического значения в призыве заключительных строк:
Еще ближе к «Памятнику» стихотворение «Не чертиком масленичным...» (III, 311–312), где одинокий лицедей уступает место одинокому врачу в доме сумасшедших и возникают мотивы противопоставления “кораблей” поэта и его оппонентов, “напоминания про звезды”, пророчества опасностей и неизбежного возмездия приобретателям:
Особенно же интересен в этом отношении черновик Русские десять лет меня побивали каменьями ‹...› (V, 109), непосредственно связанный с «Памятником».3![]()
![]()
Этот черновой вариант более чем в шесть раз превышает (по количеству слов) окончательный текст «Памятника». Соотношение достаточно красноречивое. Из набросков, в которых едва ли не каждая фраза могла быть развернута поэтом если не в самостоятельное произведение, то в его полноценную строфу или фрагмент, оказались удаленными все образы и ассоциации, не обязательные для главной мысли Хлебникова. Зато эта главная мысль теперь настолько, можно сказать — публицистически, заострена и в то же время художественно усилена и обнажена, что выражающий ее текст воистину, если воспользоваться формулой Маяковского, „не разорвешь — железная цепь” (М XII, 24).
3. Обратимся к, образу автора, т.е. к „одному из тех центральных стержней, которые создают соизмеримость и единство различных элементов „языка и стиля” художественного произведения”.5![]()
Поэтому выглядит неожиданным такое заключение исследователя проблемы эпического в творчестве Хлебникова:
Это противопоставление автор доводит до предела, видя для Хлебникова такую “опасность”: „смысловая насыщенность его слова, не освещенная живым человеческим голосом, личным чувством, всегда затрудняла непосредственное восприятие даже таких произведений, как поэма «Поэт»” (там же; выделено мною. — В.Г.).
Здесь многое вызывает сомнения, многое нуждалось бы в раскрытии. Непонятно прежде всего, что имеется в виду под „свободным выходом из текста”. “Лирического героя” всех трех поэтов объединяет естественная невозможность описания “литературных личностей” в изоляции от сложной жизни слов в произведениях, созданных реальными поэтами. Различительным признаком мог бы служить больший или меньший зазор между “литературной” и “реальной” личностью, но тогда становится не совсем понятным противопоставление Хлебникова Маяковскому, а этот последний и Блок не кажутся такими уж единообразными.
“Образ Хлебникова”, или, если такова мысль Р.В. Дуганова, “литературную личность” поэта, иначе, как по его произведениям, представить себе нельзя. Поражает именно ничтожное расстояние, которое отделяет в этом случае образ поэта как эстетический факт от В.В. Хлебникова как человека, создавшего этот и многие другие “артефакты”. Дело, по-видимому, в том и заключается, что “образ Хлебникова” значительно более сложен, чем привычные нам представления о поэтах, в лингвопоэтическом, художественном, мировоззренческом и, это хочется подчеркнуть, нравственном отношениях. Трудность, с какой “предстает перед нашим воображением” литературная (и реальная) личность Хлебникова, специфична; прежде всего это связано с особенностями объективной “грамматики” его идиостиля на всем множестве произведений поэта. «Памятник» в этом множестве если и исключение, то не такое уж редкое: поэтику предельной сложности поэт своеобразно переплетает, “чередует” — и это достаточно известно — с поэтикой непосредственно воспринимаемой простоты и всеобщей доступности.
Следует также иметь в виду, что “литературная личность”, которая по слову Ю.Н. Тынянова, „выпадает из стихов” (см. там же) — это нередко псевдолитературная личность. С этой точки зрения, мы фактически еще почти не знаем “литературной личности” Хлебникова, его настоящего образа. Те клички, под которыми он нередко проходит в писаниях о нем как будто серьезных людей: “заумник”, “формалист”, “сумасшедший” (ср., кстати, образ “идиота” Мышкина и образ его автора, еще недавно — “реакционера”, чуть ли не “эпилептика”), “поэт для поэтов”, “поэт для эстетов” и т.п., — это как раз “выпавшие” из реального творчества мифы на потребу “масскульта”.
Мы уже цитировали выше стихотворение «О, черви земляные...». Его подробный анализ увел бы нас в сторону,6![]()
![]()
Ведь следствием из допущения Р.В. Дуганова — независимо от желания исследователя — в самом деле была бы допустимость совершенно отталкивающего в эмоциональном плане образа автора. В нашей конкретной ситуации “образ Хлебникова” предстал бы еще более искаженным, поскольку под его мнимую монструозность подводится подобие солидной теории.8![]()
Между тем этот образ требует особо бережного отношения, заботы и внимания не меньших, чем, скажем, образы Мышкина, Дон-Кихота или Чарли, Чехова, Ильфа или Зощенко, Холдена Колфилда, Лайонела Тенненбаума или Симора Гласса. Не сознательное “отчуждение”, а беззащитность перед искажениями облика Человека в мире и своего собственного образа другими истолкователями объединяет эти образы, сходные своей глубинной гуманистичностью, как бы по-разному они ее ни исповедовали. Образ Хлебникова стоит в этом ряду образов героев и писателей. Подлинный герой поэта не Язык (см. выше), а Человек как достойный представитель Человечества, уже близкого к тому разуму мировому, который должен, по Хлебникову, царить во Вселенной и который поэт посильно раскрывает людям. Очевидный утопизм ряда устремлений Хлебникова — это лишь изнанка творческого и нравственного максимализма, исповедуемого им со страстью и последовательностью пророка, которого не хотят выслушать. Минуты отчаяния вызваны людской глухотой — естественно, что, подобно чеховскому извозчику, будешь готов обучать чистым законам времени не людей, а порабощенное племя коней (ДС, 4; НП, 385).
Если бы можно было искусственно и наглухо изолировать социально-экономические и политические законы развития человеческого общества и его науку от его эстетической и этической эволюции, то под таким углом зрения не только «Доски судьбы», но и «Ладомир», и «Памятник», да и многое другое в русской поэзии, выглядели бы как никчемный поэтический произвол, фантастическая забава, детская игра. Но поэт-фантаст, “предсказавший” революцию и Гражданскую войну (см. Лейтес 1973), безоговорочно осудивший вымирающего белого с его нечистыми мастями (I, 177), работавший в РОСТА и написавший столько песен, / Что их хватит на мост до серебряного месяца (II, 246), заслуживает не вульгарно-социологического, а системного анализа, стремления проникнуть в законы, по слову Пушкина, „им самим над собою признанные”. Да и пресловутый хлебниковский “инфантилизм” — явление гораздо более сложное, чем то, которое обычно имеют в виду, применяя к поэту этот расхожий термин. В свое время сложность и глубину “детского слова” Хлебникова, его „почти инфантильного” „нового зрения” настойчиво подчеркивал Ю.Н. Тынянов (1965:289, 291–292, 295, 298–299). Заметим, что отсюда тянутся непрямые, конечно, связи с образами мудрых детей у Сэлинджера, а известная оценка Маяковским Хлебникова как „честнейшего рыцаря” поэзии — это прежде всего этическая оценка.
Таким образом, «Памятник» оказывается не только в контексте споров вокруг самого хлебниковского творчества, но и в контексте ряда других произведений поэта и даже в самом широком контексте мировой литературы. Во всяком случае образ автора в «Памятнике» — это лицо, наследующее черты многих образов пророка в истории русской поэзии. Хотя прямых реминисценций здесь нет, а интонация «Памятника» совершенно индивидуальна, тем не менее фигура авторского Я, поэта-пророка, вызывает из памяти соответствующие классические образы и строки из других произведений самого Хлебникова. Вот один из возможных примеров (III, 95):
Поэтически преображая картину лермонтовской дуэли, он дважды подчеркивает пророческое в облике певца железа (пророческие очи — с звуковым повтором — и пророческая душа: III, 181–182). Ср. также образ Будущего в «Ладомире», когда Земли повторные пророки / Из всех письмен изгонят ять (I, 185): здесь реформа графики и орфографии выступает как вселенский символ, косвенно связанный с внутренним монологом Ленина в поэме «Ночь в окопе» — I, 175–177). Не стремясь исчерпать напрашивающиеся разнообразные и характерные примеры, сошлемся еще только на то, что в поэме «Труба Гуль-муллы» поэт смотрит на себя со стороны как на чадо горных пророков, а в другом месте отделяет себя от них в любопытном соположении: Собакам, провидцам, пророкам / И мне / Морем предложен обед / Рыбы уснувшей / На скатерти берега (I, 233 и 239–240).
В свете этих и многих других фактов хлебниковский «Памятник» — это не столько пророчество в сакральном смысле слова, сколько провидение будущего, в частности наших дней, опирающееся на убеждение в важности того, что сделано поэтом для всех нас, а не только для нескольких друзей. Поэтому-то образ автора здесь ближе всего не к «Пророку» Пушкина, а к «Я памятник себе...» Именно пушкинский «Памятник» оказывается самым непосредственным фоновым текстом для восприятия «Памятника» Хлебникова. В этой связи приобретают дополнительный смысл, в частности, и размышления о памятнике Пушкину в прозе Хлебникова (V, 135), а также татлинский портрет поэта, о котором мы уже упоминали.
4. Свободный стих, которым написан хлебниковский «Памятник», резко отличает его от классического метра пушкинского, но сближает со стихом многих других произведений Хлебникова, особенно тех, что написа- ны в послереволюционные годы. Оставляя до специального стиховедческого анализа хлебниковский верлибр во всех его подробностях,9![]()
5. «Памятник» начинается на первый взгляд несколько необычным бессоюзным сложным предложением, строго организованным силлабо-тонической метрикой и единственной в стихотворении рифмой (раз — вас). Однако уже на слове звезда “анапест” обрывается,13![]()
Поэт [начал с “анапеста”; похоже, что так], но уже строка 1 синтаксически и интонационно необычна. Запятая в ее конце требует “качаловской паузы”, гораздо более значительной, чем запятая в ее середине: необходимо резко отделить совершенно самостоятельное первое предложение, вводное (и как бы заглавное) по отношению ко всему остальному тексту, но прежде всего ко второму предложению (строчки 2 и 3) — предельно лапидарной формуле, сосредоточившей в себе основной смысл «Памятника». Эта концевая запятая равносильна, так сказать, “шепотному” восклицательному знаку и двоеточию, вместе взятым. Подразумевается: ‘еще раз говорю вам нижеследующее’. Теперь строчка 1 — с единственным в стихотворении и потому тоже существенным контрастным внутристрочным повтором — естественно воспринимается и в смысле ‘в последний раз говорю’.
На небольшом пространстве стихотворения множество различных лексических повторов. Основная оппозиция я/вы лишь внешне обнаруживает перевес местоимений второго лица: союзниками и единомышленниками автора выступают и трижды повторенные камни, не просто олицетворяемые, но как бы и отражающие закаменелость, бездушие оппонентов, и тот моряк, упоминаемый и как он, об опыте которого напоминает поэт. Повторяются звезда, разбиться, взявший и надсмехаться, но в разных формах; повторяются горе и соответствующая конструкция; повторяется неверный угол. Не повторяются всего лишь 11 словоупотреблений из общего количества 48, представленных в «Памятнике». Если же не считать строевых и полустроевых слов для, своей, ко, будут, как и сделать резонную скидку на связку моряк — он, то окажется, что только три (!) словесных блока (4 слова) выделены отсутствием лексических повторов.
Мало того. Из этих слов подводные мели семантически соотнесены и соположены с камнями, а формы (своей) ладьи и сéрдца занимают эквивалентные места в однотипных синтаксических конструкциях. Таким образом, не считая нескольких “монтажных” элементов, все слова стихотворения охвачены разными видами смысловых повторов.
Обратим внимание на единственную, кажется, стилистическую оппозицию: высокому слову ладья (бросающему свой стилистический ореол и на связанное с ним сердце) противостоят сниженные формы надсмехаться и надсмехались. В тексте «Памятника» эти последние варианты, просторечный характер которых дружно отмечается современными словарями,14![]()
Мы уже говорили о том, что в поэтике Хлебникова элементы просторечия нередко обогащают и его авторскую речь в одном ряду с диалектизмами, архаизмами и отдельными фактами жаргонов, а словотворчество поэта и его семантические окказионализмы еще более подчиняют стилистические характеристики слов литературного языка внутренним задачам художественного идиостиля (см. выше с. 130). Сошлемся здесь на близкий по времени к «Памятнику» опыт «Зангези».
Когда подвергающийся надсмешкам Зангези, двойник поэта, в прозаическом монологе говорит: Поскоблите язык — и вы увидите пространство и его шкуру (III, 333), то в общем несущественно, какое из значений слова шкура лежит в основе этой метафоры — ‘кожа животного’ или просторечное ‘кожа человека’. Ведь речь Зангези, в полном согласии с идиостилем самого Хлебникова в его необъективированных образами персонажей текстах, свободно допускает и такие слова, как бус ‘большой корабль’ (в метафоре)15![]()
![]()
Слово ладья, с другой стороны, соотнесено не только со словом сердце, но и со словом звезда — основным образом стихотворения, и это также смягчает оппозицию ладья/надсмехаться. Все, что содержится в тексте после первой точки, — это лишь разъяснение вынесенной в начало главной мысли автора. Поэт разъясняет еще раз, но на этот раз — самыми простыми и доходчивыми средствами, на грани “суровой прозы”, однако нигде не переступая эту грань, которая тем внушительнее интонационно подчеркнута. Оставлены в стороне не только словотворчество (хотя оно несомненно присутствует как фон), изощренная тропика, но и, что, пожалуй, самое неожиданное, собственно звуковая, вне лексических и грамматических повторов, сколько-нибудь заметная звуковая организация текста. Пожалуй, в любом другом хлебниковском произведении формы ко мне и камни, попадающие на концы соседних стихов, служили бы сигналом паронимического сближения или по крайней мере использовались бы как оригинальные рифмы (диссонансные и разноударные). Здесь паронимическая инерция тоже оказывается лишь фоном, звуковая перекличка не то что пробуксовывает или не срабатывает (камни, как сказано, не нейтральны в их отношениях ко мне и вам), но, как обычно у Пушкина, остается в некотором предпаронимическом напряжении, непосредственный и самостоятельный семантический эффект из нее не извлекается. Этот “нулевой прием” сильнейшим образом подчеркивает установку автора на содержание, выражаемое предельно простой поэтикой, на прямой, ничем не затрудняемый контакт с читателем.
Поэт как бы говорит своим «Памятником»: о том, что могу выразить просто, я пишу просто. Займитесь же и тем, что невозможно выразить проще, чем это получилось у меня в остальном моем творчестве. И в подтексте присутствуют многие стихи с аналогичными воззваниями, например, увещевающее обращение в «Единой книге»: Да ты небрежно читаешь, / Больше внимания, / Слишком рассеян и смотришь лентяем, / Точно уроки закона божия (III, 69. Исправляем пунктуацию; ср. Лейтес 1973:231).
В отличие от пушкинского «Памятника» главная мысль автора не разъясняется путем последовательного обобщения различных идей и дел поэта, особенно дорогих ему. Весь смысл собственной деятельности Хлебников сосредоточил в одном-единственном слове-образе звезда.17![]()
Если в начале пути, еще нащупывая задачи предстоящего творческого самоотвержения, Хлебников признавался в буйном желании (II, 15):
то, подводя итоги, он спокойно и символически отождествляет себя со звездой, равноправной с той, по которой ориентируется моряк. Оппозиция мы/звезды, тем самым снимается вместе с оппозицией “тыканья/выканья” в самоудовлетворенном и гордом, характерном для “памятников” поэтическом “яканье”: Я — звезда. Естественно, что звезды между собой “на ты”. Ср. в «Ну, тащися, Сивка...» (III, 299) о Маяковском:
В бытовом плане Хлебников предстает и в «Памятнике» как одинокий лицедей, но поэтическая звезда его не одинока. Растет и неформальная “группа друзей Хлебникова”. Мотивы “отчаяния” были связаны не с личной судьбой, а с тревогой за судьбу общего дела и людей печально непохожих, которых так часто в прошлом бездумно отражало властное ничто, как писал он в 1916 г. (III, 25).

персональная страница Виктора Петровича Григорьева | ||
| карта сайта | 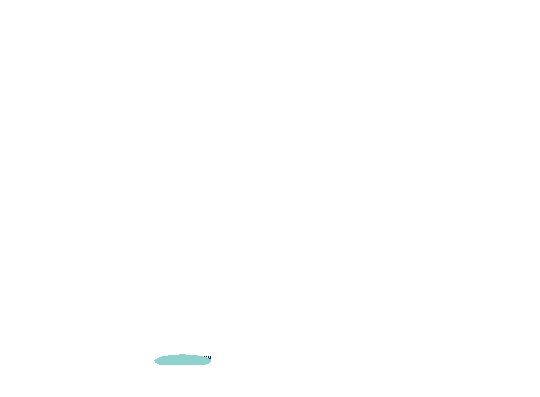 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||