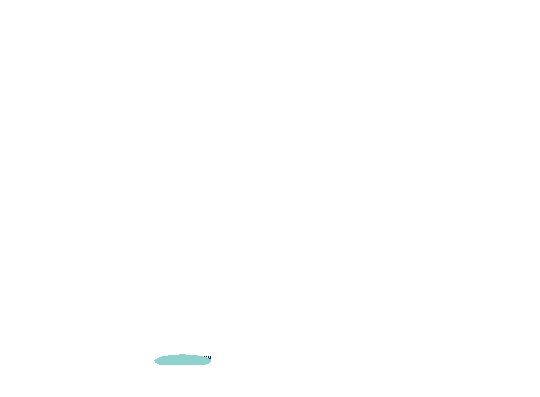Григорьев В.П.
Грамматика идиостиля. В. Хлебников
Предисловие
„Потрудитесь освоить язык поэта!” — эта первая заповедь, кажется, давно и надежно вошла в моральный кодекс исследователей поэтического творчества и критиков, обсуждающих значение художника слова для наших дней. Однако ее-то чаще всего и нарушают не только в сутолоке журнально-газетных оценок, но и в нарочито контрастных сопоставлениях и даже столкновениях различных “возможных миров” поэзии на страницах иных филологических книг.
Иначе и быть не может: чтобы “освоить язык поэта”, надо, в частности, овладеть “грамматикой” этого “языка”. Но едва ли где-нибудь, кроме самих стихов, можно найти такую “грамматику”. Выявлена ли, описана ли она филологами с достаточной детализацией хотя бы по произведениям одного только поэта? Известны ли “сопоставительные грамматики” такого рода? Установлены или по крайней мере обсуждались ли принципы составления описательных грамматик для поэтических идиолектов? Нет необходимости множить подобные полуриторические вопросы, чтобы подсказывать читателю один за другим отрицательные ответы на них и обосновывать достаточно очевидную мысль о значительности задачи, которую ставит эта небольшая по объему книга, — представить в сжатой форме круг проблематики “грамматики идиостиля”.
Видимо, нет необходимости подробно говорить о том, что работы, связанные по замыслу с традицией, которую в начале века открыл (или откровенно обозначил) «Опыт грамматики языка А.С. Пушкина» Е.Ф. Будде (см. об этом Виноградов 1959:8–9), имеют своим объектом не сам идиостиль, а преимущественно историческую грамматику и лексикологию языка по материалам соответствующего идиолекта (Виноградов 1958:4 и 7). Компоненты же идиостиля „не адекватны элементам языковой системы” (там же, с. 9), т.е. нормированного литературного языка. „Для стиля писателя особенно характерен индивидуальный синтез форм словесного выражения и плана содержания” (там же, с. 10).
„Идиолект это система речевых средств индивидуума, формирующаяся на основе усвоения языка и развивающаяся в процессе жизнедеятельности данного индивидуума” (Щукин 1978:9). Автор процитированного определения не аргументирует в явной форме предпочтение, отдаваемое термину идиолект, кроме всего прочего, и тем фактом, что с ним соотносится (квази)термин идиостиль. Но несомненно, это соотношение существенно для укрепления в метаязыке филологии обоих названных терминов.
Лингвистическую реальность идиолекта сейчас уже едва ли кто-нибудь станет подвергать сомнению (см. там же, с. 11–13). Что касается реальности идиостиля, то его “литературоведческая реальность”, ощущаемая читателями специфичность индивидуальных стилей, насколько известно, вообще не ставилась под сомнение. Лингвистическая же реальность идиостиля устанавливается “по определению”: всякий идиостиль как факт современной литературы является в то же время и идиолектом. Лингвистические и лингвопоэтические аспекты проблемы идиостиля будут нас здесь занимать прежде всего.
Словосочетание грамматика идиостиля, вынесенное в заглавие книги, нуждается в некоторых разъяснениях.
Уже давно у слова грамматика, кроме основных для него терминологических значений (грамматика как грамматический строй языка и как его описание), приобрело популярность и устойчивость своего рода “образное” употребление, которое можно проиллюстрировать хотя бы ссылками на рассказ «Грамматика любви» И.А. Бунина и на недавно переведенную у нас книгу Д. Родари «Грамматика фантазии» (М.: Прогресс, 1978).1
Филология располагает здесь своей и особо значимой для нашей темы традицией. Так, уже Г.Г. Шпет рассматривал поэтику как „грамматику поэтического языка и поэтической мысли” (1923, 2:67, 3:40). В опоязовской линии исследований характерно настойчивое предпочтение Б.М. Эйхенбаумом названия “морфологический метод” двусмысленному “формальному” (1969 6:75; ср. также Реформатский 1922). Та же тенденция прослеживается и в установке пионерской работы В.Я. Проппа 1928 г. (см. Пропп 1969: Предисловие).2 Известность приобрело высказывание Л.В. Щербы, анализировавшего в работе 1942 г. «Литературный язык и пути его развития» первые строки стихотворения Брюсова «Родной язык» и следующим образом определившего “мировую поэтическую традицию” (1957:132) „‹...› Это своего рода „грамматика поэзии” (я мужественно решаюсь на святотатственное соединение этих двух терминов, так как твердо убежден, что когда наши поэты и литературоведы поймут, что такое настоящая грамматика, то вполне согласятся со мной)”.
Известность приобрело высказывание Л.В. Щербы, анализировавшего в работе 1942 г. «Литературный язык и пути его развития» первые строки стихотворения Брюсова «Родной язык» и следующим образом определившего “мировую поэтическую традицию” (1957:132) „‹...› Это своего рода „грамматика поэзии” (я мужественно решаюсь на святотатственное соединение этих двух терминов, так как твердо убежден, что когда наши поэты и литературоведы поймут, что такое настоящая грамматика, то вполне согласятся со мной)”.
В словах Щербы позволительно, кажется, усмотреть призыв не столько к изучению грамматической структуры поэтического объекта (см. Виноградов 1971:47–48), а прежде всего к объективности и “строгости” описания художественной речи. Ясно, что, например, Грамматика 1970 только один из возможных способов представления грамматического строя русского языка; и все же требования к “грамматической строгости” описаний по крайней мере на порядок выше тех “вольностей”, которые типичны для многих эссеистских, а то и просто произвольно-бездоказательных высказываний относительно различных “поэтических традиций” и идиостилей, т.е. индивидуальных стилей.
В то же время позиция, предполагаемая точкой зрения Щербы, удобна тем, что позволяет не затрагивать специально те проблемы идиостиля, которые непосредственно не связаны с требованиями описания поэтического идиолекта. Почему же в таком случае словосочетанию поэтический идиолект здесь предпочтен однословный термин идиостиль? Потому, что установка в описании поэтического идиолекта, по убеждению автора, должна быть установкой именно на идиостиль, на его специфические проблемы.
Предлагаемое читателю описание — это все же пока, скорее всего, своего рода “введение” в грамматику идиостиля, а не сама грамматика как таковая, претендующая на определенную полноту. Но это и не “очерки”, т.е. ряд хоть и связанных друг с другом темой, но относительно произвольно выбранных фрагментов описания. Автор стремился к последовательности изложения, ограничиваемого не только объемом и пределами компетенции, но также и замыслом посвятить следующую книгу специально проблемам словотворчества у “Лобачевского слова”.
Здесь же основное внимание будет сосредоточено на проблематике более общего плана. Это — методология подходов к различным “безумным”, в частности экспериментальным, идеям поэта, существенным, как и непосредственный жизненный опыт носителя уникального идиостиля, как и его, поэта, нравственные и общеэстетические позиции и творческий опыт, для поисков решений в обсуждениях многих из глобальных проблем современности.3 Это — обсуждение некоторых вопросов историографии и оценка ряда результатов, полученных “острым и наблюдательным” художником слова.4
Это — обсуждение некоторых вопросов историографии и оценка ряда результатов, полученных “острым и наблюдательным” художником слова.4 Это, наконец, — введение в научный оборот материалов (в том числе архивных), не привлекавших внимания лингвистов (и филологов вообще), но важных, по убеждению автора, для системного и непредвзятого построения грамматики идиостиля.
Это, наконец, — введение в научный оборот материалов (в том числе архивных), не привлекавших внимания лингвистов (и филологов вообще), но важных, по убеждению автора, для системного и непредвзятого построения грамматики идиостиля.
Последнее обстоятельство следует подчеркнуть. Парадоксально, поразительно и все же, видимо, это так: автор оказывается первым и пока единственным из советских лингвистов, кто систематически познакомился со значительной частью рукописного наследия поэта, имя которого в недавнем приветствии Правления Союза писателей СССР названо прекрасным.5 Тем не менее имя это пока еще не очищено от далеко не безобидных легенд и двусмысленных “защит”, например, такого, “мовистского” толка: „Несомненно [!], он [т.е. „будетлянин”] был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие” (Катаев 1978:112). Вы переворачиваете страницу этого “венца” и, познакомившись с переработанной и контаминированной, но не улучшенной версией воспоминаний Д. Петровского (о которых здесь будет сказано в своем месте), не верите своим глазам: „Впрочем, за достоверность не ручаюсь” (там же, с. 114). Возникает вопрос: кто сумасшедший? Или, словами “будетлянина”: Где сумасшедший дом? В стенах или за стенами? (Хл III, 49). Таким образом несомненно в подобных оригинальных идиостилях приобретает дополнительное значение ‘недостоверно’, чтобы не сказать резче, поскольку “двойной счет” в семантике ключевых слов превращает идиолект в опасный бумеранг. По сравнению с ним самые сложные эксперименты “будетлянина” кажутся чем-то вроде кроссвордов «Вечерней Москвы», мовистский же бумеранг, легко выходящий из повиновения, ставит немало легендарных шишек заинтересованным читателям, возможно, и без особого желания автора.
Тем не менее имя это пока еще не очищено от далеко не безобидных легенд и двусмысленных “защит”, например, такого, “мовистского” толка: „Несомненно [!], он [т.е. „будетлянин”] был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие” (Катаев 1978:112). Вы переворачиваете страницу этого “венца” и, познакомившись с переработанной и контаминированной, но не улучшенной версией воспоминаний Д. Петровского (о которых здесь будет сказано в своем месте), не верите своим глазам: „Впрочем, за достоверность не ручаюсь” (там же, с. 114). Возникает вопрос: кто сумасшедший? Или, словами “будетлянина”: Где сумасшедший дом? В стенах или за стенами? (Хл III, 49). Таким образом несомненно в подобных оригинальных идиостилях приобретает дополнительное значение ‘недостоверно’, чтобы не сказать резче, поскольку “двойной счет” в семантике ключевых слов превращает идиолект в опасный бумеранг. По сравнению с ним самые сложные эксперименты “будетлянина” кажутся чем-то вроде кроссвордов «Вечерней Москвы», мовистский же бумеранг, легко выходящий из повиновения, ставит немало легендарных шишек заинтересованным читателям, возможно, и без особого желания автора.
Заметим в заключение, что указанная выше проблематика актуальна и в свете задач, стоящих сейчас перед логикой, методологией и философией науки. Так, в докладе советских философов А.Т. Григоряна и В.С. Кирсанова «Математика и эволюция классической механики», предложенном недавно представительному международному форуму, проводилась мысль о том, что с течением времени „математика стала чем-то вроде генеративной грамматики, имеющей решающее значение в процессе порождения новых концепций и идей”. Ведь еще в прошлом веке имела место тенденция превратить историю в ряду других общественных наук в строгую и даже точную научную дисциплину. „Вопрос, возможно ли это, и если да, то в какой мере и в каком смысле, в наши дни становится особенно актуальным”, — считают советские философы.6
Если же от глобальных и общенаучных проблем, занимающих ученых, обратиться к влиятельному уровню современной журналистики, чутко, хотя и не всегда строго улавливающей актуальные темы прикладного характера, то вот, в завершение и как бы в защиту одного “странного” тезиса Хлебникова: По-видимому, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его (Хл V, 231) — еще одна цитата:
„Лат. слово permanens ‘постоянный, неизменный’ и в то же время ‘непрерывно длящийся, непрерывно протекающий’ могло послужить, по догадке физика, своего рода “подсказкой” при выработке общей теории относительности, а некоторые инженеры прямо декларируют “лингвистический” метод изобретательства”.7
————————
Примечания 1
1 См. рецензию Т.А. Ладыженской и Т.И. Тамбовкиной в журнале «Рус. язык в школе» (1980, № 1) Ср. такие словосочетания, как
арифметика любви, вынесенное в название книги повестей и рассказов В. Шугаева (
М.: Сов. Россия, 1979) и рассчитанное на восприятие “в бунинском ключе”, и
анатомия лжи в современной публицистике.
 2
2 Даже налитпостовцы спокойно относились к названиям типа «Морфология литературных стилей» (см.: На лит. посту, 1926, № 1, с. 55). Такое употребление терминов не игра в “универсализм”, способная якобы подорвать основы науки (см.: Вопр. лит., 1981, № 8, с. 198); оно вполне традиционно и явно необходимо обществу (см.: Психология процессов художеств, творчества.
Л.: Наука, 1980, с. 220–273).
 3
3 См.:
Фролов И.Т. Философия глобальных проблем. — Вопр. филос., 1980, № 2.
 4 Машинский С.
4 Машинский С. Певучий мир. [Рец. на кн.: Петников Г. Утренний свет]. — Лит. газета, 17 июля 1968 г., с. 6.
 5
5 См.:
Бобков С. Астраханцы Хлебникову. — Вопр. лит., 1976, № 9, с. 315.
 6
6 См.:
Кедров Б.М., Маркова Л.А., Полторацкий А.Ф. Общая характеристика и основные итоги [VI Международного] конгресса [по логике, методологии и философии науки]. — Вопр. филос., 1980, № 3, с. 10 и 7.
 7 Пухначев Ю.
7 Пухначев Ю. Копилка метафор. — Знание – сила, 1979, № 8, с. 48.
Воспроизведено по:
Григорьев В.П. Будетлянин.
М.: Языки русской культуры. 2000. С. 57–60
Изображение заимствовано:
Cai Guo-Qiang (b. 1957 in Quanzhou City, Fujian Province, China. Lives and works in in New York since 1995).
Rent Collection Courtyard. 2010.
Wooden fixture, wire matrix, clay, glass eyes, cord.
Piece of exposition of an Personal Exhibition «Hanging Out in the Museum»
in Taipei Fine Arts Museum, Taiwan (21.11.2009–21.02.2010).
See more about «The Rent Collection Courtyard» by Cai Guo-Qiang:
Playing off the temporal and spatial displacement between the original and the reproduction, Cai’s piece draws attention to the ultimate insignificance of human constructions, however grand their intent. It can be read on many levels, pointing to the futility of individual effort (the installation is intended to disintegrate before being completed) as well as to the ultimate failure of China’s movement to create an ideal Socialist state (the installation marks the end of the Socialist Realist sculpture tradition in China). In addition, there is a sardonic twist, as a monument of Socialist Realist sculpture is coopted for the entertainment of a bourgeois and largely Western audience, with (obviously) great success!
During China’s Great Proletarian Cultural Revolution, the «Rent Collection Courtyard» was acclaimed a model sculpture in the service of the revolution. The first version of this sculpture, completed in 1965, consisted of a series of life-sized clay figures arranged in the mansion of a former landlord. The figure of the landlord dispassionately surveyed an array of starving peasants struggling to pay the portion of grain demanded as rent, including mothers carrying babies dressed in rags, and other pathetic figures indicative of the horrors of life under the former feudal society. An anonymous collective created the sculpture, which was then reproduced for display in major cities throughout China, with additional sets sent as gifts to Albania, North Korea, and North Vietnam. Aside from the ubiquitous statues of Chairman Mao that appeared throughout China at this time, no other sculpture approached the prominence of the «Rent Collection Courtyard».
Cai Guo Qiang commenced work on his reproduction of the «Rent Collection Courtyard» in early 1999. Enlisting the help of a crew of nine Chinese sculptors, one of whom — Lone Xu Xi — had worked on the original «Rent Collection Courtyard» as a youth, Cai filled a barn-like room in Venice’s Arsenale with the activity of recreating the original installation. For Cai Guo Qiang, the emphasis was on the process of replication, rather than the finished product: the team of sculptors created frameworks of wire and wood for most of the figures, but completed only about half, filling out the forms with the addition of clay and glass eyes. For props, they used whatever disused machinery was readily available, mimicking the practice of the earlier team of sculptors.
Cai Guo Qiang’s version of the sculpture will not outlast the summer. The clay will dry out, crack, and fall off the wire matrix. In producing what is almost certain to be one of the final sculptures in the Socialist Realist manner, Cai Guo Qiang has coopted that style in order to create a metaphor for the failed promise of socialism in China. Superficially it appeared to work, but in the end, it crumbled. Although this is a powerful message, Cai’s sculpture does not have a didactic purpose. It is an open-ended work, and there is no expectation that all members of its audience will derive the same meaning for it. Some viewers will grasp thevarious levels of impermanence represented there. Others will pick up on the irony of a work created by an anonymous collective being recast for the glory of an individual artist. And some will recognize in themselves a reflection of the very bourgeois capitalists denounced in the original sculpture.
www.chinese-art.com/Contemporary/volume2issue4/Other/other2.htm
by Britta Erickson
Продолжение 


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()